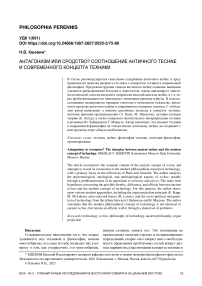Антагонизм или сродство? Соотношение античного techne и современного концепта техники
Автор: Кшевин Н.В.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 3 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье реконструируется смысловое содержание античного techne и предпринимается попытка раскрыть его связь с концептом техники в современной философии. При реконструкции смысла античного techne основное внимание уделяется размышлениям Платона и Аристотеля. Автор анализирует эпистемологический, онтологический и антропологический аспекты techne, в т.ч. через проблематизацию его оппозиции с понятиями episteme и physis. В ходе исследования подвергаются проверке гипотезы о возможном тождестве, различии и сродстве античного techne и современного концепта техники. С этой целью автор привлекает к анализу различные подходы к концепту техники, включая принцип органопроекции (Э. Капп, М. Маклюэн), акторно-сетевую теорию (Б. Латур), а также социально-политическую интерпретацию техники в полемике Ю. Хабермаса и Г. Маркузе. Автор заключает, что концепт техники в современной философии не тождественен античному techne, но сохраняет с ним сродство через общую проблематику.
Техника, философия техники, античная философия, органопроекция, techne
Короткий адрес: https://sciup.org/170210991
IDR: 170210991 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-3/75-80
Текст научной статьи Антагонизм или сродство? Соотношение античного techne и современного концепта техники
Содержательное наполнение того, что подразумевается под техникой в философии, весьма многообразно, что само по себе подводит нас к вопросу о том, как упорядочить это многообразие, иными словами, понять его. Это понимание не предполагает наличия строгих и исчерпывающих определений, скорее оно говорит нам о необходимости прояснения проблемных полей вокруг разных вариантов существования концепта техники в философии. Следовательно, при работе с ним следует удерживать в голове вопрос о том, что вообще подразумевается каждый раз, когда философия говорит о технике? Если мы усматриваем преемственность с греческим techne, то технику можно отождествить с искусством в наиболее широком смысле этого слова. В то же время о концепте техники можно говорить как о способе описания специфических объектов, которые обладают измерениями эффективности работы, долговечности и полезности, что ставит под вопрос целесообразность обращения к греческому techne для их описания. В таком случае возникает целый ряд вопросов, требующих дополнительного прояснения. Во-первых, если мы имеем дело с некоторой линией преемственности, то какие именно тематические элементы античного techne наследует современный концепт техники и обязательно ли это наследование? Во-вторых, если это наследование не обязательное, или же его вовсе нет, то что именно мешает нам поставить знак равенства между античным techne и тем, как современные философы работают с концептом техники? Иначе говоря, мы намереваемся обратиться к вопросу о том, как соотносится античное techne и современный концепт техники, и попытаться выявить, с чем же мы в итоге имеем дело – с тождеством, разрывом или сродством?
Реконструкция античного techne
Французский медиолог Режи Дебре отмечает, что существует внутренний антагонизм между философией и техникой, который уходит своими корнями в античность [1, c. 65–66, 69–70]. По мнению Дебре, философия, будучи тем, что происходит из оппозиции techne и episteme, оказывается тяготеющей к вечному и необходимому, противопоставляя себя практическому и опытному [4, c. 281].
На первый взгляд, с утверждением Дебре легко согласиться, т.к. в западной философской традиции противопоставление вечного и преходящего выступает в качестве одного из главных философских сюжетов. Тем не менее, мы считаем, что тезис Дебре о принципиальном антагонизме философии и техники и его корнях в античной традиции требует более глубокого анализа. Представление о напряжении между философией и техникой у Дебре может оказаться продуктивным, т.к. оно отсылает нас к античной традиции и может сообщить что-то существенное об античном понимании techne и его связи с современным пониманием техники в философии.
Элементы этого напряжения могут быть обнаружены в критике софистов и противопоставлении их методов тому, как производит свою работу философ у Платона. Так, в диалоге «Софист» мы можем наблюдать ряд операций, позволяющих дать определение тому, кого называют софистом. Эти операции начинаются с достаточно тривиального упражнения – попытки дать определение тому, кто является рыболовом-удильщиком. Тем, что позволяет вычленить родовую сущность человека, который ловит рыбу, оказывается его «искусство» рыболовства: владение ответом на вопрос о том, как ловить рыбу, в его практическом применении1. Определение родовой сущности софиста, трудное на первый взгляд, оказывается теперь задачей куда проще. Это человек, чье искусство – спорить на любую тему.
Для Дебре же основным предметом философского спора в традиционном греческом смысле оказывается скорее должное, которое может быть названо неизменным. Неизменное становится предметом истины, оно вечно. Называть это искусством было бы неверным, т.к. люди обучаются искусству через взаимодействие с вещами. Рыболов ловит рыбу с помощью удочки, софист производит утверждения о вещах с помощью мудрости. Для Платона рыболов и софист являются родами одного порядка, они создают что-то изменчивое в мире, в котором все продолжает меняться [11, c. 85]. Если строго следовать за Дебре, то все искусство (techne) оказывается именно об этом – об изменчивом, которое произведено лишь по подобию вечного, и по своей сущности несовершенно. Мы зафиксируем, что для Режи Дебре различие между философией и techne выглядит как разница между двумя вопросами – «Что есть это?» и «Как есть это?». Первый вопрос отсылает нас к родовой сущности, к миру неизменного, второй – к частностям, посредством которых что-то оформлено в мире тем или иным образом. И софист, и рыбак могут быть более или менее искусны в том, что они делают. Философ не может быть хорош или плох в том, что он делает, он или является философом, или не является им. Родовая сущность философа обладает иным качеством, она не располагается в одном ряду с рыбаком, плотником и софистом [11, c. 130]. Однако именно это отличие родовой сущности философа позволяет ему задаваться вопросом о том, кто такой софист и кто такой рыбак как таковые.
Несмотря на то, что мы согласились с интуицией Дебре относительно интеллектуального напряжения между техникой и философией, которое проистекает из греческой традиции понимания techne, и даже привели в пользу этой позиции ряд аргументов, мы считаем, что это напряжение требует дальнейшего уточнения. Поскольку Дебре указывает нам на античные корни обнаруженного им антагонизма, мы считаем разумным еще раз обратиться к этой теме, но уже на ином масштабе рассмотрения. Внесем еще один вопрос, который позволит уточнению состояться: что такого специфического делает философ, что отличает, с точки зрения греческой мысли, его способ действовать и мыслить от techne?
В контексте данного вопроса мы хотели бы вновь вернуться к анализу мысли Платона. Как указывает Е.Ю. Погорельская, искусство-techne – это способ. Способ сам по себе не определяет то, на что он будет направлен. В диалоге «Теэтет» искусство Сократа – помогать рождаться истине. Т.е. и у философа, и у софиста есть свое techne, разница – в характере его реализации. Кроме того, techne философа имеет важную особенность: оно тесно связано с любовью. В диалоге «Пир» наблюдаем формулу: любовь рождает благо [12]. Таким образом, при более глубоком анализе можно заключить, что в мысли Платона нет того антагонизма, который, по мнению Дебре, фундирует антагонизм техники и философии.
Однако было бы странно считать, что утверждение Дебре об антагонизме философии и техники в античной мысли совершенно лишено оснований. Обратимся к статье А.А. Санженакова, в которой затронута тема techne как у Платона, так и у Аристотеля [13]. Анализ мысли Платона на примере диалога «Ион» демонстрирует здесь связь между методом (заучивание текста поэзии) и истиной (постижение идеи, заложенной в поэзии). При этом первое, как средство, является маркером второго, но связь между ними не обязательна (знание текста некоторой поэзии автоматически не ведет нас к постижению замысла поэта, но совокупность первого и второго и составляют искусство рапсодов). Это наблюдение соотносится с выводами о мысли Платона применительно к techne, которые мы сделали ранее. Однако далее в статье следует анализ мысли Аристотеля, у которого уже явно прослеживается онтологическое различие episteme и techne как двух типов знания. Episteme – это знание о том, что не может быть иначе, а techne – о том, что может быть или не быть. Таким образом, мы наблюдаем деление на знание о вечном и неизменном и знание об изменяющемся, динамичном и нестабильном, что близко к содержанию упомянутого высказывания Дебре.
Какие еще онтологические различия определяют techne у Аристотеля? На наш взгляд, небольшая статья Вольфганга Шадевальда, посвященная разделению понятий «природа» и «техника», способна дополнить наш взгляд на этот вопрос [15]. Вернемся к упомянутому ранее противопоставлению techne и episteme. Как уже было сказано, это противопоставление выглядит как деление знания на два типа. Первый выводится из накопления опыта и его практического применения, что делает его почти тождественным по смыслу слову «искусность». Второй тип знания отличается по качеству, он направлен на неизменное и вечное, и именно этот тип применим к тому, что делает философ.
Благодаря тонкой работе с оппозициями вокруг techne у Аристотеля Шадевальду удается подчеркнуть набор различий, позволяющий нам лучше понять место techne в контексте понятийной сетки античной мысли Аристотеля. Таким образом в смысловую сетку techne подключается physis в качестве постоянного коррелята: «Фисис для Аристотеля, во-первых, означает в широком смысле становление, бытие или сущность (Wesen) всех вещей, которые существуют и как таковые содержат внутри себя источник движения, тогда как процессы становления и производства в технике не происходят в силу собственных внутренних факторов, но инициируются так или иначе человеком» [15, c. 92]. Коротко рассмотрим, как это включение оформлено у Шадевальда. Противопоставление physis–techne обосновывается через обращение к пониманию physis у Аристотеля, согласно которому в сферу physis могут быть включены все вещи, которые имеют причину в самих себе, или же причиной которых выступает «первый двигатель». В противовес этому вещи, причиной которых является человек (все, что само по себе не бывает без его участия), попадают в область techne. Подобное рассмотрение добавляет к греческому пониманию techne еще одно важное измерение: пара episteme–techne рассматривается нами как эпистемологическая, в то время как пара physis–techne, которая выводится из одного и того же деления на вечное и временное, поднимает онтологическую проблематику, т.к. затрагивает вопросы первопричин. В то же время становится очевидной прочная связь между человеком и techne, предопределяющая значимость антропологической проблематики: «В природе возникновение и развитие по направлению к этому результату, форме или конфигурации (эйдос) происходят сами по себе. В технике результат-форма принципиально представляется и конструируется в акте человеческого мышления» [15, c. 100].
Подведем итог тому, что мы можем сказать об античном понимании techne применительно к высказыванию Режи Дебре. Он делает слишком широкое обобщение, когда говорит об античных корнях антагонизма между философией и техникой. Такое высказывание оказывается применимо к Аристотелю, но его применимость к Платону сомнительна. Таким образом, утверждение о некоем антагонизме между техникой и философией в античной мысли является преувеличением. Для Аристотеля techne оказывается неразрывно связано с проблемой разделения на вечное и преходящее, выступая на стороне последнего. Эта проблема может быть рассмотрена с разных аспектов. Эпистемологический аспект демонстрирует нам противопоставление episteme–techne, в котором последнее представляет тип знания, обладающий практической применимостью и совершенствующийся со временем. Онтологический аспект демонстрирует нам противопоставление physis– techne, в котором последнее представляет все сущее, причина «движения» которого существует не сама по себе, но лишь при участии человека. Данный аспект предполагает возможность techne только при посредничестве человека, что делает необходимым включение в рассмотрение антропологической проблематики.
Таким образом, если суммировать характеристики понимания techne у Аристотеля и Платона, можно сказать, что общим местом античного толкования techne становится проблематизация взаимоотношения практики и знания. Ключевым можно считать вопрос о характере этого взаимоотношения: является ли практика альтернативным видом знания (знание-как) или же это совокупность методов, уловок и хитростей, которые не противопоставляются знанию как таковому, но являются инструментом его достижения?
Современное состояние концепта техники
Выше мы кратко охарактеризовали, какие различия и различия с чем оформляют античное понимание techne. Далее мы попытаемся ответить на вопрос, как эти различия работают в современном концепте техники. В случае полного соответствия мы сделаем вывод об их тождестве. Если никаких связей не будет обнаружено, то можно будет констатировать разрыв. Наконец, признаки развития и переосмысления некоторых (или даже всех) аспектов античного понимания techne будут свидетельствовать в пользу сродства.
Начнем с анализа антропологической проблематики. Уже у Э. Каппа, которого В.Г. Горохов и В.М. Розин упоминают в качестве одного из первых современных философов техники [2], мы можем обнаружить принцип органопроекции, согласно которому все, что мы так или иначе определяем как технику, функционально уподоблено органам человека [7]. В дальнейшем эта идея получит свое развитие у М. Маклюэна, который поставит знак равенства между техникой и медиа, т.к. техника, будучи продуктом органопроекции, окажется для него продлением органов чувств человека за пределы его физиологического тела: «А это всего лишь означает, что личностные и социальные последствия любого средства коммуникации – то есть любого нашего расширения вовне – вытекают из нового масштаба, привносимого каждым таким расширением, или новой технологией, в наши дела» [9, c. 9]. Так или иначе, современное понимание техники в философии неразрывно связано с принципом органопроекции, в рамках которого техника не может быть рассмотрена отдельно от человека, более того – выступает в качестве проекции человека в мире. Итак, сохранение внимания к антропологической проблематике при осмыслении техники сближает современную философию с античной традицией.
Однако возникает вопрос: если сегодня доминирует тенденция рассматривать концепт техники в связи с принципом органопроекции, существуют ли иные варианты сборки концепта, которые не прибегают к этому принципу? В качестве одного из таких вариантов в нашем случае может быть названа акторно-сетевая теория (АСТ), проект которой предполагает предоставление агент-ности не-человеческим акторам, в числе которых и технические объекты [6]. АСТ является олицетворением тенденции критического пересмотра субъект-объектной парадигмы в современной философии. В таком случае условная «сделанность» техники человеком не обладает каким-либо определяющим значением. Куда более значимым становится то, что актуально делает техника и каков социальный контекст такого действия. В подтверждение этого можно привести знаменитый кейс Б. Латура о дверном доводчике, поломка которого меняет действия других акторов, задействованных в операции по «прохождению в дверь» [8], или кейс А. Мол и М.Д. Лаэт о зимбабвийском втулочном насосе [3]. АСТ предлагает нам подход, который позволяет поставить человека и другие не-человеческие объекты, включая технику, на одну ступень теоретического рассмотрения. В отличие от подхода, который диктует нам принцип органопроекции, в случае с АСТ способ рассмотрения проблемы человек–техника не предполагает построения иерархии, в которой подчеркивалась бы первичность проекции человека по отношению к технике.
Ранее мы указали, что антропологическая проблематика techne у Аристотеля выводится из его онтологического аспекта, а именно из противопоставления techne, всего того, что есть по причине человека, и physis, всего того, что есть по причинам, от человека не зависящим. Однако это не означает, что не существует способов сборки концепта техники в другом формате, не предполагающем этого противопоставления. Наиболее ярким примером здесь может выступить другой немецкий философ техники, Ф. Дессауэр. Попытка представить человека как включенного в природу в контексте концепта техники приводит его к заключению, что сферы антропогенного (технического) и не-антропогенного соотносятся друг с другом без антагонизма, как микрокосм и макрокосм [5]. Другой пример можно найти у Л. Мамфорда, который утверждает, что антагонизм природы и техники имеет социальную природу и возможное общество будущего должно будет перейти к некоторому иному этапу, на котором этот антагонизм будет преодолен, а технологии станут жизнеориентированными [10].
Наконец, коснемся эпистемологического аспекта techne. Вопрос о практической применимости techne как типа знания становится ключевым в споре Г. Маркузе и Ю. Хабермаса, нашедшем отражение в статье последнего [14]. Концепт техники, рассмотренный в рамках их спора с точки зрения определенного типа власти, обретает вид технонауки – причудливого гибрида технического разума, науки и капитализма под эгидой максимизации прибыли при минимизации издержек. В этом смысле для Хабермаса технический разум – как то, что сфокусировано только на утилитарном – предстает в качестве одного из основных выражений капиталистической максимы массового производства и массового потребления товаров и услуг. Понимание техники Хабермасом восходит к принципу органопроекции, согласно которому вся техника – это проекция органов человека [14, c. 59], и поскольку капитализм связан с господством техники и технического разума, помыслить некоторую иную технику (способную к эмансипации от капиталистической максимы) становится попросту невозможно [14, c 61]. Именно так сформулирован основной аргумент Хабермаса против Маркузе в вопросе о мыслимости иной, жизнеориентированной техники. Пример данной полемики подчеркивает важность социально-политического аспекта современного концепта техники. Может ли техника и техническое знание (технический разум) иметь эмансипационный потенциал от утилитарного, эффективного и оптимального? Этот вопрос тесно связан как с природой технического знания, так и с социально-политическим смыслом этого знания [14, c. 58]. Полемика Хабермаса и Маркузе и ее современное продолжение в контексте акселерационизма демонстрируют нам, что ответы на этот вопрос могут отличаться, но в каждом из случаев мы так или иначе сталкиваемся с различными вариациями сборки концепта техники.
Заключение
Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что современный концепт техники имеет пересечения с греческим techne, но не является тождественным ему. Несмотря на наличие общих проблемных полей, techne видится нам как некоторая конкретная сборка концепта техники, придающая связанной с ним проблематике определенное направление. Современная философия, в свою очередь, скорее предполагает сосуществование множества вариантов сборки концепта техники, в качестве одного из которых можно рассматривать греческое techne. Эти варианты по-разному затрагивают некоторую общую пробле- матику, к которой нас отсылает техника в широком смысле слова, что позволяет концепту техники функционировать подобно ярлыку, который отсылает нас одновременно к различным смысловым вариантам его сборки, не отменяющим, а иногда даже дополняющим друг друга. В связи с этим мы полагаем, что основной и, пожалуй, продуктивной чертой концепта техники является его принципиальная множественность.