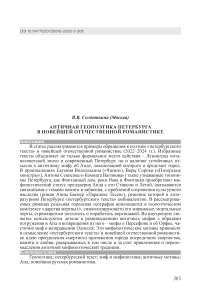Античная геопоэтика Петербурга в новейшей отечественной романистике
Автор: Я.В. Солдаткина
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются примеры обращения к поэтике «петербургского текста» в новейшей отечественной романистике (2022–2024 гг.). Избранные тексты объединяет не только формальное место действия – Ленинград позднесоветской эпохи и современный Петербург, но и наличие устойчивых отсылок к античному мифу об Аиде, локализацией которого и предстает город. В произведениях Евгения Водолазкина («Чагин»), Веры Сороки («Питерские монстры»), Антона Секисова («Комната Вагинова») такие узнаваемые топонимы Петербурга, как Фонтанный дом, реки Нева и Фонтанка приобретают мифопоэтический статус преддверия Аида с его Стиксом и Летой, оказываются связанными с темами памяти и забвения, с проблемой сохранения культурного наследия (роман Анны Баснер «Парадокс Тесея»), решение которой в литературном Петербурге «петербургского текста» амбивалентно. В рассматриваемых романах реальная городская география воплощается в геопоэтическом комплексе «царства мертвых», символизирующего его миражные, мортальные черты, стремящегося поглотить и поработить персонажей. Во внутренних сюжетах используются детали и реминисценции античных мифов с образами погружения в Аид и возвращения из него – мифы о Персефоне и об Орфее, частично миф о возвращении Одиссея. Эти мифопоэтические мотивы привносят в осмысление «петербургского текста» в новейшей отечественной романистике идею преодоления смертного притяжения города посредством творчества, памяти и любви, раскрываемых в том числе и за счет привлечения и переосмысления античной мифопоэтической традиции.
Геопоэтика, петербургский текст, миф и мифопоэтика, античные мотивы, Аид, новейшая русская романистика
Короткий адрес: https://sciup.org/149149400
IDR: 149149400 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-305
Текст научной статьи Античная геопоэтика Петербурга в новейшей отечественной романистике
В статье рассматриваются примеры обращения к поэтике «петербургского текста» в новейшей отечественной романистике (2022–2024 гг.). Избранные тексты объединяет не только формальное место действия – Ленинград позднесоветской эпохи и современный Петербург, но и наличие устойчивых отсылок к античному мифу об Аиде, локализацией которого и предстает город. В произведениях Евгения Водолазкина («Чагин»), Веры Сороки («Питерские монстры»), Антона Секисова («Комната Вагинова») такие узнаваемые топонимы Петербурга, как Фонтанный дом, реки Нева и Фонтанка приобретают мифопоэтический статус преддверия Аида с его Стиксом и Летой, оказываются связанными с темами памяти и забвения, с проблемой сохранения культурного наследия (роман Анны Баснер «Парадокс Тесея»), решение которой в литературном Петербурге «петербургского текста» амбивалентно. В рассматриваемых романах реальная городская география воплощается в геопоэтическом комплексе «царства мертвых», символизирующего его миражные, мортальные черты, стремящегося поглотить и поработить персонажей. Во внутренних сюжетах используются детали и реминисценции античных мифов с образами погружения в Аид и возвращения из него – мифы о Персефоне и об Орфее, частично миф о возвращении Одиссея. Эти мифопоэтические мотивы привносят в осмысление «петербургского текста» в новейшей отечественной романистике идею преодоления смертного притяжения города посредством творчества, памяти и любви, раскрываемых в том числе и за счет привлечения и переосмысления античной мифопоэтической традиции.
ючевые слова
Геопоэтика; петербургский текст; миф и мифопоэтика; античные мотивы; Аид; новейшая русская романистика.
Ya.V. Soldatkina (Moscow)
ANTIQUE GEOPOETICS OF PETERSBURG IN THE NEWEST RUSSIAN NOVELS bstract
A
The article examines examples of turning to the poetics of the “Petersburg text” in the Russian novel writing of 2022–2024. The selected texts are united not only by the formal setting – Leningrad of the late Soviet era and modern Petersburg, but also by the presence of persistent references to the ancient myth of Hades, the localization of which is Petersburg. In the works of Evgeny Vodolazkin (“Chagin”), Vera Soroka (“Petersburg Monsters”), Anton Sekisov (“Vaginov’s Room”), such recognizable toponyms of Petersburg as the Fountain House, the Neva and Fontanka rivers acquire the mythopoetic status of the vestibule of Hades with its Styx and Lethe, turn out to be associated with the themes of memory and oblivion, with the problem of preserving cultural heritage (Anna Basner’s novel “Theseus Paradox”), the solution to which in the literary Petersburg of the “Petersburg text” is ambivalent. In the novels under consideration, the real geography of the city is embodied in the geopoetic complex of the “kingdom of the dead”, symbolizing the mirage, mortal features of the city, striving to absorb and enslave the characters. The internal plots use details and reminiscences of ancient myths with images of immersion in Hades and return from it – the myths of Persephone and Orpheus, partly the myth of the return of Odysseus. These mythopoetic motifs bring to the understanding of the “Petersburg text” in the latest Russian novels the idea of overcoming the mortal attraction of the city through creativity, memory and love, revealed, among other things, by attracting and rethinking the ancient mythopoetic tradition.
ey words
Geopoetics; Petersburg text; myth and mythopoetics; antique motifs; Hades; newest Russian novels.
Художественный феномен «петербургского текста» не только относится к числу принципиально изученных в отечественной филологии, но и продолжает оставаться одним из самых пополняемых литературных комплексов, по-прежнему актуальных для современных писателей, воссоздающих атмосферу Петербурга не только с натуры, но и оглядкой на разветвленную и масштабную культурную традицию. Так, при упоминании «петербургского текста» в первую очередь обращаются к исследованиям Н.П. Анфицерова [Анциферов 2009], В.Н. Топорова [Топоров 2003] и Ю.М. Лотмана [Лотман 1984], обозначивших такие ключевые понятия «петербургского текста», как его искусственность, утопичность, амбивалентность и мифологичность, подчеркивающих вписанность в городской и природный ландшафт литературных образов и сюжетов, в которых сам Петербург становится едва ли не главным действующим лицом (от «Медного всадника» А.С. Пушкина и «Невского проспекта» Н.В. Гоголя до «Петербурга» Андрея Белого).
В своей статье мы предполагаем исследовать петербургские детали в романистике современных авторов через призму относительно недавно оформившегося междисциплинарного понятия геопоэтики, поскольку оно позволяет под новым углом рассмотреть художественную механику взаимодействия литературного текста с городским пейзажем [Иванова 2015], в некоторых своих аспектах предельно конкретного, опирающегося на реальные городские то- понимы, но в то же время мифологизированного не только за счет обращения к классической символике «петербургского текста», но и включения античной мифологической топонимики, символически расширяющей рамки Петербурга и сопрягающей его с пространством древнегреческого Аида и реки Леты.
Геопоэтика на данном этапе развития современной гуманитаристики включает в себя несколько принципиальных научно-методологических аспектов. Исторически геопоэтика связана с изучением художественно-документальных жанров, посвященных путешествиям / травелогам, и фиксирует те географические подробности и вызываемые ими впечатления, которые позволяют визуально воссоздать в тексте посещаемые места [White 2015; Сид 2015]. Далее, отталкиваясь от фонетически близкого, но во многом противопоставленного термина «геополитика», геопоэтика понимается как творческий инструмент для преобразования географических пространств: создания и развития торговых путей и туристической инфраструктуры, работы по изучению и привлечению внимания к достопримечательностям, по проектированию и эстетизации природного и городского ландшафтов [Geopoetiken… 2010]. Нам наиболее близок геопоэтический подход, сформулированный М.П. Абашевой и В.В. Абашевым на материале уральского локального текста и применимый, соответственно, к анализу литературного произведения. Ученые особо отмечают то взаимовлияние, которое оказывают друг на друга художественное слово и географический ландшафт, им описываемый, – геопоэтика «фиксирует сам момент взаимодействия и единства земного пространства (гео) и организующей его культурной формы (поэтика). <…> В поэтическом преображении пространства выражается стремление человека приручить пространство словом, унять его тектоническое буйство и, осмыслив, назвав, обуздать тем самым стихию его изгибов, складок и впадин» [Абашев, Абашева 2012, 143]. Для избранной нами темы ключевой представляется способность геопоэтики провидеть в реальном пространстве мифопоэтический прообраз, существующий не столько в физической плоскости, сколько в культурно-метафизическом поле, образующемся вокруг географических объектов, придающем им символическое значение, влияющее на их дальнейшую не только литературную, но подчас и историческую судьбу.
В центре нашего научного внимания – закономерные для «петербургского текста» и геопоэтики Петербурга античные мотивы и пространственные мифологемы, которые используются в новейшей отечественной романистике 2022– 2024 гг. как для характеристики места действия (Ленинграда – Петербурга), так и для метафоризации романных сюжетов. Прежде всего, отметим, что сам по себе «античный» антураж логично вписывается в общую символическую систему «петербургского текста» буквально со времен его зарождения: классицистические очертания колоннад, фронтонов и портиков, скульптуры Летнего сада внешне отсылают к античной традиции, утверждая за Петербургом статус европейской столицы, не уступающей, несмотря на молодость, в красоте и представительности столичным европейским городам, отсчитывающим свою историю еще со времен античности. Парадный фасад имперского Петербурга, формирующий во многом утопические представления о городе, противопоставляется в «петербургском тексте» нищете его беднейших жителей, что образует одну из граней искусственности и амбивалентности города.
В современном романе с узнаваемо «античным» названием «Парадокс Тесея» (2024) Анна Баснер устами своих героинь, начинающей художницы и опытной реставратора-коллекционера, рассуждает о географической и симво- лической разнице между «античными руинами» Италии и состоянием петербургского жилого и музейного фондов:
Но Петербург - особый сюжет. Когда я это осознала, работать стало гораздо легче. - Почему особый? - Да климат, знаешь ли, неподходящий, - развеселилась Лидия Владимировна, - руины плохо сохраняются. А если серьезно, в практическом отношении город у нас самовоспроизводимый, что ли. <.> Элементы тиражируются, повторяются многократно. Где копии, где оригинал, не разберешь. Заимствуй, компилируй, изобретай... [Баснер 2024, 224].
Климатические и исторические особенности Петербурга, с одной стороны, резко отграничивают его от «подлинной» европейской античности, превращая все городские «античные мотивы» в декорации, в мираж, а сам Петербург - в «город-симулякр», в город-иллюзию, но, с другой, порождают собственную художественную геопоэтическую атмосферу, преломляющую античность, ощущаемую и воспроизводимую как профессиональными реставраторами, так и писателями.
В соответствии с присущей «умышленному» Петербургу двойственностью, в современной романистике педалируется не столько имперско-классицистическая составляющая античной культуры в облике и символике города, но прежде всего - сравнение Петербурга с пограничьем мира живых и мертвых, разделенных или же соединенных водами реки, Леты или Стикса, мифологические функции и геопоэтическая семантика которых сообщается реальной Неве. Так, в романе Евгения Водолазкина «Чагин» (2022), по мнению героини-художницы Ники, «Фонтанка впадает в Лету» [Водолазкин 2022, 366], в романе в рассказах Веры Сороки «Питерские монстры» (2024) в первой же истории покойный Лев Семенович возвращается обратно к живым через мост над Невой, поскольку пройти по невскому льду ему мешает развернувшееся там сражение призраков:
Они неспешно дошли до Невы. <...> Льву Семеновичу показалось, что на льду, прямо в тени фонаря, кто-то копошится. Он присмотрелся и понял, что вся река от берега до берега полна дерущимися людьми. <.> - Почему же они не уходят в загробный мир? - Так кто ж по собственной воле уйдет из Питера? К нему всей душой прикипаешь [Сорока 2024, 9].
У Антона Секисова в романе «Комната Вагинова» (2023) по невскому льду расхаживают античные гарпии - чудовища, проживающие, по поздним версиям, в Аиде: «Оглядевшись, Сеня сразу же видит на замершей поверхности следы чьих-то лап - необычно крупных, трехпалых. Следы тянутся от одного края реки к другому и обрываются возле каменных львов на мосту» [Секисов 2023, 69-70]. Обратим внимание, что авторами независимо друг от друга используются как образы льда, в мифопоэтическом значении сопрягаемого с зимой, смертью, так и образы мостов как метафорического указателя перехода через реку-границу, встречи живых и мертвых. Выбор в качестве символического маркера «инфернальности» Петербурга, соседствующего с царством мертвых и даже, возможно, претендующего на место его филиала или эмблемы на земле, отсылок к античной загробной топонимике обусловлен, на наш взгляд, как общим «античным» контекстом городского ансамбля, так и наличием реки, в питерских условиях грозящей наводнениями, несущей угрозу и разрушения городу, а потому наделяемой сверхъестественными значениями, сближающими ее с реками Аида.
Подчеркнем, что мистический антураж присущ литературному Петербургу с момента зарождения «петербургского текста» (оживающий памятник Петра в «Медном всаднике», неупокоенная душа Башмачкина в «Шинели» и т.д.), но в литературе ХХ в. образ Петербурга как города мертвых / мертвого города проявляется с особенной эмоциональной и семантической выразительностью (поэзия О.Э. Мандельштама начала 1930-х гг., мемуарная книга Вл.Ф. Ходасевича «Некрополь» (1930-е гг.), поздние поэмы А.А. Ахматовой «Реквием» (1930-е гг.), «Поэма без героя» (1940–1960-е гг.) и др.), нагруженной апокалиптическими ассоциациями, вызванными трагическими историческими обстоятельствами, которые не могут не учитываться современными авторами.
В уже упомянутых нами романах, объединенных как временем написания, так и принадлежностью к «петербургскому тексту», Петербург выглядит прежде всего филиалом Аида с его узнаваемыми обитателями и топонимами, когда пересечение реки, как и в античной традиции, означает соприкосновение с миром мертвых, который угрожает поглотить все живое, со своей стороны сопротивляющееся уничтожению.
Об «адской античности» питерских рек и омываемого ими города, способствующих, тем не менее, духовному преображению героя, свидетельствует ряд финальных эпизодов в романе «Чагин», наделенных множественными визуальными, интертекстуальными и символическими смыслами. Сам текст «Чагина» открывается эпиграфом из стихотворения И.А. Бродского «Одиссей Телемаку», что изначально ориентирует читателя на восприятие «античного» подтекста и внутреннего сюжета романа, в котором главный герой – мнемо-нист Исидор Чагин, из-за идеальной своей памяти вынужденно ставший доносчиком и предавший в том числе любимую девушку Веру, соотносит себя как со знаменитым Шлиманом, дилетантом, открывшем Трою, так и с персонажем гомеровского эпоса Одиссеем, долгие годы возвращающимся через моря домой к возлюбленной. Всю жизнь Чагин пожинает последствия предательства – разрыва с Верой, наказывая себя за неспособность забывать, которая представляется ему по аналогии с «авантюризмом» Шлимана поддельным талантом, иллюзией исключительности. Чагин пробует себя в разных жанрах: от мемуариста-прозаика до эстрадного артиста и архивиста. Только в конце жизненного пути герой обретает полноту счастья: учится стирать из памяти все то дурное, что он совершил (поскольку заслужил прощение), пишет гекзаметром автобиографическую поэму, названную им «Одиссей», и соединяется со смертельно больной, но все еще любящей его Верой.
Хотя внешне герой большую часть повествования проживает в позднесоветском Ленинграде / Петербурге, в символическом пространстве романа он много путешествует [Крюкова, Раренко 2023]: в своей поэме «Исидор так тщательно описывает достопримечательности Ленинграда, что в “Одиссее” местами слышится (выученный?) путеводитель» [Водолазкин 2022, 362]. Это метафизическое путешествие Чагина между полюсом абсолютной памяти как имитации полноты бытия и забвения как аллегории не смерти, но бессмертия пытается средствами живописи изобразить художница Ника, молодая знакомая Чагина и Веры, ставшая свидетельницей их примирения. В письме к другу и потенциальному возлюбленному она приводит несколько вариантов эскизов, в которых знаменитые реки Петербурга, Фонтанка и Нева, переплетаются и вливаются в реки Аида: Лету и Стикс. С помощью экфрасиса Водолазкин подробно, что представляется нам принципиально важным, описывает эти гипотетические картины:
На первом почему-то – слияние Фонтанки и Невы. У меня там водовороты неслабые, пена на гребнях волн, таких на реках даже и не бывает. <…> И Исидор на берегу. Смотрю на это художество – Фонтанку вижу, Неву вижу, а Лету – нет. Нет смены измерений [Водолаз-кин 2022, 366].
Такой «автокомментарий» художницы может свидетельствовать как о недостаточности ее таланта, так и о соприродности Фонтанки и Невы – Лете, об их принципиальной неразличимости, по крайней мере, в контексте «петербургского текста».
На окончательном эскизе, пересказанном Никой не без иронии, происходит полная контаминация Фонтанки, Стикса, Леты – и знакового для темы памяти и прощения образа Фонтанного дома в Петербурге:
Фонтанка впадает в Фонтанный дом. Течет под аркой с надписью «Deus conservat omnia». Туда не спеша подруливает, значит, Харон с пассажиром Исидором. Арку пришлось расширить, надпись увеличить – она у меня вверху, на всю ширину рисунка. Ее как раз заканчивают там прибивать. Стоят на стремянках, с молотками. И знаешь, кто? Граф Шереметьев (обобщенный) и Ахматова [Водолазкин 2022, 367].
С учетом эпиграфа к роману надпись на Фонтанном доме указывает не только на «ахматовский Ленинград» с его мотивами реквиема как вечной памяти по ушедшим, соединяющего религиозное поминовение как с посмертным бытием души, так и с той творческой силой, которая в литературном произведении утверждает, вопреки всем историческим обстоятельствам, бессмертие павших. Водолазкин подразумевает и широко известное стихотворение И.А. Бродского «На столетие Анны Ахматовой», философски и образно близкое, а также цитирующее в русском переводе тот самый девиз Фонтанного дома: «Бог сохраняет все». Возможно, ироническая интонация Ники как раз и относится к амбивалентности «петербургской памяти» для Исидора, нуждающегося не столько в сохранении, сколько в прощении грехов, в их отмене, освобождающей его для новой, уже не питерской, жизни.
Как видим, рисунок Ники окончательно закрепляет за Петербургом статус берега Стикса: Харон причаливает к Фонтанному дому. Сочиненная ею сценка носит характер эмблемы, подразумевающей как геопоэтические схождения Петербурга и царства Аида, так и ключевую для всего романа идею преобразования памяти из проклятья в спасение: без любви и творчества совершенная память – тяжкий крест, обрекающий героя на адские муки неприкаянности, одиночества и вины. Косвенно эти метафизические муки олицетворяет собой Петербург с его «законсервированной памятью», уходящей вглубь едва ли не античных времен. Не случайно свое позднее счастье Чагин с Верой обретают за пределами города – в Комарове, не у инфернальной Невы-Леты-Стикса, а на берегу реального Балтийского моря, с лукоморья которого умирающая Вера и ее Одиссей-Чагин отправляются в смертное путешествие не со страхом, но с надеждой на встречу в лучшем мире: «Они оказались на разных кладбищах. <…> Грустно. Только на их соединении в вечности это, я думаю, не отразится» [Водолазкин 2022, 370]. Тем самым в целом в «Чагине» античные мотивы раскрываются амбивалентно, с одной стороны, привнося в частную историю героя эпический подтекст, соотнося его судьбу с судьбами позднесоветского поколения, но, с другой, маркируя Петербург как территорию в том числе «адскую», в определенном смысле противопоставленную бессмертию любви, свидетельствующей об «исцелении» Чагина от дара мнемоники и выводящей его за пределы Аида – переправляющей его через Стикс-Лету в обратном направлении (и отменяющей физическую смерть героев в их подразумеваемом будущем уже христианском воскресении).
В романе в рассказах Веры Сороки «Питерские монстры» геопоэтика повествования строится вокруг рек и кладбищ, причем оба этих топонима объединяет семантика границы между мирами живых и мертвых, которая в книге Сороки достаточно проницаема. По крайней мере, питерское пограничье делает видимыми, осязаемыми потусторонних существ в диапазоне от разного рода смертей («…каждая птица – какая-то смерть» [Сорока 2024, 261]) до русалок и нимф (один из героев романа влюбляется на семь лет в античную нимфу Калипсо, приходящую к нему по утрам на кофе). Обратимость жизни и смерти, связанная с амбивалентным мифопоэтическим статусом Петербурга как города мертвых и монстров среди живых, наиболее явно раскрывается в сюжетах, посвященных творческим персонажам, наделенным талантом как сверхспособностью. В частности, писательница переворачивает миф об Орфее, который спускается в Аид за умершей женой Эвридикой и очаровывает Аида и Персефону искусным пением и игрой на лире. В «Питерских монстрах» молодой скрипач вынужден сыграть особую мелодию для девочки-смерти, чтобы освободить от смертного договора себя и бабушку: самому выжить, а бабушке дать наконец умереть спокойно. Ноты юноша считывает с кладбищенских надгробий:
Скрипач обвел пальцами очертания памятников и ровные ритмичные оградки. – Все это нотный стан. Видишь, надгробья разной высоты и ширины? И мелодия то опускается, то поднимается вверх. Каждый материал – длительность ноты… <…> Мелодия начинается от заброшенной могилы в начале аллеи и продолжается до самого конца [Сорока 2024, 194].
Получившаяся кладбищенская музыка разрешает конфликт между смертью и жизнью, преобразовывая одно в другое, доказывая неокончательность первой и неуничтожимость второй. Территория смерти – кладбище в Петербурге – вдохновляет скрипача на «музыкальное прочтение» города, превращающегося в самостоятельный текст, в произведение искусства: «Я начал видеть музыку в домах и мостах, в том, как сидят птицы на проводах» [Сорока 2024, 195].
Окончательная трансформация сюжета Орфея происходит в финале, когда спасать погибшего писателя Макса отправляются его друг и возлюбленная-монстр, вооружившись рукописью «Полное руководство по возвращению с того света. Том первый», хотя результат их действий и остается неизвестен читателю. Путь до царства мертвых из города мертвых очевидно самый корот- кий, но при этом, как и в романе Водолазкина, реальный Петербург с его геопоэтикой Аида оказывается преддверием не смерти, но творческого бессмертия, творческой фантазии и таланта, носители которого (скрипач-музыкант, писатель Макс и др.) способны преодолеть притяжение смерти, разомкнуть ее чары, переписать их в нечто новое, неподвластное уничтожению.
Вариация еще одного знаменитого античного мифа, связанного с загробным миром, – похищение Аидом Персефоны – представлена в романе Антона Секисова «Комната Вагинова» (2023). Повествование построено на множестве «петербургских» деталей: действие разворачивается в коммунальной квартире, в одной из комнат которой предположительно проживал писатель Константин Вагинов. Античный контекст вводится автором и через упоминание самого известного романа Вагинова – «Козлиная песнь» – и посредством намека на загадочное бесследное исчезновение из квартиры «Жизни Аполлония Тианского» Флавия Филострата:
…герои «Козлиной песни» мечтают о Филострате как о своем биографе, которой передаст потомкам их благородный образ – как Филострат прославил и обессмертил Аполлония Тианского. «Жизнь Аполлония Тианского» – слишком редкая книга, чтобы это можно было счесть совпадением [Секисов 2023, 254].
Так история подшучивает над попытками незадачливого главного героя отыскать в квартире следы пребывания Вагинова, как будто ускользающие от препарирования и документирования.
Но та же самая гипотетическая «комната Вагинова» становится местом пленения героини Нины неким Артемом – замкнутым молодым человеком с магическим мышлением, видящим в каждом встречном античных вестников судьбы (в статуе Гермеса в Павловском парке – намек на будущую смерть отца, в старухе-соседке – хищную гарпию, прилетевшую за отцом). Похищение Нины, совершенное Артемом с помощью каршерингового автомобиля и вдохновленное в том числе и уже упомянутым жизнеописанием Аполлония Тианского, иронично переосмысляет античный сюжет с использованием золотой колесницы, на которой Персефону увозят в Аид. Как и в мифе, похитителю удается остаться незамеченным, а пребывание Нины, накачанной седативными препаратами, в плену у Артема действительно уподобляется спуску в царство мертвых за счет потери сознания, полной беззащитности жертвы и т.д.
Соприкосновение античного и петербургского контекстов еще с детства поражало Артема и, возможно, явилось одной из причин его безумных действий: «Но группа статуй, неожиданно возникающая посреди среднерусского лесного пейзажа, озадачивает. <…> Двенадцать дорожек, три греко-римских бога и девять муз» [Секисов 2023, 105]. Поступки Артема, абсолютно нелогичные и преступные с житейской точки зрения, для него самого наполнены высшим мифологическим смыслом. Но с немалой долей иронии Секисов разоблачает «античный подтекст» в своем питерском тексте: в романе античность существует только в воспаленном воображении Артема, тогда как на деле никаких гарпий не существует, отец Артема умирает от продолжительной болезни, а Нина освобождается без посторонней помощи, проявляя недюжинную силу, смекалку и волю к жизни. Не оспаривая в целом античный «адский» комплекс, закрепленный за литературным Петербургом, Секисов показывает его «вымышленность», «нежизнеспособность» – он только претендует на управ- ление сюжетом и героями, а на деле демонстрирует собственную эфемерность, неспособность причинить героям действительный вред. Можно сказать, что, как и образ писателя Вагинова, античная семантика питерского мифа ускользает от персонажей, верящих в нее как в некую «объективную реальность». Низведение «аидовых» черт в петербургском тексте до уровня «обманки», с одной стороны, находится вполне в рамках современного постмодернистского художественного мышления, свойственного в том числе и «Комнате Вагино-ва», но, с другой, формулирует свой – смеховой – рецепт борьбы с питерским «царством Аида», деконструируя его посредством пародирования и высмеивания персонажей, готовых разглядеть «тайный код» и следы гарпий на питерском речном льду.
Теме подмены, миражности и иллюзорности Петербурга, классической для петербургского текста, в романе Анны Баснер «Парадокс Тесея» найден меткий античный аналог: в заглавии речь идет о знаменитой философской проблеме, остается ли объект тем же самым, если все его составные части заменены (останется ли корабль Тесея кораблем Тесея, если по мере плавания обновить все его элементы). В повествовании таким «кораблем Тесея» становится хранящееся в мавзолее тело Ленина, от которого осталось менее половины подлинных тканей. Для сбора пожертвований на непрофессиональное восстановление питерского особняка герои романа устраивают провокационный уличный перформанс, в процессе которого проецируют на занавес, скрывающий строительные леса, ролик с повреждениями мумии Ленина. Отметим очередной случай примечательной петербургской диалектики: мертвое тело, с одной стороны, осмысляется как музейный экспонат и в этом качестве подлежит консервации, но, с другой, оно против своей воли участвует в манипулировании живыми. По сути, писательница поднимает вопрос о том, что более жизнеспособно в питерских мифологических условиях: разрушающийся артефакт или эфемерная память о нем, искажающая или преобразующая реальность в направлении, задаваемом преобразователями. По мысли Баснер, попытка воссоздать культурный объект, активно повлиять на городской ландшафт вступает в противоречие с его «мертвым» и обманчивым пространством – всех добровольных реставраторов арестовывают по надуманным обвинениям, что подтверждает тот вредоносный потенциал, которым обладает не желающий обновления город мертвых – город-призрак, лже-город-Аид.
Территория «литературного Петербурга» в отечественной романистике начала 2020-х гг. достаточно устойчиво маркируется в качестве Аидова царства мертвых, для чего используются как пространственные метафизические указатели, ассоциирующие петербургские реки со Стиксом и Летой, а питерских обитателей – с античными потусторонними сущностями (гарпии, нимфы), так и мифопоэтические сюжеты с локализацией в Аиде – ладья Харона, похищение Персефоны, путешествие Орфея в Аид. Геопоэтика современного петербуржского текста строится на образах пограничья между миром живых и мертвых, на диалектическом соприкосновении, взаимовлиянии и противостоянии «мертвенности и мертвости» города, прикидывающегося живым, и способов преодоления его смертного притяжении, выхода за пределы Аида – прежде всего, с помощью таких феноменов, как память, любовь и творчество. «Адский» античный антураж города, воспринимаемый как серьезно, так и иронически, тем не менее, представляется существенной характеристикой современного петербуржского пейзажа, отражающего исконно присущую городу амбивалентность, миражность, обманчивость его парадной «античной»
торжественности, маскирующей руины и прочую потенциально вредоносную «кладбищенско-могильную» природу Петербурга, города мертвых. Однако не менее присущим современному Петербургу как культурному символу оказывается и переход из смертного в бессмертное – идея обратимости смерти, в том или ином виде заключенная в античных мифах о Персефоне, Орфее. С этой точки зрения обращение к античным персонажам, сюжетам и метафорам в определенной степени развивает и обновляет литературную традицию, позволяя расширить семантический контекст «петербургского текста» за счет античной сокровищницы, в максимально концентрированном и узнаваемом виде воплощающей в современном русском романе диалектику жизни-смерти-бес-смертия, отражающую социокультурные онтологические чаяния и надежды.