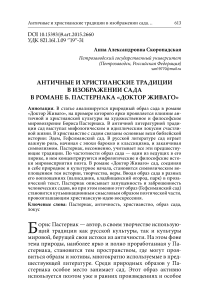Античные и христианские традиции в изображении сада в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»
Автор: Скоропадская Анна Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется природный образ сада в романе «Доктор Живаго», на примере которого ярко проявляется влияние античной и христианской культуры на художественное и философское мировоззрение Бориса Пастернака. В античной литературной традиции сад выступал мифологическим и идиллическим локусом счастливой жизни. В христианстве с садом связаны основные вехи библейской истории: Эдем, Гефсиманский сад. В русской литературе сад играет важную роль, начиная с эпохи барокко и классицизма, и заканчивая символизмом. Пастернак, несомненно, учитывает все эти предшествующие традиции. По частотности образ сада - один из ведущих в его лирике, в нем концентрируются мифологические и философские истоки мировосприятия поэта. В романе «Доктор Живаго» сад, соединяя в себе природное и культурное начала, становится символическим воплощением тем истории, творчества, веры. Вводя образ сада в разных его воплощениях (палисадник, кладбищенский огород, парк) в прозаический текст, Пастернак описывает запущенность и заброшенность человеческих садов, но при этом именно этот образ (Гефсиманский сад) становится кульминационным смысловым образом поэтической части, провозглашающим христианскую идею воскресения.
Пастернак, античность, христианство, образ сада, локус
Короткий адрес: https://sciup.org/14748952
IDR: 14748952 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.2660
Текст научной статьи Античные и христианские традиции в изображении сада в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»
Борис Пастернак — автор, в своем творчестве использующий традиции как русской культуры, так и культуры мировой, берущей свои истоки из античности. На этом фоне тема природы, наиболее ярко и полно проработанная у Пастернака, становится тем пространством, где могут проявиться образы и мотивы, многократно используемые в предшествующей литературе. Среди природных образов у Пастернака особое место занимает сад. Этот образ активно используется поэтом уже в ранних произведениях и особое звучание приобретает в итоговом произведении — романе «Доктор Живаго».
Разведение садов прочно входило в мировую культуру (как античную, так и христианскую): они служили не только для бытовых, но и для эстетических, а также религиозных целей 1 . В Древней Греции сады выполняли прежде всего хозяйственную функцию, являясь местом разведения плодовых деревьев. Но с развитием культуры и науки сады приобретали новый характер использования: очень часто в них или рядом с ними стали создаваться учебные заведения (яркий пример тому Академия Платона, Ликей Аристотеля, сады Эпикура). В эпоху эллинизма актуальной стала эстетическая функция сада: сады разбивали по строгому плану, украшали их статуями, цветами и редкими породами деревьев. Таким образом, обжитая, «прирученная» природа сада играла роль приятного, уютного интерьера: сад становился продолжением пространства дома.
Религиозные верования древних римлян содержат понимание сада как места обиталища ларов — добрых божеств, покровительствовавших семье, домашнему очагу, общине [5, 152—153]. Не случайно поэтому, в садах начинают устраивать святилища, жертвенные алтари, а иногда и храмы. Опираясь на определение Д. С. Лихачева, скажем, что «эстетический климат» [10, 11] античности обусловил представление о саде как об одомашненной, окультуренной природе.
Пришедшее на смену античности христианство образом сада обозначило основные вехи библейской истории: Эдемский сад в Ветхом Завете и Гефсиманский сад — в Новом. Антагонизм с античным язычеством проявился в использовании отрицательных коннотаций образа сада: в Ветхом Завете порицаются языческие священные рощи и увеселительные сады (например, в книге пророка Исайи: 1:29; 17:10). Сады человеческие, насажденные от чужой лозы (Ис. 17:10), не угодны Богу, и он превращает их в лес: лес становится наказанием человеку за неверие, за грехи, людям так и не удается создать «райского сада», потому что они не помнят Бога.
Влияние языческой традиции, населяющей деревья душами умерших людей, прослеживается в том, что во времена
Нового Завета сады могли играть роль кладбищ. Как замечает Генри Г. Геллей, «история человечества началась в саду. Иисус пережил свою агонию в саду. Его похоронили в саду. Рай будет садом» [4, 520].
Вся европейская христианская традиция использовала садовую символику. В ее лоне можно выделить два направления: западноевропейское, которое в наибольшей степени разнообразило значения сада, обращаясь и к христианской и к античной традиции, и восточноевропейское (славянское), менее разнообразное, но идущее вслед за библейской образностью. Этому вопросу посвящена статья Л. И. Сазоновой «Идейно-эстетическое значение “мысленного сада” в русском барокко», которая подробно описывает все возможные смыслы, которые включал в себя образ сада в литературе барокко: «…образ сада приобрел в ней большую многоплановость, представ в вариациях и превращениях, испытал колебания в значении от религиозного до светского» [12, 74]. Особое внимание исследовательница уделяет тому, какобраз сада отразился в литературных жанрах и какие значения он приобрел. В частности, Л. И. Сазонова указывает на то, что в восточнославянских литературах «искусство слова связывается <…> с насаждением и возделыванием сада» [12, 76]. Уподобление книги саду привело к тому, что появился особый литературный жанр — «вертоград», который предлагал литературный материал, композиционно оформленный в соответствии с религиозно-идеологическими или морально-эстетическими установками автора.
Все эти культурные традиции были известны Пастернаку и так или иначе отразились в его творчестве.
Сад — один из наиболее употребительных образов в лирике Бориса Пастернака, несущий на себе большую смысловую нагрузку. Так, по наблюдениям Ю. И. Левина в сборнике «Сестра моя жизнь» по частотности употребления существительные можно расположить в следующем порядке: ночь, глаза, губы, звезда, сад, душа, степь. «Развертывание частотного словаря можно рассматривать как своего рода космогонию, как “сотворение мира” поэтом, как генезис его модели мира. Так, <….> в начале была Ночь, потом возник
Человек, но еще не весь человек, а Глаза и Губы; в ночи появляются Звезды, и сияют они над возникающим Садом» [9, 202]. Опираясь на этот анализ, В. С. Баевский замечает, что «сотворение мира здесь, как в мифе, переплетено с сотворением человека. Гомоморфизм вселенной и человека — один из устойчивых мифологических мотивов, выработанных архаическими культурами» [1, 122]. Таким образом, используя образ сада, Пастернак творит свою мифологию, свою философию мира, которая получает определенное звучание и в романе «Доктор Живаго».
Наряду с садом в романе, в соответствии с культурноисторической традицией, мы будем рассматривать парки, палисадники, огороды. «Как человеческое тело является оболочкой для души, так и сад должен быть окружен оградой. Назначение ее — защищать это сокровенное место от греховного мира. Отсюда и самое распространенное название — “огород”» [16, 94]. Один из первых образов в романе — кладбищенский огород, который сразу же дает авторское решение образа сада: этот огород бесплоден. Пастернак перенес на огород черты кладбища: он невзрачный и пустой. Единственные «живые» растения на нем — акации, но и те больны, мечутся, как «бесноватые» 2 . Уже с первых страниц видно, что образ сада в романе не несет на себе только положительную оценку, согласно предшествующей литературной традиции.
В первых главах романа Пастернак дает эпизод из детства Юрия Живаго, изображая, как он молится в лесу. Это первое обращение главного героя к Богу, и то, что это происходит в лесу — символично. Но еще более символично то, что за сценой молитвы Юры Живаго следует эпизод из детства Ники Дудорова, персонажа, сопутствующего Живаго, наряду с Мишей Гордоном, на протяжении всего романа. Как замечает Г. М. Ибатуллина, «судьбы этих персонажей — не просто фон, на котором рельефно высвечивается личность и судьба главного героя; они создают тот единый контекст — социально-исторический, психологический, общекультурный, повседневно-жизненный — благодаря которому только и может быть осознана уникальность и исключительность
Живаго» [6, 64]. Ника — тоже сирота, как и Юра, но сирота при живых родителях: его отец на каторге, мать — революционерка; и так же, как Юра, он пытается определиться в окружающем мире. Здесь осознание себя происходит не в лесу, как у Живаго, а в парке:
Всю ночь он не спал и на рассвете вышел из флигеля. Всходило солнце, и землю в парке покрывала длинная, мокрая от росы тень 3 деревьев <…>.
Вдруг серебристая струйка ртути <…> потекла в нескольких шагах от него <…>. Это была змея медянка. Ника вздрогнул <…>.
«Как хорошо на свете!» — подумал он. — «Но почему от этого всегда так больно? Бог конечно же есть. Но если он есть, то он это я. Вот я велю ей», — подумал он, взглянув на осину , всю снизу доверху охваченную трепетом <…>, — «вот я прикажу ей» — и в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» — и дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности (20).
Ника пытается постигнуть смысл бытия и своим детским сознанием приходит к выводу, что человек — это Бог, повторяя революционную модель мира своих родителей, где человек равен и даже превосходит Бога. Таким образом, он, сам того не осознавая, повторяет грех Адама, приравнявшего себя к Богу. Интересно также и то, что парк (= сад) в этом фрагменте несет на себе признаки леса: это змея медянка, проползающая в траве, и осина, дерево лесное. К тому же оба эти образа — библейские и несут в себе отрицательную семантику: медянка ассоциируется со Змеем-Искусителем в Эдемском саду, а осина по народному поверью считается деревом нечистым, так как на ней повесился Иуда, предавший Иисуса.
Сопоставив эпизоды из детства двух героев, можно найти отправные точки в анализе образа сада, так как на самом деле и Юра, и Ника пытаются осознать себя в мире в одно и то же время и в одном месте — в усадьбе Дуплянка, куда маленький Живаго приехал со своим дядей. В Дуплянке соединились сад и лес, причем образ сада здесь представлен в разных вариантах: аллея, палисадник, парк, садик и оран- жерея. Домик управляющего находится посреди «запущенного, черного парка». Эти характеристики парка сразу ставят его в оппозицию к образу леса, который является «просторным», «чистым». Одновременно парк выступает в функции леса. Домик окружен «садиком» (уменьшительно-ласкательный суффикс указывает на его небольшие размеры), который отгорожен от парка густой изгородью: запущенный парк и ухоженный садик отделены друг от друга, а парк, в свою очередь, становится пограничной зоной между садиком и лесом. Но в Дуплянке есть еще и оранжерея, сад под крышей, сад, помещенный в доме (правда, герои проходят мимо оранжереи, не заходя в нее, и больше этот образ в романе не встречается).
Мальчики оказались в разных частях имения: Ника ушел в «черный», «запущенный» парк, а Юра, миновав сад, оказался в «чистом» и «редком» лесу. Таким образом, лес и парк вступают в оппозиционные отношения: парк «запущен», так как о нем никто больше не заботится, у него нет хозяина, лес же, подобно садику управляющего, ухожен.
Лес — творение Божие, а сад земной сотворен руками человека и «насажден не от той лозы», он больше страдает от всех потрясений, происходящих в людском мире. В романе показано, что сад остался без садовника, ведь человек двадцатого века погряз в войнах и революциях, он привык разрушать, а не созидать. И сады, как и парки, дичают, пустеют и умирают. Вот, например, описание сада в Мелюзееве, городе, подвергшемся всем бедам гражданской войны:
Пахло всеми цветами на свете сразу, словно земля днем лежала без памяти, а теперь этими запахами приходила в сознание. А из векового графининого сада , засоренного сучьями валежника так, что он стал непроходимым , заплывало во весь рост деревьев огромное, как стена большого здания, трущеб-но-пыльное благоухание старой зацветающей липы (140).
Итак, мы видим, что сад «засорен» до такой степени, что стал «непроходимым», то есть стал похожим на лес. Хозяева графского дома давно уехали, и окружающий сад разделил судьбу брошенного здания (ср.: старая липа, подобно нежилому дому, издает трущебно-пыльное благоухание). Сад при- ходит к запустению, потому что человек забросил его, и таким образом становится природным символом исторической дикости. Но умирание городского сада не означает умирание жизни вообще:
Всё кругом бродило, росло и всходило на волшебных дрожжах существования . Восхищение жизнью , как тихий ветер, шло , не разбирая куда, по земле и городу » (140).
Жизнь обладает огромным потенциалом, она наделена некой «волшебной» силой, позволяющей вновь и вновь совершать обряд возрождения. (Интересно отметить, что для характеристики существования Пастернак использует эпитет « волшебный », который уводит нас в сказочный, языческий мир ассоциаций). Никакие революции, войны и общественные потрясения не могут заглушить «голоса жизни», всею своей мощью природа противится насилию технического прогресса и враждебности человека, но с каждым разом это становится все труднее и труднее. И одним из первых в вихре революции страдает сад.
У Пастернака практически все сады революционного времени бесплодны, тогда как в лесу он выделяет плодоносные деревья: это и рябина, кормящая своими ягодами птиц, и ореховые деревья, плодами которых питается Живаго по пути в Москву. Приведем для примера одно из описаний леса:
Там и сям лес пестрел всякого рода спелыми ягодами : нарядными висюльками сердечника, кирпично-бурой дряблой бузиной, переливчатыми бело-малиновыми кистями малины (341).
Однако садовые деревья, дичающие без человека, не абсолютно бесплодны: некоторые из них готовятся к плодоношению; таково описание сада в городе Крестовоздвиженске в ночь на Великий четверг:
Малорослые яблони все в почках, чудесным образом перекидывали из садов ветки через заборы на улицу (307).
Пастернак активно использует в романе художественный прием олицетворения: в романе деревья стучат или заглядывают в окна домов, как будто прося о помощи или предупреждая об опасности. Например, во время бури в Мелюзее- ве старая липа стучит в окна графского дома, и доктору кажется, что это стучит вернувшаяся Лара. Дом Веденяпина в Москве тоже окружен садом, и во время начавшихся беспорядков деревья как бы стараются спрятаться в доме, протягивая свои ветки, прося человека о помощи.
Как отмечалось выше, главной чертой сада является его плодоносность, но, кроме того, особенностью сада, в отличие от леса, является его огражденность от остального мира дикой природы, представляющая «идею замкнутого пространства, огражденного стеной или забором, внутри которого полное изобилие…» [15, 491]. А в романе деревья могут нарушать установленные человеком пределы, преодолевая тесные для них границы, причем опять Пастернак применяет эпитет «чудесный», но здесь чудо вписано в христианскую традицию. Жизнь природы зачастую включена в христианский календарь.
А в городе, на небольшом Пространстве, как на сходке, Деревья смотрят нагишом В церковные решетки.
И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград, Колеблется земли уклад: Они хоронят Бога (517) .
Это отрывок из стихотворения «На Страстной». Здесь образ сада появляется вслед за образом леса, который сравнивается «со строем молящихся». «Сады выходят из оград», словно пытаясь соединиться с лесом, со всей природой, чтобы вместе оплакать смерть Бога. Образ выходящих за ограду садов призван подчеркнуть всю глубину скорби по умершему Богу, и о смерти Богочеловека скорбит вся природа. Природный мир преисполнен Божьей волей, и более чуток к божественному страданию, и каждый раз переживает его как свое собственное; но всякий раз жизнь берет верх над смертью, как весна над зимой. Преодоление оград, нарушение границ леса и сада символизирует собой одну из важных для православия идею соборности.
Для Пастернака соборность являлась одной из важнейших категорий не только в отношении религии, но и в отношении его мировосприятия: он ощущал себя частью мира, пусть небольшой, но значимой. И эта причастность к миру возможна за счет Божественной энергии: «…по Пастернаку, Божественная энергия <…> требует от личности участия в общем деле, в “артели”, в “хоре”, в жизни человечества. Тогда личность в полном смысле слова становится сама собою, говорит “да”, “ты еси” всему сущему» [13, 70]. Гармония человека и вселенной, человека и природы, их единение, слияние — вот к чему стремится Юрий Живаго. Герои романа, а вместе с ними и автор, пытаются самоопределиться в этом мире, и это самоопределение происходит через ощущение связи всех явлений и событий природы и истории.
У Живаго не получилось создать свой сад, в этом ему помешал враждебный внешний мир. После побега из партизанского плена Живаго опять возвращается в Варыкино с Ларой и проживает короткий и самый счастливый период их совместной жизни. Но очень скоро доктор остается один, без поддержки близких. Он покидает усадьбу, отправившись в Москву. Но деградирует ли он? Нет, теперь он пытается возделывать сад в своей душе, и для этого он все дальше отходит от суетного людского мира, погружаясь в одиночество, в «аскетическое сосредоточение».
Идиллические стремления доктора противопоставлены радикальным, утопичным стремлениям революционеров переделать мир, разрушив все, что было создано тысячелетиями. Пастернак вступает в скрытую полемику со многими мыслителями, авторами утопий. Для него остаются неприемлемыми бездушные, механические требования к устройству новой жизни. Пастернак в романе «подтверждает несомненность духовного приоритета жизни, преисполненной благодати, над формальным ее переустройством <…>. Юрий Живаго “побежден” в “здешней”, земной жизни, но его “победа” относится к иному измерению, как и победа Христа над смертью» [7, 212].
В глазах близких и друзей Живаго терпит душевный крах, но на самом деле в своем кажущемся падении он поднимается в духовном плане, и чтобы показать это, Пастернак прибегает к природным образам, восходящим к образу сада. По замечанию Н. В. Лаврентьевой, «цветок равновелик саду, он вполне может заменить его» [8, 109], и в описании похорон Живаго цветы как «представители» сада играют значимую роль:
В эти часы, когда общее молчание, не заполненное никакою церемонией, давило почти ощутимым лишением, одни цветы были заменой недостающего пения и отсутствующего обряда.
Они не просто цвели и благоухали, но как бы хором, может быть, ускоряя этим тление, источали свой запах и, оделяя всех своей душистою силой, как бы что-то совершали.
Царство растений так легко себе представить ближайшим соседом царства смерти. Здесь, в зелени земли, между деревьями кладбищ, среди вышедших из гряд цветочных всходов, сосредоточены, может быть, тайны превращения и загадки жизни, над которыми мы бьемся. Вышедшего из гроба Иисуса Мария не узнала в первую минуту и приняла за идущего по погосту садовника. (Она же мнящи, яко вертофадарь есть…) (490).
Здесь соседствуют рядом жизнь и смерть: живые цветы и мертвый человек; но своим благоуханием цветы побеждают запах смерти, провозглашая торжество жизни. «Пространство флоры в романе настойчиво связывается с темой бессмертия души» [2, 89], и в данной сцене цветы заменяют собой недостающий обряд отпевания и погребения, совершая церковные таинства. Они становятся проводниками Живаго через тайну смерти в вечную жизнь, и образ Иисуса Христа подтверждает это. Ларе, сидящей у гроба Живаго, приходят на память евангельские строки о воскресении Иисуса, символизируя воскресение доктора. Обратим внимание, что Мария принимает воскресшего Иисуса за садовника, ухаживающего за питомником при погосте. Пастернак, используя этот евангельский сюжет, в очередной раз подчеркивает близость Христа окружающему миру, природе. Если Спаситель — садовник, то мир, который он спасает, — сад. Сад, выращенный Живаго в душе, остался «цвесть и благоухать» после его смерти в стихах. Именно сад становится од- ним из ключевых и заключительных образов романа, являясь центром последнего из тетради доктора стихотворения «Гефсиманский сад», в котором рассказывается о молитве Иисуса в Гефсиманском саду. Н. Фатеева определяет образ сада как концептуальный метатроп всего творчества Пастернака, который замыкается в круг, начиная с сада «Начальной поры» до «Гефсиманского сада», написанного Юрием Живаго [14, 168].
В начале стихотворения дается описание дороги, ведущей к саду:
Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной, Внизу под нею протекал Кедрон.
Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.
В конце был чей-то сад , надел земельный… (547).
К саду ведет дорога, озаренная призрачным светом «безразличных» звезд; дорога огибает гору, под которой течет река. Дорога «обрывается с половины», а ее продолжением становится Млечный путь, ведущий на небо, в бесконечность. Но дорога не остается пустынной — по ее обочинам растут деревья, которые пытаются «вдаль по воздуху шагнуть». Дорога ведет к саду, находящемуся на горе, то есть сад соседствует с небом и предстает как конец/начало: конец жизненного пути и начало пути небесного. Сад огражден, и Иисус входит в него один, «учеников оставив за стеной», чтобы предаться молитве, попросить у Бога-отца душевных сил для завершения своего крестного пути. И кажется, что ничего больше в мире не осталось — только сад и молящийся в нем Богочеловек:
Ночная даль теперь казалась краем Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для жития (547).
В Гефсиманском саду принято божественное решение, найден путь в вечную жизнь. Ю. Бёртнес считает, что «страх смерти преодолевается верой в вечную жизнь» [3, 373]. Тема воскресения кульминационно звучит в последнем четверостишии:
Я в гроб сойду и в третий день восстану, И, как сплавляют по реке плоты, Ко мне на суд, как баржи каравана, Столетья поплывут из темноты (548).
Воскресение — победа жизни над смертью, то, что волновало Пастернака больше всего. Жизнь во всех ее проявлениях — главный предмет его творческих и философских исканий. «Мотив Воскрешения Христова присутствует практически во всех стихотворениях романа с христианской символикой, но в этом тексте он достигает своей кульминации. Поэтому не только «Гефсиманский сад», но и весь роман «Доктор Живаго» завершается победой Христа над смертью и оптимистической верой Пастернака в будущее единение всех во Христе» [11, 164]. Образ сада становится одним из главных объяснений жизненных процессов и становится символом слова «жизнь» вообще. Культурные ассоциации, навеваемые этим символом можно интерпретировать во многих значениях: сад-творчество, сад-вечность, сад-жизнь. Эти ассоциации, «аккумулируя различные концептуальные смыслы, становятся источником возникновения индивидуально-авторских значений символа. Сад предстает как временной контрапункт, средоточие истории в определенный момент жизни всего человечества» [17, 214]. Таким образом, сад становится символом священной истории, тем местом, где человечество, благодаря жертвенности Христа, обрело новую духовную жизнь.
Дата поступления в редакцию: 15.12.2014
Список литературы Античные и христианские традиции в изображении сада в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»
- Баевский В. С. Миф в поэтическом сознании и лирике Пастернака: Опыт прочтения//Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. -1980. -Т. 39. -№ 2. -С. 116-127.
- Балахнина В. Ю. Семантика и трансформации природных символов в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»//Вопросы культурологии. -2009. -№ 4. -С. 87-90.
- Бёртнес Ю. Христианская тема в романе Пастернака «Доктор Живаго»//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: ПетрГУ, 1994. -Вып. 3: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 1. -С. 361-377.
- Генри Г. Геллей. Краткий библейский толкователь. -Торонто: Мировая христианская миссия, 1984. -860 с.
- Зурабова К. А., Сукачевский В. В. Мифы и предания: Античность и библейский мир: Попул. энциклопед. словарь. -М.: Терра, 1993. -277 с.
- Ибатуллина Г. М. Две инициации: о символическом смысле одного эпизода в сюжете романа Б. Пастернака «Доктор Живаго»//Сибирский филологический журнал. -2012. -№ 1. -С. 63-71.
- Кондратьев А. С. Духовная традиция и ее деформация//Москва. -2004. -№ 2. -С. 209-213.
- Лаврентьева Н. В. Образ сирени в творчестве Б. Л. Пастернака//Филологические науки. Вопросы теории и практики. -2014. -№ 6-2 (36). -С. 107-110.
- Левин Ю. И. О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах//Структурная типология языков. -М.: Наука, 1966. -С. 199-215.
- Лихачев Д. С. Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. -М.: Согласие, 1998. -471 с.
- Птицын И. А. Апокалиптическая символика в стихотворении Б. Пастернака «Гефсиманский сад»//Традиции в контексте русской культуры. Выпуск ХI: Межвузовский сборник научных работ. -Череповец: ЧГУ, 2004. -С. 162-164.
- Сазонова Л. И. Идейно-эстетическое значение «мысленного сада» в русском барокко//Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII -начала XVIII в. -М.: Наука, 1989. -С. 71-103.
- Степанян Е. В. Категории поэтического мышления Б. Пастернака//Вопросы философии. -2000. -№ 8. -С. 62-78.
- Фатеева Н. А. Поэт и проза: Книга о Пастернаке. -М.: Новое литературное обозрение, 2003. -400 с.
- Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. -М.: КРОНПРЕСС, 1997. -655 с.
- Черный В. Д. Райские кущи Древней Руси//Наука в России. -2002. -№ 4. -С. 94-103.
- Чумак О. С. Концепт жизнь в поэтических текстах романа «Доктор Живаго» как отражение нравственного идеала Б. Л. Пастернака//Филологические этюды. -Саратов, 2001. -С. 211-214.