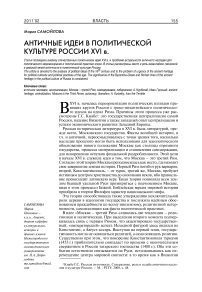Античные идеи в политической культуре России XVI в
Автор: Самойлова Мария Павловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 2, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу отечественных политических идей XVI в. и проблеме актуальности античного наследия для политического мировоззрения и политической практики эпохи. В статье рассмотрены место и роль византийско-греческой и римской линий античности в политической культуре России.
Античное наследие, централизация, москва - третий рим, самодержавие, либерализм, а. курбский, иван грозный
Короткий адрес: https://sciup.org/170165719
IDR: 170165719
Текст научной статьи Античные идеи в политической культуре России XVI в
В XVI в. началась переориентация политических взглядов правящих кругов России с греко-византийского политического идеала на идеал Рима. Причины этого процесса уже рассмотрены Г.С. Кнабе1: это государственная централизация самой России, падение Византии а также западный опыт централизации и успехи экономического развития Западной Европы.
Русская историческая литература в XVI в. была литературой, прежде всего, Московского государства. Факты всеобщей истории, в т.ч. и античной, переосмысливались с точки зрения того, насколько наследие прошлого могло быть использовано для идеологического обоснования нового положения Москвы как столицы огромного государства, процесса централизации и становления самодержавия, для искоренения остатков феодальной раздробленности. Этой цели в начале XVI в. служила идея о том, что Москва – это третий Рим. Согласно этой теории Москва преподносилась как место, где находит свое завершение земная история. Первый Рим погиб от рук варваров, второй, Константинополь, – от турок, третий же, Москва, пребудет истинным центром христианства до скончания веков, ибо православие превосходит латинскую веру. Такая теория позволяла всем землям бывшей удельной Руси примириться с подчинением Москве, видя в этом промысел Божий. Библейская версия мировой истории приобрела в теории Филофея характер национального мифа.
САМОЙЛОВА Мария
Павловна – к.и.н., доцент; доцент кафедры культурологии, истории и древних языков Нижегородского госу д арстве н ного лингвистического университета им. Н.А. Добр о любо в а mp.samoilova@mail. com
Эта теория способствовала также утверждению исключительной роли церкви в идеологии государства и послужила идейным обоснованием враждебности ко всему иноземному, религиозной нетерпимости, самоизоляции как факта политической практики.
В идее «Москва – третий Рим» сливались две тенденции – религиозная и политическая. При выделении второго момента подчеркивалась связь с первым Римом, что акцентировало государственный, «императорский» аспект. Исходной фигурой здесь являлся не Константин, а Август-кесарь. Выступая на первый план, государственность могла не освящаться религией, а сама освящать религию. Существенно при этом, что покорение Константинополя турками (1453 г.) приблизительно совпадает по времени с окончательным свержением в России татарского господства (1480 г.). Оба эти события естественно связываются на Руси, истолковываясь как перемещение центра мировой святости: в то время как в Византии имеет место торжество мусульманства над православием, в России совершается обратное, т.е. торжество православия над мусульманством.
С падением Константинополя московский государь оказался единственным независимым правителем православного мира. В условиях средневековой идеологии, когда только за носителями истинной веры признается право на истинное бытие, другие народы оказываются как бы несуществующими. Таким образом, глава Московского государства на языке этих понятий становился властителем всего мира.
Однако уже к середине XVI в., в период правления Ивана IV Грозного, одной византийско-христианской концепции для обоснования централизации, становления самодержавия было недостаточно – явственно ощущалась потребность в светской гражданской теории, в ясно выраженной политической идее. Господствовавший длительное время критерий непротиворечивости авторских суждений о природе власти истинам Священного Писания перестал удовлетворять отечественных мыслителей и политиков. Это отразилось также и на процессе освоения и использования ими античного наследия.
Поскольку Россия во второй половине XV в. превратилась в крупнейшее централизованное государство, она должна была определить свое место в кругу мировых держав. В предшествовавший период наша страна принадлежала к Византийскому содружеству, общение с которым удовлетворяло потребность во взаимодействии с широким зарубежным миром. С середины XV в. Византия уже перестала существовать как самостоятельное государство, хотя долго еще сохраняла значение исторического центра православия. С востока и севера Россия была окружена нехристианскими народами. Поэтому отечественной правящей элите оставалось обращать свой взгляд только на Запад, к динамично развивающимся странам Европы.
В процессе освоения античного наследия страны западной и средней Европы были ориентированы на традицию Рима как центра католицизма и европейской государственности. Рим играл для Европы роль эталона в государственной, политической, идеологической сферах, а также в сфере образованности. С другой стороны, духовная культура Византии уходила корнями к традициям древней Эллады.
В этой ситуации при выходе на мировую арену Россия должна была осваивать античное наследие в двух существовавших в тот период актуальных его проявлениях: римском – западном и византийском – восточном.
Для России античность отнюдь не была далекой от современности, замкнутой в прошлом исторической эпохой. Но между эллинским наследием, уже переданным России через Византию, и наследием античного Рима, которое Россия только теперь начинала внедрять в политическую практику, обнаруживалось коренное различие. На протяжении XVI–XVII вв. эллинское наследие продолжало рассматриваться главным образом в связи с внутренней проблематикой православия и как противовес римско-католическому влиянию в официальной идеологии. Наследие древнего Рима, напротив, оценивалось в неразрывной связи с государственно-политической практикой западноевропейских стран и с римским католицизмом, сливаясь с ними в единое представление о «латинстве».
К «латинству» отношение было двойственным. С одной стороны, оно отождествлялось с экспансией католицизма на православные славянские государства, с военной мощью западных стран, препятствовавших реализации внешнеполитических планов России по продвижению к морям, а также враждебной политикой по отношению к православным в западнорусских землях. Римско-католическое начало воспринималось как чуждое и угрожающее, враждебное народным традиционным ценностям.
С другой стороны, западный опыт государственной централизации, успешное экономическое развитие, военная мощь европейских стран обладали для царской власти и для авторитарных сил внутри русской православной церкви большой при-влекательностью1.
Яркой иллюстрацией, раскрывающей суть указанных процессов, может служить переписка царя Ивана Грозного с князем Андреем Курбским – видным вельможей, известным полководцем, который прославился удачными военными действиями в Ливонии. В годы реформ Ивана IV он входил в число ближайших советников царя –
Избранную раду. В 1560-х гг., когда большинство бывших членов правительства и приближенных Ивана IV попали в опалу, Курбский, опасаясь, что и он тоже может разделить их участь, весной 1564 г. бежал в Польшу. Оттуда он написал царю письмо, в котором объяснял свой поступок и разоблачал царскую политику репрессий. Царь ответил Курбскому подробнейшим посланием, которое получило характер пропагандистского документа. Результатом дальнейшего обмена письмами стали два послания царя и три – Курбского.
Государственно-политические взгляды обоих авторов обоснованы авторитетом Священного Писания. Оба отличаются обширной эрудицией в вопросах религии, доскональным знанием текста Священного Писания и логической аргументацией своих убеждений.
Эрудиция и освоение античного культурного наследия входили среди людей определенного круга (Нил Сорский, новгородский архиепископ Геннадий, Иосиф Волоцкий, Максим Грек) в своеобразную норму, в число признаваемых достоинств личности. Эрудицию в области античной истории и культуры демонстрируют и оба автора рассматриваемой переписки. Грозный включает в свое послание целый исторический экскурс, касающийся процесса государственной централизации в поздней античности, в тексте писем Ивана Грозного и Курбского встречается множество имен персонажей античной мифологии, упоминаются Аполлон, Зевс, Дионис, Рея, Геракл, Крон и др.1
Однако в подходе царя и князя к проблеме античного политического наследия на первый план выступает глубокое различие. Греческий материал, играющий решающую роль в византийские и исихаст-ские времена, теперь в выкладках обоих корреспондентов почти не присутствует, речь в их письмах идет только о Риме. Рим в этой переписке становится символом и родоначальником двух общественно-политических и культурных систем: прообразом империи, примером государственной централизации, с одной стороны, и либерально-западным эталоном русской культуры – с другой.
Выразителем первого направления восприятия антично-римского наследия яв- ляется Иван Грозный. Православие мыслится им как религия подчинения: «Вы не захотели жить под властью Бога и данных Богом государей, а захотели самоволь-ства»2. Отношения подданных и царя – отношения рабства и господства. Такое общественное устройство совершенно исключает учет мнения кого бы то ни было, высказывание своего мнения равносильно бунту, безбожию. Подобное понимание власти, помимо своего религиозного обоснования, заключается в абсолютном благе государственной централизации, единодержавия и абсолютном зле, заключенном в любом от них отклонении. Грозный пишет в письме к Курбскому: «Ты ведь в своей бесовской грамоте писал, изворачиваясь разными словами, все одно и то же, восхваляя такой порядок, когда рабы властвуют помимо государя. Я же усердно стараюсь обратить людей к истине и свету, чтобы они познали единого и истинного Бога, в Троице славимого, и данного им Богом государя и отказались от междоусобных браней и преступной жизни, подрывающих царства… Если царю не повинуются подданные, они никогда не оставят междоусобных браней»3.
Для обоснования этих рассуждений царь обратился к античному наследию, а именно к опыту Римской империи, довольно точно очерчивая границы Римской державы во времена расцвета принципата, то есть в эпоху Августа-кесаря. Весь данный период в истории Рима действительно был временем формирования централизованного государства, абсолютизации власти правителя, и Иван Грозный имел основания опереться на его опыт. Но опыт этот он истолковал не столько через обстоятельства реального Рима, сколько через опыт политической практики Византии, и в этом смысле образ Рима использовался им так же, как и в теории «Москва – третий Рим».
Идейными опорами власти римских принцепсов согласно неписанной конституции, созданной Августом-кесарем, были понятия primus inter pares и optimus princeрs. Первое означало, что император лишь первое лицо среди первых лиц государства; он на них опирается, действует от имени коллективного руководства страной. Второе – что его власть непре- рекаема не по природе, а в силу соответствия ее естественному ходу мироздания и универсальному нравственному закону. Отклонение же от одного и от другого лишает власть моральной санкции, превращает правителя из государя в тирана и освобождает подданных от обязанности выполнять его распоряжения. Суждения Ивана Грозного показывают, что оба эти принципа были ему глубоко чужды.
Зато в посланиях Курбского именно они лежат в основе понимания им античного политического и культурного опыта и рассматриваются как теоретическая основа верховной власти. Эрудиция Курбского в области античного мира становится своего рода политическим мировоззрением, альтернативным по отношению к политическому мировоззрению Ивана Грозного, в котором главной остается вертикаль «Бог – царь – рабы». Курбский же пишет о «естественных законах», о «царской совести». Цитируя Цицерона, Курбский пишет: «Посмотри же, царь, со вниманием: если языческие философы по языческим законам дошли до таких истин и до такого разума и великой мудрости между собой, как говорил апостол: “Помыслам, осуждающим и оправдывающим”, и того ради допустил Бог, что владеют они всей вселенной, то почему же мы называемся христианами, а не можем уподобиться не только книжникам и фарисеям, но и людям, живущим по естественным зако-нам!»1 Такой способ принятия античного наследия навеян Курбскому западноевропейским опытом и неотделим для него от этого опыта. Он пишет об этом в нескольких местах посланий, противопоставляя обычаи России и Запада.
Таким образом, в XVI в. возникают и противостоят друг другу два способа восприятия античного наследия: с одной стороны, как приспособление отдельных элементов античной культуры к местным условиям, с другой – как более полное, глубокое понимание основ античной культуры, но доступное лишь западному взгляду. Рим в России XVI в. воспринимался двояко: через духовный и политический опыт Западной Европы Нового времени, а также в связи с политическим традициями Византии. Рим для правящих кругов России второй половины XVI в. ассоциировался с военной и экономической силой. Обеспечение военного и экономического прогресса было делом царя и правительства, но в условиях, когда подавляющая масса населения была к этому прогрессу мало подготовлена. Основной формой подъема производительных сил было все более широкое закрепощение крестьян. Тем самым вырисовывалось и нарастало противоречие между государством – передовым, открытым международному опыту и именно поэтому чуждым непосредственной реальности народной жизни, и народом, который по своей отсталости и усталости был воплощением национальной культурно-политической самоидентификации.
Антично-эллинское наследие находилось в иных, чем римское, отношениях с народно-национальным началом и становящимся централизованным государством. Его освоение все больше становилось достоянием, в первую очередь, людей, получивших хорошую языковую подготовку, способных комментировать древние тексты. Греческое наследие воспринималось этими людьми как исток православия в его противостоянии христианству католическому, связанному с Римом.