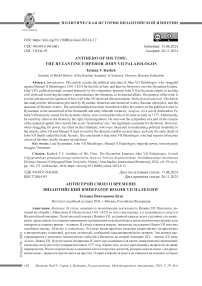Антигерой своего времени: византийский император Иоанн VII Палеолог
Автор: Кущ Т.В.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Политическая история Византийской империи
Статья в выпуске: 6 т.29, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье освещается политическая деятельность Иоанна VII Палеолога, который вел борьбу с Мануилом II Палеологом (1391-1425) за титул наследника, а в дальнейшем и власть в Византийской империи. Политический портрет Иоанна VII, созданный прежде всего усилиями его конкурента, представлял его главным виновником в разжигании междоусобицы и вовлечении во внутренние дела империи ее главных врагов - османов. В статье ставится вопрос, насколько заслуженно Иоанн VII получил подобную оценку. Методы и материалы. В статье анализируются сведения византийских исторических и риторических сочинений, русских летописей, сообщений западноевропейских авторов. Эти данные рассматриваются в контексте политических событий в Византии во второй половине XIV - начале XV века. Анализ. Иоанн VII, будучи сыном Андроника IV, имел все основания для своих династических притязаний, поскольку получил титул соправителя еще в 1377 году. Кроме того, он мог претендовать на престол по праву первородства. На его стороне были и симпатии части столичных жителей, которые видели в нем, «Андрониковом сыне», законного претендента на престол. Однако в борьбе за власть он опирался на османов, которые были заинтересованы в поддержании политической нестабильности в империи. Несколько раз Иоанн VII и Мануил II предпринимали попытки урегулировать династический конфликт. И только ранняя смерть Иоанна VII окончательно прекратила вражду.
Поздняя византия, иоанн vii палеолог, мануил ii палеолог, императорская власть, внутридинастическая борьба, османы
Короткий адрес: https://sciup.org/149147541
IDR: 149147541 | УДК: 94(495)+94(560) | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.6.12
Текст научной статьи Антигерой своего времени: византийский император Иоанн VII Палеолог
DOI:
Цитирование. Кущ Т. В. Антигерой своего времени: византийский император Иоанн VII Палеолог // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 6. – С. 162–171. – DOI:
Светлой памяти Николая Дмитриевича Барабанова
Введение. Историю, как часто говорят, пишут победители, они же создают образы героев и антигероев своего времени. Примеры тому в истории Византийской империи встречаются довольно часто. Так, иконоборческий период в историческом нарративе был представлен сторонниками победивших иконопочитателей, которые создали «правильную» версию событий: сохранившиеся в исторической традиции образы императоров и патриархов, проводивших иконоборческую политику, изобилуют отрицательными чертами «истинных злодеев эпохи» [31, S. 177–188]. Некоторые же правители еще при жизни испытали на себе переменчивость общественного мнения, превратившись из героя, любимца сограждан, в антигероя, ненавистного тем, кто еще недавно его почитал. В качестве наиболее яркого примера можно вспомнить историю жизни Андроника I Комнина (1183–1185) с ее трагической развязкой. Средневековью известны и более сложные метаморфозы коллективной памяти, как, например, эволюция образа короля Кипра Петра (Пьера) I Лузиньяна (1359–1369) от героя к тирану и обратно [1]. Византийская история знает и такие случаи, когда проигравший политическую борьбу император, не желая мириться с возможным забвением и перспективой предстать в глазах потомков антигероем, позаботился о том, чтобы защититься перед судом истории. Ярким примером тому служит фигура Иоанна VI Кантакузина (1341–1354), который после своего низложения составил исторический труд, носивший ярко выраженный апологетический характер [34]. Этот пример самореабилитации проигравшего политическую схватку императора весьма показателен – он позволяет понять, сколь важно было для Кантакузина донести до потомков свою версию событий, участником которых он был, и каким образом он создавал собственный исторический портрет. Проверка подобных мифов – удел историков.
К числу византийских правителей, оставшихся в исторической памяти если не злодеями, то антигероями, можно отнести Иоанна VII Палеолога (род. ок. 1370 – ум. 22.09.1408) [28, № 21480], политический портрет которого был сформирован прежде всего усилиями его политического соперника (и по совместительству – дяди) Мануила II Палеолога (1391–1425). В сочинениях последнего его племянник представлен главным врагом ромеев, политика которого угрожала самому существованию империи. Вслед за Мануилом II и византийские историки XV в. осудили политические действия этого представителя дома Палеологов. Как отмечает историк Дж. Деннис, «история не была благосклонна ни к Иоанну VII, ни к его отцу Андронику IV, ни ко времени, в которое они жили» [16, p. 205]. Действительно ли Иоанн VII заслужил подобную оценку современников и потомков или же он просто стал жертвой диффамации со стороны своего конкурента в борьбе за византийский трон? Об этом и пойдет речь в данной статье.
Методы и материалы. Личность Иоанна VII не обойдена вниманием исследователей [9; 12; 17; 35]. В специальных работах и обобщающих трудах не раз отмечалась та важная роль, которую он сыграл в политической жизни империи. Однако, по мнению историков, писавших о нем, его действия заслуживали порицания: Иоанна, как и его отца, обвиняли в коварстве, стремлении к узурпации власти, постоянной оппозиции правящему императору, втягивании турок во внутренние дела империи. А вот Дж. Деннис оценивает эту фигуру не столь критически, подчерки- вая, что современники не всегда отзывались о нем негативно, и приводит свидетельства византийских авторов, отмечавших управленческие таланты Иоанна в период его правления в Фессалонике [16, p. 216–217]. Опираясь на сведения, почерпнутые из византийских исторических и риторических сочинений, русских летописей, сообщений западноевропейских авторов, а также на анализ политических событий второй половины XIV – начала XV в., мы далее покажем, почему для Византии Иоанн VII Палеолог, имевший основания стать героем своего времени, все же оказался его антигероем.
Анализ. Иоанн родился около 1370 г. в Константинополе в семье наследника престола Андроника и Марии, дочери болгарского царя Ивана Александра Асеня. Андроник, его отец, являлся старшим сыном и с 1355 г. соправителем правящего императора Иоанна V Палеолога (1341–1391). Несмотря на статус, гарантировавший ему в будущем власть в империи, Андроник не раз проявлял неповиновение и бунтовал против отца, стремясь оказаться на троне ранее положенного срока [4]. В эту борьбу между порфирородными родственниками с ранних лет оказался втянут и юный Иоанн.
Первый конфликт между Иоанном V и Андроником разгорелся во время путешествия императора в Италию в 1369–1371 гг. из-за того, что молодой соправитель отказался собирать деньги на покрытие отцовских долгов перед Венецианской республикой [13, p. 12; 22]. А вот Мануил, средний сын императора, пришел на помощь отцу, попавшему в трудную ситуацию, за что в результате и получил в 1373 г. титул соправителя [13, p. 23]. Андроник, лишившись права наследования, попытался захватить власть в империи. Но его попытка потерпела крах: Андроник, как и его малолетний сын Иоанн, был частично ослеплен, лишен прав на наследство и заточен вместе с семьей в башню Анема [10, c. 305–314, 350–354, 387–403; 19; 25]. Как пишет историк Дука, Иоанн тогда «был ребенком, только начинавшим говорить» [20, XII. 2.28, p. 71].
Однако Андронику удалось в августе 1376 г. бежать из заключения. В Галате он нашел поддержку у генуэзцев, недовольных сотрудничеством правящего императора с их главными соперниками – венецианцами. Помощь мятежнику оказали и турки. При внешней поддержке Андроник осадил Константинополь и после месячной осады 12 августа 1376 г. его сторонники открыли ему ворота города. Заняв столицу и получив власть в империи, Андроник заточил свергнутого отца-императора и двух своих братьев в башню Анема, где еще недавно находился сам [6]. 18 октября 1377 г. состоялась официальная коронация Андроника IV [32, Chr. 7/18]. Как пишет византийский историк Халкокондил, «он (Андроник. – Т. К.) провозгласил также своего сына Иоанна правителем над греками» [23, II. 6, p. 98]. Юный Иоанн, таким образом, получил титул соправителя и законные основания в дальнейшем претендовать на императорскую корону.
Спустя три года ситуация вновь радикально изменилась: Иоанн V Палеолог бежал из тюрьмы и с помощью султана он вернул себе престол (1 июля 1379 г.), вынудив Андроника искать убежища в Галате. Вскоре конфликтующие стороны пришли к компромиссу: Андроник получил в управление Силимврию, Данею, Ираклию, Редест и Панид, ставшие его апанажем [20, XII. 4.26–27, p. 73], и титул соправителя. Несмотря на достигнутое перемирие, Андроник вновь выступил против отца, был разбит и в 1385 г. умер в Силимврии.
Со смертью Андроника внутридинасти-ческая борьба, вносившая сумятицу в политическую жизнь империи, не прекратилась. За право считаться наследником вступили в борьбу Мануил II, носивший титул соправителя, и Иоанн VII, ранее провозглашенный соимператором. В основе их конфликта лежала старая проблема сосуществования двух принципов правопреемства в византийской династической традиции – по праву первородства и последовательного заступления линий по нисходящей (основание для Иоанна VII получить власть в империи) и по старшинству в роду (основание для Мануила II быть главным претендентом на трон) [5, c. 129; 8, c. 51–55]. Несмотря на отсутствие в Византии закона о престолонаследии, что являлось, по выражению Ш. Диля, ее серьезным конституционным пороком [2, с. 61], в правление Палеологов закрепилась практика передачи власти через институт соправительства – с его помощью действующий император лично определял того, кто будет ему наследовать [7, c. 181–182; 29, p. 58–60]. Однако традиция передачи власти по праву первородства не была забыта византийцами, которые, что показали дальнейшие события, воспринимали Иоанна, сына Андроника, как законного претендента на престол. Иоанн VII, таким образом, не только имел все основания для своих династических притязаний, но и мог рассчитывать на общественную поддержку.
То, что претензии Иоанна VII были не беспочвенны, признавал, по всей видимости, и его главный соперник – Мануил II, ставший императором в 1391 году. В «Нравственном диалоге, или О браке», составленном им между 1394 и 1396 гг., поднимается тема правопреемства – ключевая в оценке автором причин внутридинастического конфликта. Как признавался сам Мануил, написать это сочинение его заставила постоянная угроза, исходившая от племянника [33, ep. 62.2–4]. В уста своей матери Елены Палеологины он вложил слова, передающие его собственные опасения лишиться престола: «Ты должен быть более осторожным, мой дорогой, чтобы, раз порядок (наследования. – Т. К. ) не был установлен, тебя не свергли, а он (Иоанн. – Т. К. ) не занял бы твое место прежде времени» [27, p. 112.941–943]. Мануил II вполне отдавал себе отчет, что его племянник никогда не откажется от своих прав и в любой момент может начать действовать. Более того, Мануил знал и о том, что в его окружении немало тех, кто готов поддержать Иоанна VII. Эта мысль выражена в других словах, приписанных императрице-матери: «Множество твоих близких сторонников даже до того, как он (Иоанн. – Т. К. ) примет власть, могут стать его друзьями» [27, p. 112.954–955]. Таким образом, Мануил вполне осознавал уязвимость своего положения и обоснованность политических амбиций племянника.
О том, что Иоанн VII, правивший в Силимврии, после смерти отца считал себя обойденным в вопросе престолонаследия, свидетельствует сообщение византийского историка Дуки. Когда новый султан Баязид I (1389–1402) приказал Иоанну сдать крепость, тот отказался, заметив, что это было единственное, чем он владел, хотя вся империя, которая досталась Мануилу, «второму сыну»
императора, должна была принадлежать его отцу и ему [20, XIV. 2.7–13, p. 83]. Другими словами, Иоанн VII не скрывал своих притязаний и считал несправедливостью то, что его отец и он сам были лишены права считаться наследниками.
Султан, которому на руку была политическая нестабильность в империи, использовал ситуацию в своих интересах и выступил в качестве защитника интересов юного Палеолога [13, p. 70]. Как пишет историк Дука, всякий раз, когда Баязид требовал уступить ему Константинополь, он прикрывался именем Иоанна: «Ты, Мануил, уходи из Города [Константинополя]. Пусть Иоанн вступит в него как законный наследник империи, я позабочусь о всеобщем спокойствии и установлю мир с ее гражданами» [20, XIV. 2.15–17, p. 83]. Так, Иоанн VII, не имевший иных возможностей отстоять свои права, сделал ставку на союз с той внешней силой, которая меньше всего была заинтересована в установлении внутреннего мира в империи. Впрочем, в действиях Иоанна не было ничего экстраординарного. Он поступал точно также, как и многие его предшественники. Еще Иоанн VI Кантакузин, его дед, опирался на турок в борьбе с политическими конкурентами [21, p. 57–58]. Иоанн V Палеолог и Андроник IV, соперничавшие друг с другом за власть, также искали поддержки у султана, отводя тому роль третейского судьи в своем династическом споре. Но в конце XIV в., когда в результате османских завоеваний ромеи потеряли все малоазийские земли и бóльшую часть балканских владений, а император признал свою вассальную зависимость от султана, помощь главных врагов империи могла принести лишь «пиррову победу» тому, кто за ней обращался.
Последствия османского вмешательства в междоусобицы Палеологов очень точно описал Димитрий Кидонис в письме деспоту Мореи Феодору I Палеологу, составленном в 1391 г.: «Продолжает свирепствовать старое зло, которое принесло общее разорение. Я имею в виду раздоры между императорами из-за призрака власти. Ради этого они вынуждены служить варвару (султану. – Т. К.); это единственный путь, дающий возможность дышать. Всякий понимает, что кому из двоих варвар окажет поддержку, тот и возоблада- ет. Поэтому императоры по необходимости превращаются в его рабов на глазах у всех граждан и живут в соответствии с его требованиями» [14, ep. 442.42–56]. Понимал ли Иоанн, опиравшийся на османов как на главных союзников в своей борьбе за престол, к чему это приведет и чем ему придется за это заплатить? Видимо, да, поскольку он не раз выражал готовность признать вассальную зависимость от султана. Как заметил Мануил, султан пообещал Иоанну «столицу в качестве дара» взамен на рабскую зависимость от турок [27, p. 98.711]. Подчинение османам, вероятно, не казалось ему слишком высокой платой за власть в Константинополе.
Иоанн перешел к активным действиям в 1390 г., незадолго до смерти правившего тогда императора Иоанна V Палеолога. При поддержке османов он попытался захватить власть в Константинополе. Русский паломник Игнатий Смолянин, находившийся тогда в византийской столице, сделал следующую запись: «В л ѣ то 6898 (1390) Андроников сын Калоан нача искати в Цариград ѣ царства с турскою помощию» [26, p. 101]. После недолгой осады Иоанн вступил в Константинополь и 14 августа 1390 г. провозгласил себя императором. Стоит отметить, что на стороне Иоанна оказались и симпатии части столичных жителей. В Константинополе было достаточно сторонников Иоанна. Когда он занял столицу, часть горожан, как пишет русский очевидец, приветствовала «Андроникова сына Калоа-на» аккламациями, выкрикивая пожелания долгих ему лет жизни [26, p. 101–103]. «И бѣ чюдно видѣти и слышати кипѣние граду... До вечераже поклонишася вси царю младому Андрониковичу, и утишися град, и преложись печаль на радость», – замечает Игнатий [26, p. 103]. Обращает на себя внимание тот факт, что столичные жители воспринимали Иоанна как «Андроникова сына» – в его легитимности у них не было сомнений.
Став императором, Иоанн VII попытался не допустить сближения смещенного василев-са Иоанна V и его соправителя Мануила с венецианцами, к помощи которых те не раз прежде прибегали. Узурпатор поторопился заключить с Республикой пятилетний договор, предоставлявший ее подданным торговые преференции в византийской столице [18, № 3192], а также направил послов с предложением Венеции выступить посредником между ним и его дедом [18, № 3192a], тем самым давая понять, что той следует занять нейтральную позицию в споре Палеологов за власть. Республика, очевидно, последовала его совету, о чем свидетельствует ее ответ, который, правда, пришел уже после смещения Иоанна VII. Светлейшая заверяла в том, что венецианцы не привыкли вмешиваться во внутренние распри других государств [30, № 780], что, конечно, было далеко не так.
Иоанн VII продержался на императорском престоле около полугода. В сентябре 1390 г. Мануил II при поддержке родосских госпитальеров изгнал его, вынудив вернуться в Силимврию [13, p. 76–78], где тот стал править, продолжая грезить о власти в империи.
Мануил II тоже понимал, что Иоанн лишь выжидает удобного момента для новой попытки захватить престол. Не случайно после смерти императора Иоанна V Палеолога 15 февраля 1391 г. Мануил II, находившийся в тот момент при дворе султана в Бурсе, поспешил вернуться в Константинополь, чтобы опередить племянника. Уже 8 марта 1391 г. он прибыл в столицу, где и объявил себя императором; официальная же коронация состоялась 11 февраля 1392 года.
Однако оставить конфликт неразрешенным было не в интересах обеих сторон. Соперники попытались урегулировать вопрос о правопреемстве. Примерно в 1392–1394 гг. между ними было заключено соглашение, по которому Мануил II подтвердил права племянника на престол, а тот, в свою очередь, признавал сына Мануила Иоанна (будущего Иоанна VIII) своим наследником. Мануил воспринимал достигнутую договоренность как династическую уступку ради спокойствия в империи: «Я с радостью позволил ему считать моего первенца за сына, я поставил общий интерес выше интересов моего сына – и правильно» [27, p. 112.927–928].
Примирение оказалось непрочным: Иоанн постоянно пытался за спиной дяди договориться с турками, рассчитывая с их помощью досрочно получить власть в империи. Более того, он присоединился к войску султана, осаждавшего с 1394 г. Константинополь, чем вызвал негодование своих соотечественников.
Софийская летопись сообщает следующее: «В лҍто 6903 (1395) <...> приходилъ Кола-чанъ царь Турьскiй, Андрониковъ сынъ, со многими силами ко Царюграду, и выиде изъ Царяграда царь Мануилъ Греческый, съ Гре-кы и с Фрягы срҍти Турковъ и прогони ихъ въ Турьскую землю» [11, c. 246]. Летописец называет Иоанна « царем Турским », что, очевидно, отражало отношение горожан к тому, что молодой Палеолог выступил на стороне врага. Действительно, в осажденном городе многие были настроены против него, считая, что он продался туркам, хотя находились и те, кто полагал, что в случае, если Иоанн с османской помощью займет город, беды жителей прекратятся. По замечанию Дуки, среди населения начались раздоры – одни призывали к сопротивлению, другие же говорили: «Пусть Иоанн вступит в город и положит конец возмущениям» [20, XIV. 3.18–19, p. 83].
И все же Иоанн не до конца доверял туркам и даже пытался вести двойную игру, о чем свидетельствует один сохранившийся документ, составленный в июле 1397 г. на латинском языке. Согласно ему, Иоанн VII уполномочил своего тестя, правителя о. Лесбос Франческо Гаттилузи вести от его (Иоанна) имени переговоры с французским королем Карлом VI Валуа о передаче тому своих прав на византийский престол. В обмен на это Иоанн просил для себя ежегодную плату в 25 тыс. флоринов и замок во Франции [36, σ. 248–251]. Очевидно, его расчет состоял в том, чтобы с французской помощью завладеть византийской короной, которую в дальнейшем он обещал уступить королю. Ответа на предложение не последовало. Напротив, Карл VI поддержал законного императора Мануила II, обратившегося к нему за помощью, и отправил в осажденный османами Константинополь отряд французских рыцарей.
Опасность захвата турками византийской столицы, которую те держали в осаде уже несколько лет, заставила Мануила в поисках союзников отправиться в путешествие по европейским дворам. При содействии маршала Франции Жана II Ле Менгра по прозвищу Бусико, который командовал прибывшими в Константинополь в 1399 г. рыцарями, враждовавшие стороны примирились. Биограф Бусико так описал причины раздора, губи- тельные последствия распри и роль маршала в ее прекращении: «Кроме того, он (Бусико. – Т. К.) принес и другую пользу, так как император Мануил (Karmanoli), который еще жив и сегодня, в течение восьми лет находился в большой вражде со своим племянником по имени Иоанн (Calojany), и они воевали друг с другом. Причина этого спора заключается в утверждении племянника, что он должен получить в наследство империю, потому что его отец приходился старшим братом императору, который силой захватил империю; а император оспаривал это по другим причинам. Эта война и ссора, которая ее вызвала, лежали в основе разрушения Греции; и так сильно они были настроены друг против друга и тверды в своих требованиях, что мало кто из них был готов заключить мир. Племянник вступил в союз с турками, с помощью которых вел войну со своим дядей. Маршал, полагая, что эта война наносит ущерб христианскому миру и недостойна их обоих, взялся заключить мир между ними. Благодаря его благоразумию они пришли к соглашению; он сам отправился в город Силимврия (Salubrie) и привез племянника в Константинополь, где его дядя оказал ему теплый прием. Все греки возрадовались и возблагодарили Господа за то, что он послал им маршала, который заключил священный мир и совершил много других благодеяний» [24, p. 148–149]. По договоренности Иоанн VII становился правителем в Константинополе на время путешествия Мануила II по Западной Европе (1399–1403) [32, Chr. 7/26; 35/4]. Но, судя по тому, что император не решился оставить в столице жену и детей, препоручив заботы о них своему брату, деспоту Мореи Феодору, он не до конца доверял племяннику. И тем не менее под давлением обстоятельств ему пришлось передать власть в столице Иоанну VII.
Главным условием их примирения стало признание за Иоанном прав на наследование. Испанский дипломат и путешественник Руи Гонсалес де Клавихо, посетивший Константинополь в 1403 г., описывает достигнутый ранее компромисс следующим образом: «Теперь они порешили, что будут оба называться императорами и что после смерти того, который теперь владеет империей, будет императором другой, а после его кончины будет сын того, который теперь царствует, а потом сын другого» [3, c. 45]. По сути, эта договоренность повторяла соглашение 1392–1394 гг., но с той лишь разницей, что теперь в число наследников престола включили Андроника, малолетнего сына Иоанна VII, появившегося на свет в 1400 году. Установленный таким образом принцип наследования становился еще более запутанным, что создавало почву для новых конфликтов.
По возвращении из поездки Мануила власть в империи вновь перешла к нему, Иоанн же сохранил статус соправителя и получил во владение возвращенную от турок в 1403 г. Фессалонику. Очевидно, Иоанн VII питал надежды когда-нибудь получить заветную власть в империи и закрепить престол за своей линией. С этой целью он в 1403/1404 г. провозгласил своим соправителем малолетнего сына Андроника [15, p. 180]. Однако его планам не суждено было осуществиться: в 1407 г. умер юный Андроник, а примерно через год не стало и Иоанна VII. Ранняя смерть Иоанна VII и его наследника окончательно прекратила вражду. Византийский престол в дальнейшем наследовали сыновья Мануила II, которые, правда, тоже не избежали внутридинастиче-ской свары.
Результаты. Иоанн VII, имевший все основания претендовать на власть в империи, в течение долгих лет добивался реализации своих прав и не оставлял надежд в какой-то момент занять византийский престол. Однако территория империи, об управлении которой он грезил, к концу XIV в. фактически ограничивалась ее столицей. Именно поэтому его противоборство с Мануилом II сводилось к борьбе за обладание Константинополем. На стороне Иоанна, особенно на начальном этапе междоусобицы, были симпатии части столичных жителей, которые видели в нем, «Андрониковом сыне», законного наследника. Но добиваясь власти, Иоанн VII сделал ставку на помощь османов, которые в тот период представляли главную опасность для самого существования империи. Мануил II, характеризуя его действия, писал: «мой ненавистный племянник – это самый худший жребий для ромеев и наказание для него самого: он делает то, что, как он считает, приведет его к власти, но на самом деле то, что он делает, приведет к рабству» [28, S. 98.698–701]. Избранный Иоан- ном VII способ достижения своей цели грозил разрушить империю, поскольку она фактически оказалась бы в руках османов, что, кажется, его не смущало – слишком сильным было его желание стать императором. В условиях угрозы захвата турками Константинополя Иоанн, руководствуясь собственными политическими амбициями, действовал вразрез интересам государства и сограждан, что сделало его не только антиподом Мануила II Палеолога, но и подлинным антигероем своего времени.
Список литературы Антигерой своего времени: византийский император Иоанн VII Палеолог
- Близнюк С. В. Король Кипра Пьер I Лу-зиньян: от героя до тирана и обратно // Известия Уральского федерального университета. Серия 2, Гуманитарные науки. 2022. Т. 24, № 3. С. 230-242. DOI: https://doi.Org/10.15826/izv2.2022.24.3.055
- Диль Ш. Основные проблемы византийской истории. М.: Изд-во иностр. лит, 1947. 183 с.
- Клавихо Р. Г. де. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406) / пер. со староисп., предисл. и коммент. И. М. Мироковой. М.: Наука, 1990. 211 с.
- Кущ Т. В. Внутридинастическая борьба в поздней Византии (по «Диалогу о браке» Ма-нуила II Палеолога) // Уральский исторический вестник. 2011. № 3. С. 35-40.
- Кущ Т. В. Соправительство и проблема престолонаследия в контексте династической борьбы в Византии XIV в. // Византийские очерки. Труды российских ученых к XXIII Международному конгрессу византинистов. СПб.: Алетейя, 2016. С. 121-133.
- Кущ Т. В. Узники башни Анема // Вопросы истории. 2014. № 11. С. 82-95.
- Лысиков П. И. Двоевластие? Специфика системы соправительства в Византии на рубеже XIII-XIV вв. и ее влияние на ситуацию в государстве // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25, № 6. С. 180-200. DOI: https://doi.org/10.15688/ jvolsu4.2020.6.14
- Медведев И. П. Правовая культура Византийской империи. СПб.: Алетейя, 2001. 575 с.
- МешановиЙ С. Jован VII Палеолог. Београд: Српске Академще наука и уметности, 1996. 155 с.
- РадиЙ Р. Време !ована V Палеолога (1332-1391). Београд: Српске Академще наука и уметности, 1993. 511 с.
- Софийская вторая летопись // Полное собрание русских летописей. Т. 6. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1853. С. 119-276.
- Barker J. W. John VII in Genoa: A Problem in Late Byzantine Source Confusion // Orientalia Christiana Periodica. 1962. Vol. 28, Fasc. 2. P. 213-238.
- BarkerJ. W. Manuel IlPalaeologus (1391-1425): A Study in Late Byzantine Statesmanship. New Brunswick; New Jersey: Rutgers University Press, 1969. 614 p.
- Démétrius Cydonès. Correspondance / publ. par R.-J. Loenertz. Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1960. Vol. 2. 497 p.
- Dennis G. T. An Unknown Byzantine Emperor, Andronicus V Palaeologus // Jahrbuch der Österreichischen byzantinistischen Gesellschaft. 1967. Bd. 16. P. 175-187.
- Dennis G. T. John VII Palaiologos: "А Holy and just Man" // BuÇavxio Kpàxoç Kai Koivœvia. Mvrç^n NiKou OiKovo^iSn / ed. A. Avramea, A. Laiou, A. Chrysos. Athens: Institute of Byzantine Studies, 2003. P. 205-217.
- Dölger F. Johannes VII., Kaiser der Rhomäer // Byzantinische Zeitschrift. 1931. Bd. 31. S. 21-36.
- Dölger F. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. München; Berlin: Verl. C.H. Beck, 1965. Bd. 5. 138 S.
- Dölger F. Zum Aufstand des Andronikos IV. gegen seinen Vater Johannes V im Mai 1373 // Revue des études Byzantines. 1961. T. 19. P. 328-332.
- Ducas. Historia Turco-Byzantina (13411462) / ed. V. Grecu. Bucarest: Editio Academiae Reipublicae Popularis Romanicae, 1958. 503 p.
- Gill J. John VI Cantacuzenus and the Turks // BuÇavxivâ. 1985. T. 13/1. P. 56-76.
- Halecki O. Two Paleologi in Venice, 13701371 // Byzantion. 1944. Vol. 17. P. 331-335.
- Laonikos Chalkokondyles. The Histories / ed. and transl. by A. Kaldellis. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press, 2014. Vol. 1. 537 p.
- Le livre des fais du bon messier Jehan le Main-gre, dit Bouciquaut, mareschal de France et gouverneur de Jennes / ed. D. Lalande. Genève: Librairie Droz, 1985. 549 p.
- Loenertz R. La première insurrection d'An-dronic IV Paléologue, 1373 // Échos d'Orient. 1939. Vol. 38. P. 342-345.
- Majeska G. P. Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1984. 462 p.
- Manuel Palaiologos. Dialogue withthe Empress-Mother on Marriage / introd., text and transl. by A. An-gelou. Wien: Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss., 1991. 135 p.
- Prosopographisches Lexikon der Palaiologen-zeit / erstellt von E. Trapp [et alii]. Wien: Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss., 1989. Fasc. 9. 216 S.
- Raybaud L.-P. Le gouvernement et l'administration central de l'empire byzantin sous les premiers Paléologues (1258-1354). Paris: Sirey, 1968. 293 p.
- Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie / éd. par F. Thiriet. Paris; La Haye: Mouton & Co, 1958. Vol. 1. 247 p.
- Rochow I. Kaiser Konstantine V (741-775): Materialen zu seinem Leben und Nachleben. Frankfurt am Main: P. Lang, 1994. 274 S.
- Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken (Chronica Byzantina Brevoria). Wien: Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss., 1975. T. 1. 688 S.
- The Letters of Manuel II Palaeologus / ed. G. T. Dennis. Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1977. 252 p.
- Tinnefeld F. Idealizing Self-Centered Power Politics in the Memoirs of Emperor John VI Kantak-ouzenos // Tô eAl^viKov: Studies in Honor of Sp. Vtyo-nis / ed. J. S Langdon. New Rochelle (N. Y.): Aristide D Caratzas Pub., 1993. Vol. 1. P. 397-415.
- Wirth P. Zum Geschichtsbild Kaiser Johannes VII. // Byzantion. 1965. Vol. 35. S. 592-600.
- Lampros Sp. Iöannou Z Palaiologou eghöresis tön epi tes bizantiakes autokratorias dikaiömatön eis ton basilea tes Gallias Karolon C [Transfer of Rights to the Byzantine Empire by John VII Palaiologos to the King of France Charles VI]. Neos Hellinomnimon, 1913, t. 10, pp. 248-251.