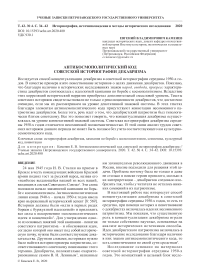Антикосмополитический код советской историографии декабризма
Автор: Каменев Евгений Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Исследуется способ концептуализации декабризма в советской историографии середины 1950-х годов. В качестве примера взято повествование историков о целях движения декабристов. Показано, что благодаря наличию в исторических исследованиях знаков народ, свобода, прогресс характеристика декабристов соотносилась с идеологией кампании по борьбе с космополитизмом. Вследствие этих корреляций исторический нарратив приобретал дополнительный смысловой уровень. Тексты советских историков свидетельствовали не только о революционности декабристов, что достаточно очевидно, если мы их рассматриваем на уровне денотативной знаковой системы. В этих текстах благодаря элементам антикосмополитического кода присутствуют коннотации несомненного патриотизма декабристов. Более того, речь идет о том, что декабристский патриотизм был типологически близок советскому. Все это позволяет говорить, что концептуализация декабризма осуществлялась на уровне коннотативной знаковой системы. Советская историография декабризма середины 1950-х годов отличается несомненной полисемантичностью. В этой связи анализ трудов советских историков данного периода не может быть полным без учета соответствующего им культурносемиотического кода.
Историография декабризма, кампания по борьбе с космополитизмом, семиотика, культурный код, коннотации
Короткий адрес: https://sciup.org/147227267
IDR: 147227267 | УДК: 930.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.480
Текст научной статьи Антикосмополитический код советской историографии декабризма
24 мая 1945 года И. В. Сталин на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной армии поднял тост за русский народ, назвав его «наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза»1. Эти слова положили начало знаменитой кампании по борьбе с космополитизмом. Антикосмополитическая линия конца 1940-х – начала 1950-х годов имела ярко выраженный исторический аспект [8: 569]. Историки должны были «идти в первых рядах борцов с буржуазной идеологией» и приложить все силы к искоренению «космополитических идеек и концепций»2. Для утверждения одного из основных понятий этой кампании – понятия советского патриотизма – и обоснования идеи, согласно которой оно имеет под собой историческую почву, нужны были соответствующие доказательства. Другими словами, историкам нужно было найти в истории примеры патриотизма, соответствовавшего советскому пониманию этого термина. Декабристы, положительно охарактеризованные самим В. И. Лениным3, названные им зачинателями революционного движения в России, вполне подходили для решения этой задачи. Проблема поэтому была не только и даже не столько в поиске героев прошлого, сколько в их интерпретации – декабристов следовало изобразить так, чтобы у читателя не осталось никаких сомнений в их патриотизме.
В настоящей работе нас интересует способ концептуализации декабризма в советской историографии середины 1950-х годов, то есть те средства, при помощи которых в повествование о декабристах включалась идея их несомненного патриотизма. Мы покажем, что существенную роль в концептуализации декабризма играли не только собственно научные, основанные на анализе исторических источников способы. Идея декабристского патриотизма включалась в исторические исследования благодаря наличию в них знаков антикосмополитического кода, то есть семиотическим по своей сути средствам4.
Исследование основано на материалах советской историографии середины 1950-х годов. Это компактный и цельный блок иссле- дований, вышедших к 130-летию восстания декабристов и отражающих взгляды историков эпохи позднего сталинизма. Несмотря на то что эти труды были опубликованы в основном в середине 1950-х годов, работа над ними велась в период кампании по борьбе с космополитиз-мом5. Все эти тексты обнаруживают несомненную повторяемость как исторических сюжетов, так и их историографических трактовок, что позволяет обобщать единичные свидетельства.
В условиях, ограниченных рамками статьи, мы не претендуем на исчерпывающее исследование вопроса. В настоящей работе будут рассмотрены только те фрагменты научных исследований, в которых историки пишут о целях декабристского движения. В использованных нами текстах, учитывая их разнообразие (от двухтомной монографии М. В. Нечкиной, имеющей обобщающий характер, до небольших по объему статей, посвященных отдельным вопросам), повествование о целях движения декабристов встречается или во введении (как правило, это характерно для статей), или же в отдельных главах, что характерно для монографических исследований.
Методологической основой нашего исследования является семиотический анализ. Труды советских историков как тексты, созданные в пространстве советской культуры эпохи позднего сталинизма и выполняющие помимо научной еще и идеологическую функцию6, построены по принципу многоярусной семантики7 – в них содержится два смысловых уровня, и поэтому «одни и те же знаки служат на разных структурно-смысловых уровнях выражению различного содержания» [13: 286]. Именно поэтому мы сознательно исключаем из сферы внимания прямые указания на патриотизм декабристов, то есть указания, сделанные на уровне первичной знаковой системы, поскольку нас интересует вторичный смысловой уровень.
Теория и практика анализа текстов такого типа разработана и апробирована Роланом Бар-том8. Первичный смысловой уровень, согласно Барту, представлен естественным языком как денотативной знаковой системой. Его семантика доступна всякому, владеющему языком, на котором написан текст, поэтому чтение текста на этом уровне не представляет проблем. Вторичный семиотический уровень текста представлен его коннотативным компонентом – теми сопутствующими языковым единицам смыслами, которые актуализируются исключительно в рамках той культуры, в которой текст был создан. Другими словами, это текст языка культуры со своими, характерными только для него знаками.
Это уровень уже непрозрачен с семантической точки зрения, поскольку для выявления смысла сообщения необходимо знание соответствующего культурно-семиотического кода. Именно этот уровень является объектом нашего внимания, интерпретация декабризма осуществлялась на уровне языка культуры.
Исходя из этого цель нашей работы заключается в раскрытии семиотических основ концептуализации декабризма в советской историографии середины 1950-х годов. Для этого необходимо определить знаки вторичной семиотической системы, погрузить их в рамки соответствующего культурно-семиотического кода и выявить семантику этих знаков в пределах данного кода.
ЗНАКИ ВТОРИЧНОЙ СЕМИОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Цель движения декабристов, согласно советским текстам, заключалась в «уничтожении самодержавия и крепостничества»9. Сам по себе этот тезис стал уже хрестоматийным. Нас же интересует то, как он обосновывается в советских текстах. Именно это обоснование, поскольку оно относится уже к сфере интерпретации, то есть наделения смыслом, позволит нам увидеть коннотации в повествовании советских историков.
Народ является первым знаком, встречающимся в советском повествовании о целях декабристского движения. Декабристы, согласно советским текстам, были продуктом внутренних условий развития России – они, будучи представителями дворянского сословия, все же были связаны с простым русским народом и прекрасно видели его тяжелое положение. Именно поэтому не европейские политические идеи, а тяжелое положение народа послужило импульсом к движению декабристов10.
Тема связи народа и декабристов – одна из основных в советской историографии. Разумеется, вслед за Лениным советские историки утверждали, что члены тайных обществ «страшно далеки» от народа. Но далеки от народа они были исключительно с точки зрения тактики, так как намеревались действовать самостоятельно, без помощи масс. Цель же всей деятельности тайных обществ, говорится в источниках, была одна – народное благоденствие. Действие без народа, но для народа – вот формула декабризма, выведенная на страницах исследований советских историков. Декабристы, писал Н. М. Дружинин,
«не были способны связаться с народными массами, но они любили свой народ и стремились создать условия жизни, обеспечивающие ему быстрое экономическое и культурное развитие»11.
О русском народе как важнейшем понятии декабристского мировоззрения говорится даже в текстах, посвященных внешнеполитическим проектам членов тайных обществ. Например, Б. Е. Сыроечковский в статье о балканской проблеме подчеркивает, что для декабристов характерно «внимание к интересам народа»12.
Историки утверждали, что члены тайных обществ прекрасно видели все положительные качества русского народа, среди которых они выделяли его несомненный талант, мужество и силу. К примеру, Петр Каховский, согласно работе К. С. Асенова, «восторженно отзывается о преимущественных качествах русского народа по сравнению с другими, ему известными народами»13. Вместе с тем в текстах говорится, что, несмотря на свой героизм в борьбе с внешним врагом, русский народ страдал от врага внутреннего – самодержавия. Здесь мы сталкиваемся со вторым знаком советского повествования о целях декабристского движения – свобода . Народ, спасший страну от Наполеона, сам находился в состоянии рабства, что создавало крайне несправедливое положение. Согласно К. Аксенову, Россия, «населенная великим, умным и трудолюбивым народом, билась в тисках <…> реакционнейшего русского самодержавия»14.
Сходную трактовку обнаруживаем и у С. М. Файерштейна – страна в начале XIX века была «принижена и придавлена крепостничеством и аракчеевским произволом»15.
Более того, положение народа после победы в Отечественной войне даже ухудшилось – одним из сюжетов в наших текстах является народное страдание от аракчеевской политики.
Декабристы, как утверждали советские историки, прекрасно понимали несправедливость такого положения русского народа:
«Передовые люди того времени, – говорится в монографии П. Ф. Никандрова, – понимали, что без коренных преобразований в социально-политическом строе России не обойтись. Понимал это и П. И. Пестель. Он считал, что русский народ, который выдержал основную тяжесть в войне с Наполеоном и обеспечил России независимость, не может больше оставаться в тисках загнивающего феодально-крепостнического строя»16.
Декабристы «желали видеть Россию свободной»17.
Свобода, таким образом, характеризуется в источниках как освобождение от «ига самодержавия» и крепостного права. Поэтому цели декабристов, заключавшиеся в ликвидации монархии и крепостного строя, осложнялись в советской историографии идеями освобождения народа.
Нужно отметить, что идея освобождения распространялась декабристами не только на рус- ский народ. Декабристы, как показано в наших текстах, мыслили шире. В их планах освобождению подлежали все страдающие под игом абсолютизма. К примеру, согласно Л. А. Медведской, «декабристы первые выдвинули лозунг восстановления независимости Польши и первыми подняли вопрос о едином фронте борьбы русских и поляков против самодержавия»18 и многое сделали для этого. Вот почему имена декабристов, согласно советской историографии, «остались навсегда дороги польским борцам за национальную свободу»19.
Прогресс является третьим знаком, при помощи которого характеризуются цели декабристского движения в наших текстах. Самодержавие и крепостное право вызывали, по мнению историков, ненависть декабристов еще и потому, что они тормозили развитие страны. Самодержавная крепостническая Россия, по выражению М. В. Нечкиной, «не могла двигаться вперед», стране «грозили застой и деградация»20. Это утверждение было основано на теоретико-методологической базе исторического материализма. Начало XIX века, согласно советской историографии, это период, когда количество частных противоречий между уровнем развития производительных сил и характером производственных отношений переходит в качественно новую форму – кризис всей феодальной системы. Так, целая глава исследования М. В. Нечкиной посвящена анализу развития сельского хозяйства и промышленности России начала XIX века. Историк показывает, что экономика России не могла развиваться при сохранении абсолютизма и крепостного права. Нужна была радикальная ломка всего общественно-политического строя для обеспечения быстрого развития страны. Без нее Россия все больше и больше отставала от западных государств. «Феодально-крепостнические порядки», по выражению Е. А. Прокофьева, «являлись тормозом и преградой» на пути страны21. Декабристы же искренне хотели, чтобы Россия была «передовой страной, чтобы в ней процветали промышленность, наука, искусство, просвещение»22. Поэтому цели декабристского движения трактовались как ликвидация всех преград на пути к прогрессу страны. Деятельность декабристов, говорится в работе П. Ф. Никандрова,
«была направлена на уничтожение отживших общественных и политических порядков», поскольку они «стремились выдвинуть русское государство в число самых передовых стран не только в военном <…> но главным образом в экономическом, политическом и культурном отношениях»23.
Интересно, что идея прогресса подчеркивается также и в специальных исследованиях. К примеру, с ней мы сталкиваемся в работе Е. А. Прокофьева, посвященной военным взглядам членов тайных обществ. Декабристы, согласно историку, были «знаменосцами прогресса» даже в военном деле, поскольку они обогатили и продвинули вперед русскую военную науку24.
Семантика этих знаков предельно ясна на первичном семиотическом уровне – декабристы ставили своей целью свержение «самодержавнокрепостнических порядков» потому, что они прекрасно видели все достоинства русского народа, осознавали его тяжелое положение, стремились освободить его от «ига царизма» и ликвидировать все преграды на пути к развитию страны. Однако в рамках советского интеллектуального контекста середины XX века выявленные нами знаки имели свои коннотации.
СЕМИОТИЧЕСКИЙ КОД
Коннотации актуализируются и приобретают фиксированное значение благодаря ассоциациям, возникающим в пределах той культуры, в которой создан текст. Возникают они на основе так называемой памяти контекста, интертекстуальных связей произведения – через актуализацию явных и скрытых отсылок к прецедентным текстам данной эпохи и к знаковым для данной культуры событиям25. Поскольку культура представляет собой совокупность семиотических кодов [11], [12], наша задача – найти тот код, в пределах которого интересующее нас повествование советских историков функционировало как знаковая система, то есть возникало явление семиозиса.
Интеллектуальным контекстом, в рамках которого в середине 1950-х годов создавались интересующие нас исторические исследования, была кампания по борьбе с космополитизмом. Советская историческая наука уже вскоре после Октябрьской революции стала использоваться для решения политических и идеологических задач, одной из основных ее функций было участие в воспитании и просвещении масс [1: 22, 29]. И если изучение дореволюционной истории России первоначально не являлось приоритетным, то уже в 1930-е годы ситуация изменилась. С этого времени началась ее частичная реабилитация [9]. Она была связана с актуализацией в официальной идеологии понятия советский патриотизм. Это понятие, впервые употребленное в 1934 году, заменило собой понятие красного патриотизма и, в отличие от него, предполагало обращение к истории [8: 50, 60]. В основу патриотической идеи было положено представление о том, что Советский Союз является законным наследником лучших традиций прошлого [9: 230]. Как показал А. М. Дубровский, в непосредственной связи с реализацией в официальной идеологии антикосмополитической линии актуализировались и обострились отношения в системе «власть – историк» [8: 569]. В «Плане мероприятий по пропаганде среди населения идей советского патриотизма» (1947) говорилось, что необходимо показывать не только «величие социалистической родины», но и разъяснять, что «наш народ вправе гордиться и своим великим историческим прошлым»26. Те, кто не понял политического смысла возвращения к национально-историческим традициям, были подвергнуты серьезной критике со стороны власти27. В этих условиях историки должны были постоянно соотносить прошлое с настоящим. Все это приводило к тому, что в повествовании о декабристах историческая фактология тесно переплеталась с советской идеологией, что порождало в тексте два смысловых уровня. Идеология кампании по борьбе с космополитизмом является тем семиотическим кодом, с помощью которого зафиксированы в интересующих нас текстах культурно-обусловленные смыслы. Без учета этого кода повествование о целях декабристского движения не может быть понято в полном его объеме.
Мы будем опираться на те тексты, которые, во-первых, имели прецедентный характер в рамках кампании по борьбе с космополитизмом, то есть формировали понятие советский патриотизм и раскрывали его семантику и, во-вторых, которые по времени своей публикации были максимально близки к выходу рассмотренных нами работ советских историков. К таким текстам мы относим статью Д. Т. Шепилова «Советский патриотизм»28, опубликованную в общесоюзной газете «Правда» в 1947 году; публичную лекцию кандидата философских наук, члена редколлегии журнала «Коммунист» А. И. Соболева «О советском патриотизме»29, организованную Всесоюзным обществом по распространению политических и научных знаний и прочитанную в центральном лектории общества в Москве, а затем опубликованную отдельной брошюрой в издательстве «Правда» в 1948 году; статью «Русский народ – руководящая сила среди народов нашей страны», изданную в журнале «Большевик» в 1948 году30; статью заведующего отделом печати МИД СССР Г. П. Францева «Космополитизм – идеологическое оружие американской реакции», опубликованную в 1949 году в газете «Правда»31; статью «О задачах советских историков в борьбе с проявлениями буржуазной идеологии»32, опубликованную в журнале «Вопросы истории» в 1949 году.
В текстах, вышедших в рамках кампании по борьбе с космополитизмом, мы сталкиваемся с уже известными нам знаками – советские идеологи раскрывают оппозицию космополитизм/ патриотизм на основании отсылок к народу, свободе, прогрессу. Советский патриотизм понимается в этих работах как «принципиально новый высший тип» любви к отечеству. В сущности, согласно советской идеологии, он и был единственно подлинным патриотизмом, поскольку патриотизм западного общества рассматривался всего лишь как красивая ширма, прикрывающая «расовые, шовинистические, националистические теории»33.
Понятие советский патриотизм , сконструированное советскими идеологами, тесным образом было связано с понятием народ . Согласно кампании по борьбе с космополитизмом, любовь к родине одновременно является и любовью к народу, поскольку истинный патриотизм всегда имеет ярко выраженный национальный аспект. Более того, слова родина и народ понимаются в источниках как равнозначные и зачастую заменяют друг друга. Величие страны, согласно советской идеологии, это прежде всего величие ее народа. В текстах, обслуживавших кампанию по борьбе с космополитизмом, сделан максимальный акцент на таких качествах русского народа, как интеллект и смелость:
«Выдающиеся черты русского народа с особой силой проявились не только в деле создания могущественного национального государства, но и в создании неоценимых духовных ценностей. <…> …Нет ни одной области созидательной человеческой деятельности, где бы русский человек не оставил глубоких и неизгладимых следов»,
– гласил журнал «Большевик»34. В то же время русский народ – это еще и народ-воин. На протяжении всей истории он защищал свою страну от внешних врагов: «Русь родилась в боях с иноземными врагами, она росла, развивалась и мужала, отражая бесчисленные атаки»35. Советская идеология утверждала, что гордость за свою страну обусловлена осознанием величия ее народа. Подлинным патриотом является тот, кто видит, что «русская нация – выдающаяся нация», которая доказала это «своим трудом, своими творениями, открытиями, изобретениями»36. Внимание к положению своего народа, стремление создать все условия для его развития – характерная черта настоящего патриота. Напротив, «безродные космополиты», согласно идеологии кампании по борьбе с космополитизмом, в отличие от истинных патриотов, игнорируют все достижения русского народа, подвергают сомнению «все сделанное, изобретенное русскими людьми и учеными»37 и «искажают историю героической борьбы русского народа против своих угнетателей»38. Космополитов советская идеология усматривала не только в настоящем, но и в прошлом. В дореволюционной России к ним было отнесено дворянство. Редактор газеты «Правда» Д. Т. Шепилов утверждал, что «антинародность» являлась определяющей чертой «господствовавших классов»39.
Понятие патриотизм в рамках антикосмополитического кода предполагало также борьбу за свободу народа от любых «угнетателей»40. В агитационных материалах Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний выделены «две стороны всякого истинного патриотизма: ненависть и борьба с внешними поработителями, а также и ненависть и борьба с внутренними поработителями»41. К внешним врагам относились иноземные захватчики, и с ними народ всегда успешно справлялся. Внутренним же врагом считалось самодержавие и «поддерживающие его эксплуататорские классы». Внутренний враг был, согласно советским идеологам, не менее, а зачастую даже более опасен, чем внешний, поскольку народ не может освободиться от него самостоятельно. Для этого нужна сила, направляющая и возглавляющая народ. Только истинные патриоты, осознающие необходимость борьбы за народную свободу, становятся такой силой. Поэтому борьба с «внутренними поработителями» названа советскими идеологами характерной чертой «всякого истинного патриотизма»42.
Важно подчеркнуть, учитывая то внимание, которое советские историки уделяли борьбе декабристов за свободу других народов, что понятие свобода в рамках антикосмополитического кода имело еще и ярко выраженный интернациональный аспект. Истинный патриот радеет не только о свободе народа своей страны. Он всегда стремится помочь другим странам сбросить оковы внутреннего врага. «Любовь к своей стране» сочетается, согласно агитационной статье «Космополитизм – идеологическое оружие американской реакции», «с интернационализмом, с уважением к правам и свободе других народов»43.
Понятие патриотизма было связано официальной идеологией также с идеей прогресса. Любовь к отечеству предполагала борьбу против тех сил, которые тормозят развитие страны, стоят на пути прогресса. Царская Россия была охарактеризована советскими идеологами как огромная отсталая страна, страна «бескультурья, темноты, невежества», в которой «даже начальное обра- зование для народных масс было почти недосягаемой мечтой»44. С каждым годом «Россия все больше и больше отставала в своем развитии от передовых капиталистических стран»45, – писал Д. Т. Шепилов. Отставание России объяснялось антипатриотической по своей сути политикой «правящих классов», которые, предавая национальные интересы, всячески препятствовали развитию России и русского народа. Напротив, в основе истинного патриотизма лежат, согласно официальной идеологии, национальные интересы. Патриотизм, согласно агитационной работе Соболева, находит свое выражение в «заботе о процветании и могуществе родины»46. Настоящий патриот всегда стремится обеспечить все условия для успешного развития своей страны, ее прогресса, и для этого обращает свое оружие против внутреннего врага.
ВЫВОДЫ
Анализ культурно-семиотического кода позволяет говорить о коннотативном пласте в текстах советских историков середины 1950-х годов. Повествование о целях декабристского движения свидетельствовало, таким образом, не только о революционности декабристов, что достаточ- но очевидно, если мы рассматриваем это повествование только на уровне первичной знаковой системы (цель движения – свержение «самодержавно-крепостного строя»). В текстах советских историков благодаря наличию в них знаков народ, свобода, прогресс актуализируются коннотации несомненного патриотизма декабристов. Более того, речь идет о том, что декабристский патриотизм был типологически близок советскому.
Концептуализация декабристского патриотизма, таким образом, осуществлялась в советской историографии на уровне вторичной знаковой системы. Исторические исследования через знаки антикосмополитического кода соотносились с текстами, изданными в рамках кампании по борьбе с космополитизмом. Благодаря этим корреляциям исторический нарратив приобретал дополнительную смысловую глубину – помимо научного в нем присутствует еще культурно обусловленный уровень. Все это позволяет говорить о том, что советская историография декабризма середины 1950-х годов отличается несомненной полисемантичностью. Поэтому анализ трудов советских историков данного периода не может быть полным без учета соответствующего им культурно-семиотического кода.
Поскольку интертекстуальные связи актуализируются в произведении с участием читателя, как показал Умберто Эко [19: 43], вопрос о роли советских историков в их проведении мы оставляем за рамками настоящей работы. Это тема отдельного исследования.
Там же. С. 12.
Там же. С. 13.
Там же.
Список литературы Антикосмополитический код советской историографии декабризма
- Алексеева Г. Д. Октябрьская революция и историческая наука // Историческая наука России в XX веке. М.: Научно-издательский центр "Скрипторий", 1997. С. 13-51.
- Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.: Канон+, 2009. 400 с.
- Амиантов Ю. Н. Стенограмма совещания по вопросам истории СССР в ЦК ВКП(б) в 1944 году. Вступительная статья // Вопросы истории. 1996. № 2. С. 47-54.
- Барт Р. Основы семиологии // Барт Р. Нулевая степень письма. М.: Академический проект, 2008. С. 275352.
- Барт Р. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 424-461.