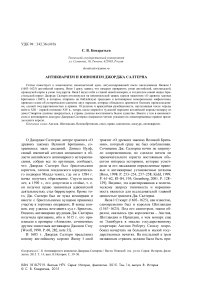Антикваризм и юнионизм Джорджа Салтерна
Автор: Кондратьев Сергей Витальевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 8 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья повествует о компонентах юнионистской идеи, актуализированной после наследования Яковом I (1603-1625) английской короны. Яков I сразу заявил, что намерен превратить унию английской, шотландской, ирландской корон в унию государств. Яков I видел себя и главой новой империи, и создателем новой нации. Бристольский юрист Джордж Салтерн откликнулся на юнионистский запрос короля трактатом «О древних законах Британии» (1605), в котором, опираясь на библейскую традицию и антикварные мемориальные мифологемы, проводил идею об историческом единстве двух народов, которые обладали в древности близким происхождением, единой государственностью и правом. Отделение и враждебная разобщенность, наступившая после череды войн в XIII - первой половине XIV в., теперь после мирной и чудесной передачи английской короны монарху из дома Стюартов должны завершиться, а страны должны восстановить былое единство. Вместе с тем в юнионистском и антикварном дискурсе Джорджа Салтерна содержатся четкие указания на лимитированные правом пределы власти короля.
Англия, шотландия, великобритания, союз, право, юнионизм, дискурс, антикваризм
Короткий адрес: https://sciup.org/147219431
IDR: 147219431 | УДК: 94
Текст научной статьи Антикваризм и юнионизм Джорджа Салтерна
О Джордже Салтерне, авторе трактата «О древних законах Великой Британии», сохранилось мало сведений. Дэниел Вулф, самый именитый сегодня специалист в области английского антикварного историопи-сания, собрав все по крупицам, сообщает, что Джордж Салтерн был бристольским юристом, членом лондонского юридического подворья Миддл-темпл, где он в 1584 г. начал получать образование. Спустя шесть лет, в 1590 г., его допустили к стойке, т. е. он получил право заниматься адвокатской деятельностью, стал барристером. Кроме того, Дж. Салтерн был не чужд коммерции и вместе с бристольскими купцами принимал участие в торговых операциях. В конце концов, ему удалось возглавить суд г. Бристоль. Видимо, антикварная эрудиция Дж. Салтерна получила признание, ибо в 1615 г. его привлекали к проверке «Анналов», сочиненных другим известным антикваром Джоном Стоу [Woolf, 1990. P. 60, 282, note 35].
В 1605 г. Джордж Салтерн представил новому английскому королю Якову I свой трактат «О древних законах Великой Британии», который сразу же был опубликован. Сочинение Дж. Салтерна почти не затронуло современников, но сделало ничем не примечательного юриста постоянным объектом интереса историков, которые усмотрели за его пассажами определенные правовые и антикварные установочные штампы [Ross, 1998. P. 253–254, 257–258; Kidd, 1999. P. 61–62, 83–84, 195; Greenberg, 2001. P. 128– 129]. Видимо, эта адаптированная к политическому запросу типичность и нормативность является для исследователей главной ценностью трактата Дж. Салтерна.
Яков I Стюарт (1603–1625), как известно, одновременно был и королем Шотландии (1567–1625). Под его скипетром, таким образом, оказалось три королевства – Англия, Шотландия и Ирландия, о чем монарх еще из Эдинбурга в письме государственному секретарю Англии Роберту Сесилу потребовал начертать на большой и малой государственных печатях. На последней к трем названным странам должна была быть при-
Кондратьев С. В. Антикваризм и юнионизм Джорджа Салтерна // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 8: История. С. 39–50.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 8: История
совокуплена еще и Франция, на которую сохранялись гипотетические исторические притязания. В послании он, кроме того, писал о союзе («унии») королевств Англии и Шотландии [Travers, Tames, 2003. P. 16–17]. Но все три страны существенно и даже разительно отличались друг от друга по традициям, языку и конфессиям. Каждая внутри обладала собственным региональным зачастую трудно преодолимым партикуляризмом. Им предстояло пройти длительный и проблемный путь интеграции.
Спустя два дня после смерти Елизаветы Тюдор, 26 марта 1603 г., известный елизаветинский антиквар Роберт Коттон изготовил трактат с генеалогией, где родословная линия Стюартов восходила к англосаксонским королям Альфреду (871–900), покончившему с гептархией (семицарствием) и объединившему семь независимых королевств, и Эдгару (959–975), «королю всей Британии» [Travers, Tames, 2003. P. 12–13; Wormald , 1992. P. 178]. В изданной в мае 1603 г. прокламации говорилось о «счастливом союзе» двух королевств [Croft, 2003. P. 54]. Якову I хотелось быстро придать Англии и Шотландии какое-то формальное государственное единство, которому он придумал звучное название «Великобритания». Яков I видел себя королем новой империи и создателем новой нации. На специально выпущенной по случаю наследования медали Яков назван «императором Британии». На изготовленном к июльской коронации медальоне он именуется «Цезарем Августом Британии, наследником Цезарей» [Ibid.] 1.
В октябре 1604 г. королем была издана специальная прокламация, где говорилось, что утраченное в далеком прошлом британское единство теперь, благодаря Господу, восстановлено. Цель божественного замысла – создать протестантскую империю во главе с британским монархом – реализуется. Посему, провозглашалось в прокламации, Яков отказывается от упоминания Англии и Шотландии и будет впредь именоваться «королем Великобритании» [Wormald , 1992. P. 177–178; Brown, 2008. P. 18]. На отчеканенных в этом же году монетах Яков I провозглашается «королем Великобритании, Франции и Ирландии» [Ruding, 1817. P. 194].
После долгих геральдических дебатов в 1606 г. у союзного государства появился собственный флаг. Им стал знаменитый «Юнион Джек», созданный путем наложения шотландского флага Святого Андрея на английский флаг Святого Георгия. Прокламация от 12 апреля 1606 г. предписывала поднимать его на королевских и торговых судах. Прокламация не упоминала ни об Англии, ни о Шотландии. Вместо этого в ней говорилось о «севере и юге Британии» [Wormald, 1992. P. 178].
Но устремления монарха существенно отличались от представлений английской и шотландской элит, идентификационные различия коих были очень значительными (о проблемах идентичности см.: [Macinnes, 2005. P. 8–39; Кондратьев, 2012. C. 137– 138]). Заседания английского парламента 1604–1610 гг., который, по мысли короля, должен был выработать некую общую единую модель государственности и подданства, превратились по существу в бесплодное упражнение в риторике депутатов и должностных лиц правительства [Брандт, 1989]. Оказалось, что даже соединить «сердца и умы» старых и новых подданных – очень не простое дело. Монарх настойчиво, порой лично, но вместе с тем безуспешно подталкивал депутатов к необходимому решению. В своей парламентской речи 16 марта 1604 г. он упирал на мирное обретение короны и проводил аналогии между собой и своим предком Генрихом VII Тюдором, покончившим с войной Роз и объединившим дома Ланкастеров и Йорков. Его юнионистский дискурс строился на том, что мирное объединение корон и королевств не могло не быть частью божественного замысла, свидетельством чему является английская и шотландская кровь, струящаяся по стюартов-ским жилам. Объединительный промысел божий монарх усматривал в том, что обе страны близки по языку, протестантской религии, образу жизни. Между ними нет серьезных географических препятствий: их не разделяют ни моря, ни широкие реки, ни высокие горы. Он напоминал, что разделенные страны часто становятся объектами внешней агрессии, как было во времена англосаксонской гептархии. Зато, слившись в единую «нацию», они, напротив, обретают естественную географическую безопасность, ибо оказываются отделены морем от соседей. «Что соединено Господом, то пусть не будет разделено человеком, – пафосно восклицал Яков I. – Я есть муж, а весь остров – моя законная жена. Я – глава, а он – мое тело. Я пастух, а он – моя паства. Посему я уповаю, что не сыщется тот столь неразумный, кто помыслит, что я, христианский король, с Евангелием, могу жить в полигамии, быть мужем двух жен; что, будучи главой, я расчленю и изуродую тело; или что, будучи пастухом столь праведной паствы <…> могу разделить ее на две части» [King James VI…, 1994. P. 134–136].
В мартовской парламентской речи 1607 г. Яков I именовал оба государства «единой империей», говорил, что связан с депутатами «союзом», напоминал, что у них есть взаимные обязанности: у него – «любить, править и оборонять», а у них – пребывать в «подданстве и повиновении». Он подчеркивал, что высшая его радость – слиться со своим «счастливым народом». Посему, продолжает монарх, «я желаю полного объединения законов и людей, и такой натурализации, которая превратит два королевства в единое тело подо мню, Вашим королем» [Ibid. P. 159, 161]. Однако даже проблему натурализации шотландцев удалось продвинуть только посредством судебного решения. Дело Роберта Кэльвина (1608 г.) стало прецедентом, натурализовавшим только тех шотландцев, которые родились после объединения корон [Lockyer, 1989. P. 45–47].
Трактат Джорджа Салтерна, видимо, потому так приглянулся Якову I, что в нем мысль о единстве двух народов – шотландцев и англичан – была проведена рефреном. Дж. Салтерн пишет, что они имеют общие корни – происходят от сыновей библейского Йафета: от потомка троянцев Брута пошли бриты, а от афинян и египтян – шотландцы. Таким образом, идея единства опиралась на историческую сильно мифологизированную традицию.
Считается, что унитаристская мифология восходит к «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского (1100–1155) и «Описанию Уэльса» (Descriptio Cambriae) Гиральда Камбрийского (1146–1223), которая позднее воспроизводилась в «Истории Британии» (1508 г.) Понтика Вируния, «Новой хронике Англии и Франции» Роберта Фабиана (1516 г.), «Краткой хронике королей от Брута до настоящего дня» Джона Расталла (1560 г.), «Хронике Англии от Брута по настоящий год» (1580 г.) и «Анналах Англии» (1592 г.)
Джона Стоу и других авторов [Macinnes, 2005. P. 9; Greenberg, 2001. P. 88–89].
Согласно Монмутскому, основателем Британии был легендарный Брут, якобы внук Энея, бежавшего на Апеннины после захвата греками Трои. На охоте Брут нечаянно выпущенной стрелой убил своего отца, за что был изгнан. Покинув Италию, Брут перебрался на Балканы, где разбил греков и освободил находящихся у них в рабстве троянцев. Погрузившись затем на корабли и претерпев еще немало приключений и победоносных сражений, Брут и троянцы достигли острова Альбион, который он «нарек Британией, а своих сотоварищей бриттами». Позднее три сына Брута разделили остров между собой: одному отошла середина острова, второму – Валлия (Уэльс), третьему – Скоттия (Шотландия) [Гальфрид Монмутский, 1984. С. 6–19; Giraldus Cambrensis, 1868. P. 178; Pontici Virunni Tarvisini, 1844. P. 5–8].
Бритты владели островом все первое тысячелетие до наступления христианской эры. Нередко остров терзали братоубийственные междоусобицы, он подвергался вторжениям извне, а подчас сами бритты отправлялись завоевывать другие страны. Так, мнимые короли-братья Бренний и Белин завоевали всю Галлию, Балканы и даже покорили Рим [Гальфрид Монмутский, 1984. С. 27–33].
Заложенная Монмутским традиция предполагала, что государственность и законы Англии были созданы бриттами, и их базовые компоненты с тех «незапамятных времен» остаются неизменными. Последующие завоеватели – римляне, англосаксы, датчане и норманны – признавали их совершенство и продолжали использовать [Кондратьев, 1996. С. 65–101]. Создателем бриттского законодательства был отец Бренния и Белина король Дунвалло Молмуций [Гальфрид Монмутский, 1984. С. 27].
Миф о бессмертии и неизменности английского законодательства и государства активно культивировался юристами общего права, многие из которых занимались антикварными историческими изысканиями. Его отчетливо обозначил знаменитый юрист Джон Фортескью (1395–1477) в трактате «Похвала законам Англии», где писал: «Королевство Англия первыми заселили бритты, затем им правили римляне, после них – опять бритты, за которыми последовали саксы, изменившие название “Британия” на “Англию”. Потом короткое время в королевстве господствовали даны, но вскоре – вновь саксы, пока, наконец, не возобладали норманны, чьи потомки держат его по сию пору. И все время, непрерывно, под этими народами и их королями королевство управлялось теми же обычаями, которыми управляется и сегодня» [Fortescue, 1997. P. 26]. Авторитетные современники Дж. Салтерна – главный судья Англии Эдвард Кок (1552– 1634) и судья суда Королевской скамьи Джон Доддридж (1555–1628) настойчиво воспроизводили этот миф. Ссылаясь на многочисленных предшественников от Генри Брактона (ум. 1268) до Томаса Литтлтона (1421–1481) и Кристофера Сент-Джермена (1460–1540), Эд. Кок писал, что королевство бриттов основал Брут, который, сделав извлечения из права троянцев, дал острову первые законы, записанные якобы по-гречески. Этими греческими законами бритты потом пользовались еще ни одно столетие, и эти «законы Англии много древнее, чем повествования о них, и любых конституций и законов римских императоров». В 441 г. до н. э. на язык бриттов их переписал Дунвалло Молмуций, затем их фиксировали на языке бриттов в 356 г. до н. э. мифическая королева Мерсии Проба, и в 872 г. на языке англосаксов – король Альфред. После нормандского завоевания король Генрих I Боклерк (1100–1135) устранил нормандские добавления и «восстановил старинные законы Англии». В заключение Эд. Кок подчеркивал, что Англия знала времена, когда «в некоторых частях общее право менялось и отклонялось от должного курса», но затем «восстанавливалось вновь» [Соke, 1777. P. VIII–XIV, XVIII]. Дж. Доддридж, доказывая бриттское происхождение английского парламента, прямо заявлял: «Древние законы бриттов (к чести наших общих законов) используются до настоящего времени» [Dodderidge, 1771. P. 283].
В полную мифов историю бриттов уходила корнями дорогая Якову I имперская идея и история христианизации Британии, которая якобы произошла на полтора века раньше, чем официальное принятие христианства в Римской империи. Джордж Сал-терн, ссылаясь на Беду Достопочтенного, Гальфрида Монмутского, Понтика Вируния, Уильяма Ламбарда, воспроизводит легенду о том, как еще один мнимый персонаж, ко- роль бриттов Луций, наделенный от рождения редкими добродетелями, обратился к папе Элевтерию (175–189), после чего его подданные стали христианами и обрели мир и процветание. Согласно традиции, король Луций не только принял христианство, но и вознамерился ввести римские законы, на что папа Элевтерий в своем послании посоветовал руководствоваться законами Божьими [Беда Достопочтенный, 2001. С. 8, 13, 190; Гальфрид Монмутский, 1984. С. 48–49; Pon-tici Virunni Tarvisini, 1844. P. 39–40; Lam-barde, 1644. P. 142–143; Saltern, 1605. B2]. Имперскую идею подпитывал также общеизвестный факт, что Константин Великий, официально сделавший христианство религией Римской империи и заново, что особенно привлекало Стюарта, объединивший империю, был в 306 г. объявлен императором именно в Британии.
Таким образом, в начале XVII в. Англия, а с приходом Якова I Британия, рисовалась многим современникам как источник европейского христианства и самого древнего в Европе права. Яков I при этом мог ассоциироваться с легендарным Брутом, ибо ему довелось объединить остров, и Константином Великим [Croft, 2003. P. 174]. В 1605 г. в одной из декламаций драматурга Энтони Мандая на празднествах в Лондоне провозглашалось, что Яков I является вторым Брутом, посаженным небом на трон, дабы «связать заново в благословенном единстве» Уэльс, Англию и Шотландию 2. Следуя в русле данной традиции, антиквар Уильям Кэмден в свой знаменитой «Британии» рисовал Англию центром сшитой из разных частей протестантской империи. Точно так же многие антиквары, юристы и депутаты парламента заявляли о несомненном превосходстве английского права и английских государственных институтов не только перед правом и институтами Рима, но и Шотландии и Ирландии [Macinnes, 2005. P. 10]. Яков I, стараясь развеять предубеждения и опасения депутатов в связи с продвигаемой им унией королевств, уверял своих новых подданных, что именно Англия должна являться центром будущего объединения. В 1607 г. он просил депутатов «улучшить»,
«прояснить», «отшлифовать» английские законы, чтобы «Шотландия была соединена с вами под ними» [King James VI…, 1994. P. 163].
Кратко заметим, что, кроме веры в вечность, истинность совершенство, нерукотвор-ность, древность, незапамятность английского права и английской государственности, существовали и другие интерпретации исторического прошлого Британии. Во второй половине XV в. Полидор Вергилий (1470–1555), итальянский историк при дворе Генриха VII, соглашаясь с континуитетом английского права, созданного бриттами, принимая мысль о короле Луции, раньше Рима христианизировавшем Британию, с источниками в руках ставил под сомнение легенду о Бруте, до-римское происхождение целого ряда английских городов и, главное, многих государственных институтов, которые, по мнению Полидора Вергилия, имели либо саксонское, либо чаще нормандское происхождение 3 [Greenberg, 2001. P. 90].
Уильям Кэмден был первым среди английских авторов, кто стал утверждать, что англичане ведут свое происхождение не от бриттов, а от завоевавших их позднее англосаксов, соответственно, последние не были варварами, просто заимствовавшими у бриттов их государственность и право, а народом, создавшим свои законы и институты. Согласно этой точке зрения, английское право и государственность ведут свое начало не с незапамятных времен, а приблизительно с V в. Формирующаяся традиция также настаивала на континуитете государства и права, которых не смогли испортить теперь уже ни датчане, ни норманны. В 1605 г. Ричард Верстеген (1550–1640), долгое время живший в Голландии, опубликовал в Антверпене трактат «Восстановление искаженного знания о древности благороднейшей и известнейшей английской нации», где, следуя за шведскими гуманистами, утверждал, что англосаксы являлись составной частью героических готов, которые сокрушили в V в. Римскую империю [Macinnes, 2005. P. 19– 21]. Ясно, что обозначившаяся германская («готская») традиция историописания в начале XVII в. еще не обрела авторитетных сторонников. Это произойдет позднее, когда она найдет последователей среди младшего поколения антикваров, таких как Джон Селден (1584–1654) и в особенности Генри Спелман (1562–1641) [Кондратьев, 1996. C. 53–100].
В Шотландии существовали собственные представления об историческом прошлом и своем месте на острове. Шотландские подданные Якова I благожелательно отнеслись к тому, что их правителю выпала миссия объединить две короны и две протестантские страны. Однако они не были столь единодушны в восприятии места Шотландии в будущем союзе. Шотландцы опасались, что претворение в жизнь имперской идеи монарха превратит Шотландию в английскую периферию. Отчасти страх опирался на память о длительном историческом противостоянии двух королевств, а также на традиционные мифологемы. В Шотландии считали, что их королевство ничуть не менее древнее, чем английское, ибо основано потомками легендарных Гойдела из Афин и Скотты, дочери египетского фараона, которые покинули Египет незадолго до того, как Моисей организовал исход евреев. Их дети перебрались в Ирландию и Шотландию, где в 330 г. до н. э. (время деяний Александра Македонского) Фергус (Fergusius) 4 создал королевство. Затем римляне и пикты временно выдавили шотландцев в Ирландию, но к началу V в. шотландцы вернулись и восстановили королевство. Примерно с этого времени шотландцы вели историю своего противостояния с англами и саксами. В 1527 г., во время конфликта Шотландии с Англией, шотландец Гектор Бойса выпустил «Историю Шотландии», где представил сфабрикованную генеалогию шотландских монархов, ведя ее от уже упомянутого легендарного Фергуса. Спустя шесть лет другой шотландец Джон
Мэйр в «Истории Великой Британии» опроверг шотландские и английские мифические традиции, отверг претензии англичан на верховенство и высказался за равноправное объединение королевств посредством династического брака. У него речь шла о Якове IV Шотландском и Маргарэт Тюдор, но эти построения подходили и для их внука Якова VI. Мэйр, причем, высказывался именно за создание империи.
Однако имперская идея в годы шотландской Реформации столкнулась с авторитетными оппонентами в лице шотландцев Джона Нокса и Джорджа Бьюкенена. Последний вообще, как известно, склонялся к аристократическому республиканизму, избираемости короля и отстаивал право подданных на сопротивление тирании. Но Нокс и Бьюкенен тоже разделяли мысль о желательности объединения королевств в единое протестантское государство Великобритания.
О важности единения Англии, Шотландии и Ирландии в конфедеративный союз писал шотландец Эндрю Мелвилл. Он полагал, что, только объединившись, можно противостоять гегемонистским устремлениям Испании и наступлению Контрреформации. Союз Англии и Шотландии виделся ему первым шагом на пути создания широкой конфедерации протестантских государств. Дэвид Юм, другой лидер шотландских пресвитериан, в 1605 г. выступал уже за «сплав» народов Британии, т. е. за полную политическую и конфессиональную унификацию [Macinnes, 2005. P. 13–17].
Джордж Салтерн в своем трактате отчетливо проводит идею исторического единства двух народов, демонстрируя хорошую эрудицию, знание античных авторов, работ континентальных правоведов и гуманистов и, конечно, национальную традицию и изыскания английских антикваров. Он постоянно воспроизводит Библию, цитирует и ссылается на Кодекс Юстиниана, Законы 12 таблиц, Аристотеля, Цицерона, Цезаря, Блаженного Августина, Прокопия Кесарийского, Исидора Севильского, Птолемея, Страбона, Тацита, Плиния, Ксенофонта, Тита Ливия, Диодора Сицилийского, Диона Кассия, Аммиана Мар-целлина, Светониа, Лукиана, Азиния Поллио-на, Кодекс Грациана, Пико делла Мирандолу, Мэтью Весембека, Амара Ривалия, Филиппа Меланхтона, Франсиска Юниуса, Беду Достопочтенного, «Историю Или», Гильду Премудрого, Этельварда, Ингульфа, Гальфрида
Монмутского, Гиральда Камбрийского, Вильгельма Мальмсберийского, Роджера Ховдена, Генри Брактона, Ранульфа Хигдена, Генриха Хантингдонского, Полидора Вергилия, Джона Прайса, Джона Бойла, Энтони Фитцхеберта, Джона Фортескью, Джона Фокса, Понтика Вируния, Джона Леленда, Уильяма Ламбарда, Джона Хукера, Рафаэля Холиншеда, Уидья-ма Кэмдена, Эдварда Кока, Роберта Коттона, а также на судебные ежегодники, собрания английских и шотландских законов, судебные отчеты.
Композиционно трактат начинается с неких общих и не слишком глубоких дефиниций о праве, затем реконструируется родословная англичан, делаются краткие экскурсы в историю, утверждаются (может быть, обрисовываются для короля), по-видимому, с учетом английских опасений по поводу будущего, некие незыблемые максимы общего права, традиционной государственности, а также вольности подданных и лимиты королевской власти, и, наконец, приводятся «доказательства» единства англичан и шотландцев. При этом Дж. Салтерн часто повторяется и возвращается к уже использованным примерам и пассажам.
В праве и государстве для него праведно и полезно то, что благочестиво, т. е. восходит непосредственно к божественным заповедям и установкам. Мир создан творцом по своему плану. Производным от закона божьего являются законы человеческие. Поэтому он вслед за Цицероном и римскими юристами утверждает, что если какая-то часть закона противоречит Закону Божьему, такой закон не может считаться законом [Saltern, 1605. B–C]. «Первое свойство и назначение права, – констатирует Дж. Салтерн, – отделять справедливое от несправедливого. Второе – предписывать и воспрещать. Третье – наказывать и воздавать. Все они изначально и в общем виде представлены в законе Божьем, а вторично и детально – в людском законе <…Конечная цель закона Божьего – общее блаженство. Это же блаженство есть также и цель людских законов, направленных в главном на укрепление религии, мира и справедливости …>» [Ibid. C].
Жители Британии, пишет Дж. Салтерн, ведут свое происхождение от библейского Гомера, сына Йафета, внука Ноя. Под «жителями Британии» он имеет в виду гоморян, или кимров, или бриттов, а также пришедших сюда завоевывать их саксов и датчан, которые якобы были детьми сына Гомера – Ашкеназа. Скотты происходили от брата Гомера Фувала [Saltern, 1605. C2–C3] и, таким образом, оказывались кровными родственниками и бриттам, и саксам.
Дж. Салтерн вместе с тем находит маловероятным, что бритты были переселившимися на остров троянцами. Одновременно, вслед за Джоном Прайсом, хотя и с оговорками, он отвергает сомнения Полидора Вергилия относительно подлинности Брута [Ibid. C3, G3]. В своем трактате Салтерн везде пишет о древности, вечности, незапа-мятности, неизменности общественных отношений, государственности и права на острове. Любые упоминая и намеки древних и новых авторов на отсталость и «варварство» бриттов им отвергаются. Бритты, подчеркивает он, ничего ни у кого, включая ненавистных им римлян, не заимствовали. Их образ и устройство жизни, включая сословность, были простой эманацией тех правил и законов, которые Бог вписал или запечатлел в природу и Священное писание. Посему их культурное, правовое и государственное наследие питало и облагораживало завоевателей [Ibid. E 3].
Бритты были цивилизованным народом. Задолго до прихода саксов, утверждает Дж. Салтерн, бритты владели землей, знали собственность и держания. Сам остров был разделен на части, подобные современным графствам. На острове якобы уже во времена походов Цезаря существовало 28 городов, а также «бесчисленные поселения и замки», связанные дорогами. «Бритты были цивилизованны и управляемы хорошими законами, как граждане многих великих городов», – продолжает он. Довольно много места, споря с Полидором Вергилием, он отвел характеристикам Лондона времен Цезаря. В Лондоне он видит процветающий торговый город, являющийся центром управления и правосудия. Как всякому народу, бриттам пришлось переживать смуты, вторжения, возврат к «идолопоклонству, периоды “одичания”, после которых они восстанавливались и являли собой примеры просвещенного (civil) правления, столь необходимого для многих достойных и политических устройств» [Ibid. E3–F3, I3].
Древние бритты знали государственность, у них как минимум за 600 лет до Рождества Христова уже были короли, старейшины, священники и простолюдины.
Знатность, лордство уходит корнями во времена владения острова бриттами. Современная знать, собственно, по Салтерну, выросла из старейшин бриттов. Тот, кого бритты именовали « Heane » или « Hane », или «elder» (старейшина), у данов и ирландцев назывался «thane» или «tane» (тэн), а у завоевавших бриттов саксов «elder» преобразовалось в «eldermen». Бритты собирали представительный орган – «общий совет острова» (common Counsel of the Island), или «Совет мудрых» (Consilium Sapientum), «который в наши дни зовется Парламентом». Парламент ведет свою историю, кажется Дж. Салтерну, как минимум с V в., когда страной правил легендарный король Артур, или даже со II в., когда Луций принял христианство. Затем о парламенте якобы говорит уже англосаксонское законодательство, а именно законы королей Инэ, Альфреда Великого, Эдуарда Исповедника [Ibid. E–E3].
Бритты, пишет Дж. Салтерн, должны были обладать законами и судопроизводством, охраняющими личность и собственность от посягательств. Порядок у бриттов поддерживался судебными решениями, которые выносили друиды. По его мнению, законодательство бриттов, по аналогии с Кодексом Юстиниана, включало три сферы регулирования, именуемые «О лицах, вещах и деяниях». Салтерн достаточно подробно излагает якобы существовавшие у бриттов процедуры передачи земель и имущества по наследству, пишет о взаимоотношениях между «лордами и держателями», а также упоминает некоторые категории исков и процедур: «захват имущества» (distress), поручительство (surety), возврат и потеря имущества (return and losse of issues), отказ от выполнения обязательств (default), неуважение органов власти (contempt), конфискация имущества (forfeiture) и пр. [Ibid. F3–G3].
Дж. Салтерн твердо держится мнения, что современное ему общее право восходит к справедливым законам Дунвалло Молму-ция, принятым в 445 г. до н. э. 5, подтвержденным и обновленным королем Луцием, затем Гильдой Премудрым переведенным на латынь и позднее королем Альфредом – на саксонский. «Они, – подводит он черту, – и поныне остаются среди законов нашего общего права, хотя и не всегда различимы, ибо те же самые авторы свидетельствуют, что они, будучи смешанными с законами Альфреда, затем были сведены Святым Эдуардом в одно общее право, позднее принятое нормандами» [Ibid. D2, G3–H]. Но сами законы британских королей и последующие англосаксонские сборники законов являются простой фиксацией неписаных правовых норм, которые вообще датировать невозможно. Они находятся за пределами памяти: «К слову сказать, читатель должен понимать, нельзя говорить, что правило или обычай появились на 50, 60 или на 100 лет раньше. Нет, в праве сказано, начало правила (prescription) не может быть установлено по какому-то документу писанному или правовому свидетельству. И такую данность следует принять разумом» [Ibid. I3].
Дж. Салтерн на страницах трактата несколько раз (повторяясь в характеристиках и цитатах) воспроизводит историю переписки короля Луция с папой Элевтерием и принятия бриттами христианства. История с Луцием лишний раз подтверждала истинность, древность, совершенство и величие общего права, поскольку помимо христианства Луций обрел совет не перенимать римские законы, а руководствоваться законами Бога. Кроме того, именно правлением Луция Дж. Салтерн, причудливо интерпретируя законы короля Альфреда, датирует период возникновения английского парламента. Продолжая вчитываться в них, он заключает, что «законы бриттов были более верны и стояли ближе к благочестию, чем законы саксов», что обусловило их вечную жизнь. Одновременно он оговаривается, что невозможно выделить законы бриттов из массива общего права. Кроме парламента, утверждает Дж. Салтерн, король Луций учредил суд из двенадцати присяжных. Обращаясь к судопроизводству, Дж. Салтерн детально описывает Hustings – городской суд Лондона, существование которого он вообще склонен датировать временем завоевания острова Цезарем. К временам бриттов он относит появление шерифов, ассизных судов, судебных приказов [Ibid. H3–K3].
К незапамятным временам восходят и традиционные английские вольности, которыми дорожат подданные и которые затем были зафиксированы в хартии Генриха I (1100 г.) и Великой хартии вольностей (1215 г.). Вольности и привилегии, подчеркивает Дж. Салтерн, подданные и города, как Лондон, столица Англии, имеют по обычаю, согласно тради- ции. Они не были королевскими пожалованиями, и посему не подлежат изъятию или ущемлению. Случались периоды, когда вольности на короткое время изымались и ущемлялись, но затем они неизменно восстанавливались [Ibid. H3–K3]. Дж. Салтерн, многократно декларируя божественный характер королевской власти, пишет, что монарх является наместником Бога на земле, он восседает на троне Бога, и одновременно цитирует известный пассаж юриста XIII в. Генри Брактона: «Королю не должно быть под человеком, но должно быть под Богом и законом». Ибо закон, по мнению антиквара, дан королю как пастырю, дабы с его помощью вырывать паству из рук дьявола и вести ее через страдания к благочестию [Ibid. B2, L2–M2]. В трактате осторожно, но определенно проведена мысль о лимитах королевской власти. Уже в самом начала трактата, продекламировав мысль о божественности королевской власти и ее божественном наместничестве, Дж. Салтерн вспоминает библейскую цитату и пишет, что монарху, как отцу, надлежит заботиться и защищать своих детей-подданных. Подданные, подобно «цыплятам», должны жить в мире под его крыла-ми (Мат. 23:37) [Ibid. B2].
Цитаты из мнимого ответа папы Элевте-рия королю Луцию были воспроизведены им по своду законов древнего англосаксонского права, составленного антикваром Уильямом Ламбардом (1536–1601). В этом своде ответ папы Элевтерия инкорпорирован в 17-ю статью законов короля Эдуарда Исповедника, озаглавленную «О долге короля, праве и о том, что принадлежит короне королевства Британии» (De Regis officio, et de jure et appendiciis coronae regni Brytanniae)». Джанэлл Гринберг, современный знаток законодательства Эдуарда Исповедника и его более позднего восприятия, замечает в этой связи, что «ирония» заключается в том, что «законодатель Эдуард <…> в отличие от своих предшественников никаких законов не издавал, и никаких не кодифицировал». Эта традиция берет начало от так называемого Декрета из десяти статей Вильгельма Завоевателя, который был якобы принят в 1070 г. На самом деле текст законов, приписываемых Вильгельму, появился не ранее конца XI – начала XII в., сохранился в латинской и французской версиях и являлся составной частью авторитетной «Истории Англии» Генриха Хантин- гдонского и хроники Роджера Ховдена (оба жили в XII в.). Текст свода, который получил название «Законы Эдуарда Исповедника», сохранился по тексту 1070 г., составленному по повелению Вильгельма Завоевателя. Его воспроизвел в «Истории Кроуэленда» аббат Ингулф (1030–1109), который писал, что в 1085 г. Вильгельм повелел ему перевезти из Лондона в Кроуэленд свиток с этими законами [Greenberg, 2001. P. 56–57].
Статья 17-я провозглашала, что король является наместником Бога: «Король, который есть наместник Высшего Царя, и на его место, выше всех, поставлен, дабы править земным королевством, народом Господним и почитать церковь святую». Однако место Божьего наместника за ним сохраняется не безусловно. «Если он не совершает сие, то даже имени короля за ним не остается, он теряет имя короля». Данный и очень явный пассаж сопровождался не менее выразительной историей о том, как Пипин Короткий и его сын Карл, будущий император Карл Великий, обратились к римскому папе с вопросом: «Должны ли они пребывать в бездействии, если у короля Франции осталось лишь имя король?» Ответ был не столь очевидным: «Тем подобает называться королями, кто неусыпно обороняет и ведет церковь Божью и ее народ», но, как известно, его оказалось достаточным, чтобы свергнуть последнего Меровинга – Хильде-рика III – с франкского престола. В этой статье были сформулированы обязанности короля: «Он (король. – С. К.) должен по праву короля охранять и защищать все земли, титулы, звания, права и привилегии короны своего королевства, во всей их полноте и целостности, без ослабления, и всей своей властью восстанавливать в должном и начальном состоянии права, которые были расчленены, порушены или утрачены <…> В королевстве король всецело должен поступать согласно установленному порядку, и по совету лучших. Правосудие и справедливость должны править в королевстве, но не произвольная воля. Закон всегда устанавливает право, но произвол, насилие и сила не есть право. Праведный король должен бояться и более всего любить Господа, а также соблюдать заповеди его по всему своему королевству <…>. По всему королевству должен он устанавливать добрые законы и прекрасные обычаи, и напротив, устранять и искоренять дурные. В королев- стве он должен творить праведный суд и в совете с лучшими людьми своего королевства осуществлять правосудие. До возложения на него короны архиепископами и епископами, перед лицом народа и духовенства, королю надлежит лично присягнуть во всем этом на святых евангелиях и священных мощах. Король не должен быть рабом трех вещей, а именно: своеволия, скаредности и похоти, обуздав которые, он станет правителем добрым и славным. В королевстве все должно происходить по доброму размышлению, что и присуще королю. Ибо поспешность порождает полное разрушение, или, по Евангелию: “Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет”» (Мф. 12:25) [Lambarde, 1644. P. 142].
Обращаясь к этой статье, Дж. Салтерн перестает на время откликаться на юнионистские запросы монарха. Он стремится напомнить ему о том, что королевская власть – это совокупность прерогатив, имеющих пределы. «Король, – цитирует Дж. Салтерн, – который есть наместник высшего государя, поставлен, чтобы управлять и защищать королевство и народ Господа, а более всего святую церковь от злопыхателей, и разрушать и искоренять преступников <…> Ему надлежит также в королевстве своем оберегать, хранить, укреплять, направлять, оборонять церковь во всей целостности ее и с учетом всех вольностей ее против врагов ее, ведь согласно утверждению отцов и предков, Бога надлежит возвеличивать над всеми, и всегда он должен быть пред взорами людей. Ему у себя в королевстве надлежит также учредить и ввести в действие добрые законы и хорошие обычаи и искоренить злые. Кроме того, королю надлежит управлять совместно с советом, т. е. парламентом» [Ibid. P. 142–143]. Дж. Салтерн, по-видимому, тонко чувствовал пределы собственного писания, поскольку воздержался от упоминания пассажа, содержавшегося в этой статье, о том, что при несоблюдении перечисленных правил король может «утратить имя короля» и престол, как это уже случилось в VIII в. с Хильдериком III, которого по благословению папы сверг Пипин Короткий [Ibid. P. 142].
В конце своего произведения он отчетливо говорит о единстве и близости двух народов и даже намекает на общее происхождение их законодательств: «Шотландская история во многом совпадает с нашей <…> и всеми дополнительными данными не только доказывает древность и праведность наших общих законов, но и подобие или близость законов Шотландии законам нашим, что можно видеть по законам Брека и Фергуса, которые соответствовали законам Молмуция и законам Мерсии, и по законам Кеннета, не слишком отличающихся от законов Альфреда, и, наконец, по их “Книгам королевского величества” (their books of Regiam Majestatem), начального свода их общего права, соответствующего нашему Глэнвиллу. И пора сказать правду: до Генриха III, до правления которого еще писал Глэнвилл, т. е. до кровавых войн было мало отличий в законах и религии у двух наших народов. Опять-таки самые древние саксонские государи и законотворцы на самом деле упоминают многое из нашего общего права, что, должно признать, они переняли у бриттов, ибо говорят они об этом, как о вещах повседневных и обычных». Здесь, таким образом, Дж. Салтерн пишет, что до конца XIII – первой половины XIV в., когда Англия не пыталась завоевать Шотландию и когда, по преданию, англичане не увезли с собой шотландские законы, которые потом Эдинбургу пришлось создавать заново, обе страны жили по общему праву. Мирная передача короны шотландскому монарху из дома Стюартов свидетельствует о том, что, благодаря промыслу Божьему, наступает время, когда былое единство должно быть восстановлено [Saltern, 1605. L].
Обращаясь к трактату Дж. Салтерна, исследователи видят в нем только наличие двух дискурсов: традиционного антикварного дискурса древности и бессмертия английского государства и права, которые ведут начало от древних забытых обычаев и законов государей древних бриттов, и юнионистского дискурса, который существовал еще до прихода Якова I, но с его появлением стал особенно актуален. Думается, что здесь представлен, хотя и не столь явно и выразительно, как два первых дискурса, еще и дискурс общего права, охраняющий традиционные вольности подданных и обозначающий границы королевской власти. Пусть ограниченно, скромно, закамуфлированно, но на страницах трактата Дж. Салтерна нашлось место негативной риторикеи депутатов парламента и многих английских юристов.
Список литературы Антикваризм и юнионизм Джорджа Салтерна
- Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб.: Алетейя, 2001. 362 c.
- Брандт М. Ю. Парламентские дебаты по вопросу объединения Англии и Шотландии в начале XVII в.//Средние века. 1989. Вып. С. 115-129.
- Гальфрид Монмутский. История бриттов. М.: Наука, 1984. 286 c.
- Кондратьев С. В. Идея права в предреволюционной Англии. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1996. 171 c.
- Кондратьев С. В. Предреволюционная Шотландия//Европа: Международный альманах. Тюмень, 2012. Вып. 11. C. 112-138.
- Brown K. M. Monarchy and Government in Britain, 1603-1637//Seventeenth Century/Ed. by J. Wormald. Oxford: Univ. Press, 2008. P. 13-50.
- Соke E. Reports. London, 1777. Vol. 2. Pt 3. XXIV, 91 p.
- Croft P. King James. Basingstoke: Palgrave, 2003. VII, 208 p.
- Dodderidge J. Of the Antiquity, Power, Order, State, Manner, Persons and Proceedings of the High Court of Parliament in England//A Collection of Curious Discourses Written of Eminent Antiquaries upon Several Heads in our English Antiquities/Ed. by Th. Hearne. London, 1771. P. 281-293.
- Fortescue J. On the Laws and Governance of England/Ed. by Sh. Lockwood. Cambridge: Univ. Press, 1997. 216 p.
- Giraldus Cambrensis. Interarium Kambriae, et Descriptio Kambria/Ed. by J. F. Dimock. London, 1868. 380 p.
- Greenberg J. Radical Face of Ancient Constitution: St Edward's «Laws» in Early Modern Political Thought. Cambridge: Univ. Press, 2001. IX, 343 p.
- Kidd C. British Identities before Nationalism. Ethnicity and Nationhood in the Atlantic World, 1600-1800. Cambridge: Univ. Press, 1999. VIII, 322 p.
- King James VI and I Political Writings/Ed. by J. P. Sommerville. Cambridge: Univ. Press, 1994. XXIX, 337 p.
- Lambarde W. Archaionomia, siue de priscis anglorum legibus libri. Londini, 1644. 262 p.
- Lockyer R. Early Stuarts. Political History of England, 1603-1642. London: Longman, 1989. 402 p.
- Macinnes A. I. British Revolution, 1629-1660. Hundmills: Palgrave, 2005. XI, 337 p.
- Pontici Virunni Tarvisini. Historiae Britanicae//Galfredi Monumetensis. Historia Britonum/Ed. by J. A. Goles. L., 1844. P. 1-53.
- Ross R. R. Memorial Culture of Early Modern English Lawyers: Memory as Keyword, Shelter, and Identity, 1560-1640//Yale Journal of Law & the Humanities. 1998. Vol. 10. No. 2. P. 229-326.
- Ruding R. Annals of the Coinage of Great Britain and Its Dependencies: From the Early Period of Authentic History to the Reign of Victoria. London, 1817. Vol. 2. 487 p.
- Saltern G. Of the Antient Lawes of Great Britane. L., 1605. M2.
- Travers J., James I. Masque of Monarchy. Richmond: The National Archives, 2003. IX, 118 p.
- Woolf D. R. Idea of History in Early Stuart England. Erudition, Ideology, and «The Light of Truth» from the Accession of James I to the Civil War. Toronto: Univ. Press, 1990. XXII, 377 p.
- Wormald J. Creation of Britain: Multiple Kingdoms or Core and Colonies?//Transactions of Royal Historical Society. 1992. Vol. 2. P. 173-194.