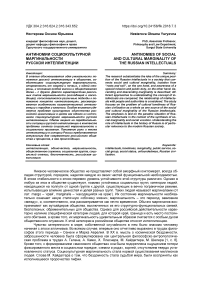Антиномии социокультурной маргинальности русской интеллигенции
Автор: Нестерова Оксана Юрьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается идея уникальности положения русской интеллигенции в обществе, соединяющего социокультурную маргинальность, оторванность от «корней и почвы», с одной стороны, и осознание особой миссии и общественного долга - с другой. Дается характеристика различных типов маргинальности (нисходящей и восходящей), сопоставляются различные подходы к пониманию концепта «интеллигенция», рассматриваются особенности взаимоотношений интеллигенции с народом и властью. Особое внимание уделяется проблеме культурного одиночества российской цивилизации в целом как одного из источников социокультурной маргинальности русской интеллигенции. Сделан акцент на парадоксальности ситуации русской интеллигенции в контексте проблемы синтеза социальной маргинальности и социального призвания. Понимание роли и места интеллигенции в истории России представляется актуальным для современного российского общества и процессов, в нем происходящих.
Интеллигенция, одиночество, маргинальность, общественное служение, социальная группа, социальный статус, беспочвенность, российская цивилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14941543
IDR: 14941543 | УДК: 304.2:316.624.2:316.343.652 | DOI: 10.24158/fik.2018.7.3
Текст научной статьи Антиномии социокультурной маргинальности русской интеллигенции
РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Никакое человеческое общество не представляет собой аморфный конгломерат, всегда обладая структурой, порядком, наделяя каждую из своих частей функциональной необходимостью. В эпохи стабильности и эпохи перемен уровень устойчивости этой структуры различен. Однако в любую из эпох в обществе существуют, помимо устойчивых социальных групп, категории людей, находящихся на полпути от одной группе к другой, существующих в вечно пограничном режиме, испытывающих влияние ценностей и целей разных групп. Таких людей называют маргиналами (от лат. margo – ‘край’, marginalis – ‘находящийся на краю’). Их состояние маргинальности необязательно означает некую статичную «обочину жизни»; маргинальность – это переход, зависание «между», и, соответственно, она рассматривается как нечто временное. Обычно маргиналов воспринимают как аутсайдеров общества, выключенных из его структурно-функциональных связей, бесполезных, обременительных для общества. Однако для российской действительности характерно наличие специфической категории людей, для которой край, граница и есть место постоянного обитания, а кроме того, их маргинальность удивительным образом считается с особым духом общественного служения. К этой категории в российском обществе относят интеллигенцию.
Чувство затерянности в мире, собственной случайности в нем было знакомо человеку начиная с эпохи эллинизма. Во всяком случае, впервые оно отчетливо выражено в трудах философов этого периода – Сенеки и Марка Аврелия. В ХХ в. мысль о космической бездомности, заброшенности человека была сформулирована как центральная философско-антропологическая проблема в трудах А. Гелена, А. Камю, Х. Плеснера, М. Хайдеггера, М. Шелера [1, с. 8]. Кроме того, с формированием «массового общества» она была подкреплена ощущением потери фиксированного места в социальном порядке, «земли и рода», корней, отсутствием твердо установленного статуса. Социокультурная маргинальность стала нормой существования миллионов людей. Слова М. Хайдеггера о том, что бездомность стала судьбой мира, были восприняты как исполнившееся пророчество пифии.
Сама по себе маргинальность, понимаемая как неукорененность, бездомность (неважно, сознательная или нет, воспринимаемая как несчастье или осознанный выбор в качестве средства для достижения поставленной цели), по отношению к обществу может играть двоякую роль – двигателя, сообщающего обществу необходимую для развития динамику, или же деструктивного начала, возвращающего социальные структуры в разбалансированное состояние, лишая их прежней функциональной эффективности. О.А. Сергеева различает маргинальность нисходящую, представляющую выпадение из системы социальных связей, способную предрасполагать индивида к асоциальному, криминогенному поведению; и маргинальность восходящую, реализующуюся в ситуациях, когда именно в маргинальных социокультурных средах благодаря наиболее активным их представителям возникали мировые религии, великие философские системы, научные концепции и шедевры искусства [2, с. 105]. Стиль поведения маргинала, или «человека диаспоры», как называет его Г.С. Померанц, также вариативен – он «либо изворачивается как угорь, чтобы захватить чужое пространство, либо живет одним духом» [3, с. 128].
Однако следует отметить, что обе характеристики маргинальности – позитивная и негативная – не только противоположны, но и неразрывно связаны, как две стороны медали. Они способны переплетаться, превращаться в собственную противоположность, парадоксальным образом уживаться. В любом случае маргинальность – это всегда балансирование над пропастью, неважно, идет речь об индивиде, утратившем место в социальных структурах, или об обществе, живущем в век «вселенской диаспоры» (термин Г.С. Померанца [4, c. 127]).
Социокультурная маргинальность, взятая как заметный симптом состояния общества, всегда выступает как индикатор кризиса традиций общества, трансформации культурных доминант и ценностных ориентиров и, как следствие, цивилизационных трансформаций.
В отношении России, ее истории и культурной специфики проблема социокультурной маргинальности имеет особое значение в силу нескольких причин.
В первую очередь прерывность цивилизационного развития России, ее трудность для понимания со стороны других культур, неспособность адекватного восприятия и усвоения чужого опыта, парадоксальное сочетание внешней «русской европейскости» и глубоко укоренившейся «азиатчины», беспрецедентные генерационные и цивилизационные разрывы, отсутствие культурно-исторического фундамента, подобного античному наследию в европейской культуре, дают определенные основания сделать вывод о культуре России как маргинальной по сути. Сущность этой особенности блестяще сформулировал П.Я. Чаадаев в знаменитой «Апологии сумасшедшего»: «…мы родились на почве, не вспаханной и не оплодотворенной предшествующими поколениями» [5, с. 536]. В то время как каждый представитель европейских народов обладает «своей долей наследства», русские, «явившись на свет, как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, предшественниками нашими на земле, кажутся чужими самим себе, поскольку пережитое пропадает для нас безвозвратно», замечает П.Я. Чаадаев ранее в «Философических письмах» [6, с. 326–327]. Таким образом, он указывает не только на обособленность России и отсутствие общих с Европой культурных корней, но и на отсутствие чувства истории у русского человека, чувства причастности собственному прошлому, собственному наследию. Подобная мысль неоднократно высказывалась также русскими мыслителями конца XIX – начала XX в. Так, Д.С. Мережковский называл особенностью русского духа «способность оторваться от почвы, от быта, истории, сжигать все свои корабли, ломать свое все прошлое во имя неизвестного» [7, с. 36].
Л.Н. Гумилев называл XVI век «веком русского одиночества», одиночества культурного, которое возникло с исчезновением общности православных народов, возглавляемых Византией [8, с. 81]. Он считал, что такое состояние для России не правило, а исключение. Однако, на наш взгляд, проблема культурного одиночества в большей или меньшей степени в разные эпохи является одной из характеристик социокультурной ситуации российской цивилизации в целом. Российская культура, сформированная на перекрестках культур и включающая в период Древней Руси взаимно противоположные по ценностным приоритетам субкультуры (южную, ориентированную на азиатскую степь, новгородскую, ориентированную на Запад, и северо-восточную, крестьянскую, православно-языческую, ставшую доминирующей), была открытой изначально.
Некритичное восприятие «греческой красоты» в Х–XIII вв., европеизация при Петре I, модернизация по западному образцу в конце XIX – начале XX в., вестернизация в постперестроечное время происходили не в силу органичности европейских ценностей русской культуре, а в силу стремления опереться на нечто устойчивое, определившееся и начинавшее определять вектор общечеловеческой цивилизации, – и все это в совокупности с мучительными размышлениями о призвании России, о ее прошлом и будущем, ощущением неуверенности, неукорененно-сти, отсутствия всяких опор и ориентиров.
«Такие растерянные существа встречаются во всех странах, – писал Чаадаев, – а у нас это общее свойство» [9, с. 328]. Беспочвенность, таким образом, оказывается в России не специфическим свойством аутсайдеров, а, как утверждал вслед за П.Я. Чаадаевым Н.А. Бердяев, «наци- онально-русской чертой» [10, с. 29]. Однако, на наш взгляд, острота восприятия этой неукоре-ненности не поделена на всех поровну, а зависит от степени духовного, культурного, личностного развития и относится в первую очередь к той категории людей, которую в России называют непереводимым на другие языки термином «интеллигенция». О сходном феномене пишет известный мыслитель М. Фуко, указывая на три признака интеллектуала: классовую позицию, условия жизни и работы и отношение к власти [11, p. 138]. При этом наблюдается интересный парадокс – выключенность из системы традиционных общественных связей, ощущение своей социальной бездомности не только не препятствует общественному служению, но является его условием.
Тема общественного служения занимает в истории русской мысли особое место. В течение столетий она находилась в фокусе внимания многих мыслителей, начиная с Владимира Мономаха и авторов житийной литературы, получая весьма противоречивые трактовки. Ряд произведений литературы XIX в., критические статьи Белинского позднего периода, некрасовский «Современник», романы Чернышевского и статьи Писарева утверждали идею общественного служения в качестве основного и единственного долга личности, которому следует полностью подчинить частную жизнь. Впоследствии эта идея была унаследована советской идеологией. Русский философ ХIХ в. В. Соловьев продолжал идейную традицию русских христианских подвижников, понимая под общественным служением неспешное и незаметное следование своему долгу. Помимо названных, существовала еще одна интерпретация идеи общественного служения, реализовавшаяся не в форме теорий, а в виде своеобразной «поступочной философии», определенного образа жизни. Она полагала в качестве необходимого условия служения практически демонстративное дистанцирование от общества, эпатирующий разрыв с существующими традициями и образцами повседневного поведения. Эта линия, при всей своей эксцентричности, оказалась на удивление живучей. Она сохраняла свою преемственность с XVI до конца XX в., получая своеобразное воплощение в таких несопоставимых на первый взгляд культурных явлениях, как поведенческие практики русских юродивых, мировоззрение русской интеллигенции XIX в. и советская рок-культура конца ХХ в.
В работе сосредоточим внимание на парадоксальности ситуации русской интеллигенции в контексте проблемы синтеза социальной маргинальности и социального призвания.
Прежде всего необходимо определить, что же понимается под термином «русская интеллигенция». Хотя в большинстве определений, даваемых интеллигенции, присутствует характеристика ее как «образованного слоя», высокий уровень образованности отнюдь не был обязательной чертой русской интеллигенции. В ее среде было немало самоучек, недоучившихся студентов, собственно, занятия интеллектуальным трудом вовсе не были для нее правилом. Как отмечал Н.А. Бердяев, интеллигенция была у нас идеологической, а не профессиональной и экономической группировкой, причем основой для объединения были не образование и не происхождение, а «исключительно идеи, и притом идеи социального характера» [12, с. 17]. Так же как и русские юродивые, интеллигенция полагала мир лежащим во зле и избирала для себя двоякую модель поведения: во-первых, дистанцирование от общества, а во-вторых, исправление его грехов. Отличительной чертой этого стремления к духовному перерождению мира были (как и у юродивых) абсолютный максимализм, фанатическая нетерпимость к компромиссам, раз и навсегда выбранный приоритет «духа» над «домом», мира идей над миром вещей и видение своей миссии ни больше ни меньше как в спасении мира. Вопрос о смысле жизни с точки зрения типичного русского интеллигента С.Л. Франк формулирует следующим образом: «Что делать мне и другим, чтобы спасти мир и тем впервые оправдать свою жизнь?» [13, с. 22]. Только участие в великом деле, способном усовершенствовать мир, погрязший в грехе, привести его к конечному спасению, – только такой глобальной цели стоит подчинить свою жизнь, на меньшее он не согласен. Борьба со «злом и кривдой» при этом неизменно сопровождается не только социальной критикой всего, что мешает этому движению к совершенству, но и сопереживанием и помощью всем «униженным и оскорбленным».
Социальное бунтарство, оппозиция власти являются для интеллигенции в той же мере нормативными, как и социальное дистанцирование [14, с. 83]. Интеллигент, независимо от происхождения, неизбежно занимает позицию вне, снаружи всяких социальных структур. Ф.М. Достоевский справедливо называет русского интеллигента скитальцем. Развивая эту мысль, Н.А. Бердяев относит к характерным чертам интеллигенции «раскол, отщепенство, скитальчество, невозможность примирения с настоящим, устремленность к грядущему» [15, с. 29]. Резкое разграничение себя с остальным миром, аскеза, мученичество, готовность к жертве обнаруживают в интеллигенции православную основу русской души, – даже в случае декларируемого и демонстративного атеизма, – а значит, и родство со святоотеческой традицией и средневековым юродством. Ассоциации с юродством вызывает в особенности нигилизм своей «безблагодатной аскезой», своим требованием разрыва с культурными и историческими традициями, всяким установившимся бытом.
В русской философии сложилась традиция называть специфическое положение интеллигенции «беспочвенностью» и вместе с тем считать ее «типично русским» явлением, воплощением русского духа (Н.А. Бердяев, Д.С. Мережковский). На наш взгляд, эта позиция, разделяемая многими современными исследователями (например, Г.С. Померанцем), содержит в себе некоторое противоречие. Будучи «русским явлением», имея «характерные русские черты» [16], интеллигенция была как раз почвенной, вырастая из специфики русского быта, русской истории. Ее идеи обустройства России были вызваны конкретными проявлениями российской необустроенности. Поэтому осознание интеллигенцией своей отстраненности, вненахождения уместнее назвать не беспочвенностью, а бездомностью, маргинальностью, понимаемой двояко: во-первых, как чуждость времени и среде, а во-вторых, как отсутствие определенного места в социальных структурах.
Социокультурная маргинальность интеллигенции была обусловлена несколькими причинами. Петровские попытки европеизации России одним из своих последствий имели раскол между культурой народной, подлинно русской, почвенной, православно-языческой и культурой дворянской, ориентированной на Европу, секуляризированной, но в полной мере ни европейской, ни атеистической (при всем равнодушии ее представителей к религии) так и не ставшей. О другой причине социальной бездомности интеллигенции предупреждал граф С. Уваров. Ограничивая доступ к высшему образованию для выходцев из разночинных слоев, он обосновывал это тем, что, поскольку в будущем они, уже обладая знаниями, критическим мышлением и, соответственно, амбициями, будучи способными занимать высокие должности, не смогут этого сделать в силу своего низкого происхождения, это естественным образом поставит их в оппозицию по отношению к власти. Отсутствие доступа к власти со стороны образованных и мыслящих людей делает власть по меньшей мере объектом критики с их стороны. Утратив наследственный социальный статус, разночинцы не обретают нового. Правда, следует отметить, что данное объяснение касается лишь небольшой части интеллигенции, к которой относится только разночинная молодежь. Декабристы, принадлежа к дворянскому сословию и имея абсолютно устойчивый высокий статус в обществе, предприняли выступление, которое в случае успеха ничего не дало бы им лично. Неудача же стала бы абсолютной жизненной катастрофой. Именно тот факт, что их цели, тревоги и надежды простирались далеко за пределы сословных и классовых горизонтов, - что в принципе не имеет рационального объяснения, - также обусловил бездомность интеллигенции. Трагизм ее положения состоял в том, что она была слишком тонким культурным слоем, оказавшимся между «двумя гнетами» - со стороны самодержавной власти и темной народной стихии, одинаково чужая обоим и, если не ненавидимая, то непонимаемая, что, возможно, еще хуже.
Интуитивное ощущение чуждости интеллигенции настоятельно требовало и от «толпы», и от власти его логического обоснования. Оно лежало на поверхности со времен Средневековья -безумие. В российской истории есть уникальный случай, когда человек был объявлен безумным по приговору «верховного судии страны», - это П.Я. Чаадаев. Впоследствии, в ХХ в., в советский период российской истории, психиатрические лечебницы стали ординарной репрессивной мерой в отношении диссидентов. Собственно, в глазах здравомыслящих традиционалистов вся российская интеллигенция выглядела безумной уже потому, что мыслила, а значит, видела и оценивала привычные вещи иначе, чем это предписывалось традицией, - и эта ее черта вновь вызывает ассоциации с юродивыми.
Тема мудрости безумия в противовес филистерской «разумности» занимает важное место в русской литературе XIX–XX вв., в особенности в так называемой «литературе бездомья» (термин Ф. Искандера). Ф. Искандер, как известно, обнаружил две тенденции в мировой, и особенно русской, литературе: «дом» как достигнутая гармония (сюда он относил творчество А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова) и «бездомье» как великая тоска по гармонии (М.Ю. Лермонтов и Ф.М. Достоевский) [17, с. 618-619]. Однако это деление можно считать в известной мере условным и относительным. Можно встретить героев, «бездомных» и безумных с точки зрения окружающих в произведениях А.П. Чехова («Палата № 6», «Черный монах»), Н.В. Гоголя («Записки сумасшедшего»), которые позволили себе усомниться в «правильности» современного им общества и тем самым поставили себя вне его. Но наиболее убедительный образец «бездомья» представляют действительно именно герои Ф.М. Достоевского. Им свойственно эсхатологическое ощущение бездны, над которой повисла не только Россия, но и все человечество. Достоевский, по меткому выражению Искандера, «овсемирнил домашнее» - томительное предчувствие катастрофы, крайности в поисках истины и добра. Так, христианское человеколюбие князя Мышкина, его прямота, шокирующая искренность настолько непривычны для окружающих, настолько противоречат их повседневным практикам поведения и взаимоотношений, что его начинают воспринимать как блаженного, «идиота». В конце жизни он становится по-настоящему безумным. Значит ли это, что соединились юродство добровольное, «Христа ради» и природное, которые уверенно различали современники юродивых? Отчего произошло слияние формы и содержания? Мог ли быть другой конец? Князь Мышкин проповедовал из глубин своей безумной (или божественной) души этому миру, радикально иному по отношению к идеалу, и компромисс их представлялся ему невозможным. Впрочем, он действительно невозможен. Стремиться к совершенствованию общества, человека, человечества - значит разрушать то, что устоялось. Невозможно оставаться при этом его функциональной единицей, так как это означало бы выполнение иной задачи - сохранения наличного состояния общества. Трагизм ситуации Мышкина не в том, что буквально понимаемой евангельской любви и жертвенности не нашлось места в этом мире, а в том, что проповедь этих идей и следование им обрекали его на удел изгоя.
Иной путь из «всемства», но также продолжающий традиции юродства, осуществляет «подпольный человек» Ф.М. Достоевского. Обнажая перед читателем все мерзости своего душевного дна, то, что принято скрывать даже от себя, он подвергает сомнению истинность устоявшихся ценностей. Он ничтожен, но он сознает свою ничтожность, свою греховность и низость, и, возможно, это осознание есть первый шаг для того, кто хочет вырваться из «всемства». Подобно юродивым, он ищет случая еще и еще «претерпеть» унижения, оскорбления, потому что это ставит его вне мира, где господствуют законы и принципы, «самоочевидности». Он спорит против самоочевидного: «Дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти» [18, с. 77]. В этом споре он одинок и не может не быть одиноким. Ощущение своего одиночества он формулирует кратко и пронзительно: «Я-то один, а они-то все» [19, с. 89].
Осознание интеллигенцией своего социального одиночества, нахождения вне традиционных структур общества и одиночества культурного несомненно. Однако следует выяснить, было ли это дистанцирование сознательным со стороны интеллигенции, каким социальным категориям она сама себя противополагала.
Традиционно оппозиционным считается отношение интеллигенции к власти. Во многих определениях интеллигенции эта ее черта фигурирует как определяющая (Р.В. Иванов-Разумник, Е.С. Элбакян, Г.С. Померанц). Действительно, отношения русской интеллигенции с властью и в XIX, и в XХ в. складывались весьма драматично: открытое противостояние или критика заканчивались репрессиями, попытки сотрудничать – глубочайшим душевным кризисом и даже самоубийством (А.Н. Радищев, В.В. Маяковский). И причина не в том, что интеллигенция более склонна к деструкции, чем к созиданию, а в том, что сознательное дистанцирование от власти необходимо для сохранения независимости суждений. Дистанцирование от власти не означает отказ от радения о государственных и народных интересах, но предполагает трезвый анализ и публичную критику ее ошибок и грехов: «Царство духа и царство кесаря должны перекликаться, но не должны соединяться под одной короной» [20, с. 125].
Еще более противоречиво складывались взаимоотношения интеллигенции с народом. С одной стороны, фанатичная готовность подчинения личных интересов народослужению, бескорыстие и жертвенность, чувство виновности перед народом, стремление отдать долг (П. Лавров), c другой – горькое осознание чуждости воззрений интеллигенции не только власти и «толпе», но и основной массе образованных граждан. Смирение социального покаяния «культурных классов» перед народом удивительным образом соединялось с высокомерным представлением об интеллигенции как монопольном владельце знания о том, что нужно для «счастья народного», – без учета мнения самого народа. Дворянская и разночинная интеллигенция, представляющая русскую литературу и общественную мысль, либеральное и демократическое движение, осознавала, что при всех своих благих намерениях остается чужаком, что эти самые намерения остаются непонятыми или неизвестными и воспринимаются равнодушно или враждебно.
Но все же подлинным антиподом интеллигенции является не власть и не народ, а мещанство, conglomerated mediocrity (сплоченная посредственность), по выражению Дж.С. Милля, носители усредненных представлений и ценностей, для которых характерны «суживание ума, энергии, стертость личностей, постоянное мельчание жизни, постоянное исключение общечеловеческих интересов» [21]. А.И. Герцен писал о мещанстве как об «окончательной форме западной цивилизации» [22, с. 147]: «Снизу все тянется в мещанство, сверху все само в него падает» [23, с. 146]. Мещанство, торжество маленького человека, живущего только повседневностью, отрезает возможность прикосновения к бытию, которое возможно только в напряженной духовной и душевной жизни.
Миссия интеллигенции – остановить не только всеобщее одичание в эпохи кризисов, но и прорывы зоологического синдрома в социальную жизнь в эпохи относительно сытые и благополучные, не дать мещанству стать «окончательной формой русского устройства» [24, с. 147] вслед за Европой. При этом, осуществляя то, к чему призвана, она неизбежно обрекает себя на непонимание, отрыв от общества, проклятия и ненависть со стороны блюстителей традиций. Специфика ее ситуации состоит в необходимости найти баланс между крайностями, ведь бескомпромиссное стремление к абсолюту чревато безумием, а желание быть понятым может обернуться риском «встать на четвереньки». Однако, по меткому замечанию Г.С. Померанца, «между безумием клинического сумасшествия и рассудительностью мещанина есть ничейная зона, в которой и создается культура» [25, с. 39]. Только оставаясь в этой «ничейной зоне», интеллигенция может стать ядром, вокруг которого рождается и структурируется новое общество, а не просто неким рефлексирующим, но неспособным действовать маргинальным образованием, выпадающим из всех функциональных связей.
Ссылки:
-
1. Денисова Т.Ю. Одиночество: метафизика и диалектика. М., 2013. 192 с.
-
2. Сергеева О.А. Роль этнокультурной и социокультурной маргинальности в трансформации цивилизационных систем // Общественные науки и современность. 2002. № 5. С. 104–114.
-
3. Померанц Г.С. Выход из транса. М., 1995. 575 с.
-
4. Там же. С. 127.
-
5. Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма : в 2 т. Т. 1. М., 1991. 801 с.
-
6. Там же. С. 326–327.
-
7. Мережковский Д.С. Грядущий хам // Мережковский Д.С. Больная Россия. Л., 1991. С. 11–110.
-
8. Гумилев Л.Н., Панченко А.М. Чтобы свеча не погасла: диалог. Л., 1990. 128 с.
-
9. Чаадаев П.Я. Указ. соч. С. 328.
-
10. Бердяев Н.А. Русская идея. Харьков, 2000. 400 с.
-
11. Foucault M. Truth and Power // From Modernism to Postmodernism. An Anthology / ed. by L. Cahoone. Cambridge (Mass.), 1996. 731 p.
-
12. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. 224 с.
-
13. Франк С.Л. Смысл жизни. М., 2004. 157 с.
-
14. Элбакян Е.С. Российская интеллигенция как социокультурный феномен // Общественные науки и современность. 2003. № 3. С. 82–95.
-
15. Бердяев Н.А. Русская идея. С. 29.
-
16. Там же.
-
17. Искандер Ф. Искренность покаяния порождает энергию вдохновения // Искандер Ф. Рассказы. Повесть. Сказка. Диалог. Эссе. Стихи. Екатеринбург, 1999. С. 616–629.
-
18. Достоевский Ф.М. Записки из подполья. СПб., 2004. 249 с.
-
19. Там же. С. 89.
-
20. Померанц Г.С. Указ. соч. С. 125.
-
21. Mill J.S. Of the Liberty of Thought and Discussion [Электронный ресурс] // Mill J.S. On Liberty. Ch. II. 1869. URL: http://www.bartleby.com/130/2.html (дата обращения: 04.07.2018).
-
22. Герцен А.И. Концы и начала // Утопический социализм в России : хрестоматия / под ред. А.И. Володина. М., 1985. С. 146–147.
-
23. Там же. С. 146.
-
24. Там же. С. 147.
-
25. Померанц Г.С. Указ. соч. С. 39.
Список литературы Антиномии социокультурной маргинальности русской интеллигенции
- Денисова Т.Ю. Одиночество: метафизика и диалектика. М., 2013. 192 с.
- Сергеева О.А. Роль этнокультурной и социокультурной маргинальности в трансформации цивилизационных систем//Общественные науки и современность. 2002. № 5. С. 104-114.
- Померанц Г.С. Выход из транса. М., 1995. 575 с.
- Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. Т. 1. М., 1991. 801 с.
- Мережковский Д.С. Грядущий хам//Мережковский Д.С. Больная Россия. Л., 1991. С. 11-110.
- Гумилев Л.Н., Панченко А.М. Чтобы свеча не погасла: диалог. Л., 1990. 128 с.
- Бердяев Н.А. Русская идея. Харьков, 2000. 400 с.
- Foucault M. Truth and Power//From Modernism to Postmodernism. An Anthology/ed. by L. Cahoone. Cambridge (Mass.), 1996. 731 p.
- Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. 224 с.
- Франк С.Л. Смысл жизни. М., 2004. 157 с.
- Элбакян Е.С. Российская интеллигенция как социокультурный феномен//Общественные науки и современность. 2003. № 3. С. 82-95.
- Искандер Ф. Искренность покаяния порождает энергию вдохновения//Искандер Ф. Рассказы. Повесть. Сказка. Диалог. Эссе. Стихи. Екатеринбург, 1999. С. 616-629.
- Достоевский Ф.М. Записки из подполья. СПб., 2004. 249 с.
- Mill J.S. Of the Liberty of Thought and Discussion //Mill J.S. On Liberty. Ch. II. 1869. URL: http://www.bartleby.com/130/2.html (дата обращения: 04.07.2018).
- Герцен А.И. Концы и начала//Утопический социализм в России: хрестоматия/под ред. А.И. Володина. М., 1985. С. 146-147.