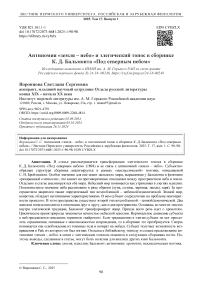Антиномия «Земля – небо» и элегический топос в сборнике К. Д. Бальмонта «Под северным небом»
Автор: Воронцова С.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 1 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается трансформация элегического топоса в сборнике К. Д. Бальмонта «Под северным небом» (1894) и ее связь с антиномией «земля - небо». Субъектно- образная структура сборника анализируется в рамках «неклассической» поэтики, описываемой С. Н. Бройтманом. Особое значение для нее имеет цельность мира, выраженная у Бальмонта в феномене «разорванной слитности», что влияет на противоречивые отношения между пространством неба и земли. Отдельно в статье анализируются оба мира. Небесный мир понимается как утраченная в элегиях идиллия. Положительное значение неба реализовано в ряде образов (луна, солнце, зарница, звезды, заря). За пространством закреплен также определенный тип возлюбленной - небесной/идиллической. Земной мир, напротив, обладает негативными характеристиками. В нем субъект сосредоточен на проблеме невозвратности прошлого. В этом пространстве существует второй тип возлюбленной - земной/демонической. Два женских начала находятся в оппозиции друг к другу, как и два пространства. Оставаясь во многих текстах внутри элегической традиции, Бальмонт трансформирует жанр. Прежде всего речь идет о хронотопе. Циклическое время природы заменяется вечностью небесной идиллии. Вертикальное движение субъекта к ней предлагается описывать термином «кайротоп». Если традиционно в элегии субъект не мог преодолеть ограничения, связанные с невозможностью возрождения, то в сборнике это преобразуется. Смерть понимается как освобождение из темницы тела и возврат на небеса. Субъект получает возможность возвращения в Рай, из которого он был изгнан. Отсылка к библейскому эпизоду и схожее представление антиномии «земля - небо» в связи с элегическим топосом появится в следующих сборниках поэта. Поэтому выводы, сделанные в статье, могут быть полезны для анализа других книг Бальмонта.
Элегия, идиллия, бальмонт, антиномии, хронотоп, неклассическая поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/147251574
IDR: 147251574 | УДК: 821.161.1-1 | DOI: 10.17072/2073-6681-2025-1-90-98
Текст научной статьи Антиномия «Земля – небо» и элегический топос в сборнике К. Д. Бальмонта «Под северным небом»
Со второй половины XIX в. значение жанра во внутренней организации поэтических сборников постепенно утрачивает свое значение, предпочтение отдается тематическому принципу циклизации [Дарвин 2018: 45–56]. Однако и на рубеже XIX–XX вв. есть примеры, когда авторы используют жанр в номинации разделов или основного заглавия сборника. Можно вспомнить «Urbi et Orbi» (1903) В. Я. Брюсова, где выбор жанровой циклизации обусловлен основной идеей книги стихов1 – рефлексией над традицией (думы, баллады, элегии, оды и т. п.). Но не все отсылают к жанрам с целью продемонстрировать их трансформацию. Следом друг за другом в издательстве «Оры» выходят сборники В. Боро-даевского «Стихотворения: Элегии. Оды. Идиллии» (1909) и Ю. Верховского «Идиллии и элегии» (1910), где оба автора стараются приблизиться к жанровому канону [Поэтика: словарь… 2008: 90–91]. О сборнике К. Д. Бальмонта «Под северным небом. Элегии, стансы, сонеты»2 (1894) можно сказать, что отношение к жанровой традиции находится посередине. В нем сохраняются элементы элегического топоса, то, что Л. Я. Гинзбург определяет как «поэтику узнавания» данного жанра [Гинзбург 1974: 29]. Однако поэт переосмысляет значимую для элегии проблему невозвратности прошлого и конечности человеческой жизни, что и задает тон лирическому сюжету сборника. Именно о сюжете имеет смысл говорить, ведь у Бальмонта присутствует «развертывание рефлексии лирического “я”, направленное к преодолению внутренних границ мира и сознания героя актом его самосознания» [Поэтика: словарь… 2008: 114–115]. Поэтому в статье будет использоваться этот термин, а также понятие лирического субъекта – носителя речи и осознанной точки зрения на мир [там же: 112– 113]. Стержнем лирического сюжета становится антиномия «земля – небо», а движение лирического субъекта определяется стремлением преодолеть границы одного пространства и перейти в другое, о чем еще пойдет речь.
О значении элегии для сборника свидетельствует не только основное заглавие, но и выбор эпиграфа. Им становится цитата из переписки поэта-романтика Николауса Ленау с Софи фон Лёвенталь: «Божественное никогда в жизни не являлось мне без сопутствующей ему печали» [Lenau 1968: 72]. И в этой фразе, и в поэтическом творчестве Ленау прослеживаются элегические темы и мотивы. Стоит хотя бы упомянуть, что в сборнике стихов 1832 г. два раздела названы «Песни тоски» и «Песни прошлого» [Lenau 1832: 39, 75]. Молодой Бальмонт высоко ценил поэта-романтика, воспевающего «мировую скорбь». Не зря его литературный дебют в
1885 г. в № 48 журнала «Живописное Обозрение» связан с именем Ленау – Бальмонт переводит его стихотворение «Прощальный взгляд» [Живописное Обозрение 1885: 343].
Для жанра элегии характерны особые пространственно-временные отношения, суть которых необходимо уточнить. Природа элегического хронотопа становится понятнее всего при сопоставлении с идиллией. В ней субъект пока еще существует в родном пространстве, отдельной частью которого является locus amoenus [Курциус 2021: 311]. Будучи частью рода, субъект не осознает собственную смертность в полной мере. Границы между индивидуальными судьбами стираются, а смена поколений означает непрерывность жизни. Элегический же субъект уже покинул идиллию. Сильнее всего изменяется понимание им времени – он больше не принадлежит роду. Поэтому ключевым для элегии становится противопоставление повторяющегося природного цикла (отсюда типичная элегическая оппозиция осени как умирания и весны как возрождения) переживанию чувства невозвратности для отдельного человека [Магомедова 1997: 7–9]. Именно проекция элегического хронотопа на пространственную антиномию «земля – небо» представляет для нас наибольший интерес.
Упомянутая антиномия и элегический топос будут рассмотрены в статье в контексте «неклассической» лирики (конца XIX – начала XX в.), которую подробно характеризует в своих работах С. Н. Бройтман. Особенности «неклассической» поэтики заметны в трансформации субъектно-образной структуры. Во-первых, важна «установка на бесконечность как на некое целое», во-вторых, «первообраз воспроизводит не отдельные предметы, а “цельность всего мира”», в-третьих, в основе субъектной сферы теперь лежит «парадигматическая межсубъектная целостность» [Бройтман 1997: 221].
Из сказанного выше ясно, что понятие цельности на разных уровнях становится определяющим. В сборнике это цельность, вбирающая в себя противоречия, что подмечает и Бройтман, ссылаясь на более поздние слова И. Ф. Анненского о поэзии Бальмонта как о поэзии «разорванной слитности» [Анненский 1979: 99]. Поэтому и отношения небесного и земного пространства изменчивы. Они представлены как противоположности, между которыми существует разрыв (его и желает преодолеть лирический субъект). Но одновременно с этим демонстрируется их равнозначность относительно макрокосма – оба пространства его полноправные части.
Для лучшего понимания рассматриваемой в статье антиномии следует охарактеризовать каждое из пространств по отдельности. В первую очередь обратим внимание на небо. Воспринимаемое положительно, оно сопоставимо с утраченным в элегии идиллическим миром. Небесный свод – мир «воздушной немой бесконечности», где «время прекращает свой полет» [Бальмонт 1894: 4]. Время в верхнем пространстве напоминает и о поколенческом цикле идиллии, и о циклическом времени природы, которое противостоит недолгой жизни человека на земле. Но у Бальмонта понимание времени трансформируется, ведь речь идет не просто о возрождении в цикле, но о существовании в вечности.
В элегии субъект не мог надеяться на преодоление ограничений линейного времени, но в сборнике ситуация меняется. Лирический субъект изначально принадлежал к небесному миру, ему было доступно бессмертие. Такой вывод можно сделать из стихотворения «Молитва», где поэт отсылает к библейскому сюжету: «Создал Ты Рай – чтоб изгнать нас из Рая. // Боже, опять нас к себе возврати» [там же: 6]. Переход от вечности к времени, от бессмертия к смертности формулируется через известный платоновский тезис о теле как темнице души [Платон 1993: 35– 36]: «Зачем Ты даровал мне душу неземную // – И приковал меня к земле?» [Бальмонт 1894: 11]. Отсюда намечается главное стремление субъекта – освободиться и вновь обрести рай: «Моя душа стремится в мир иной» [там же: 7]; «Чтоб мог я на них улететь в безграничное царство Лазури» [там же: 19] и т. п.
Важной составляющей на пути к внеземному миру является желание субъекта «слиться с Природой, прекрасной, гигантской, и вечной» [там же: 13]. Это проявляется не только на содержательном уровне, но и в субъектной структуре через межсубъектную целостность, когда явления разного порядка становятся едины. В некоторых текстах субъект (не только «я», но и «ты», «мы») объединяет ряд образов и предстает в виде небесных, природных, стихийных явлений: «Ты – отблеск зарницы, ты – отзвук загадочной песни без слов» [там же: 16], «Я – облачко, я – ветерка дыханье» [там же: 7]. Подобная ситуация строится не на параллельных уподоблениях [Бройт-ман 1997: 241], но на отождествлении, что отражает упомянутое стремление субъекта раствориться в Природе.
Значение небесного пространства ясно не только из описанного выше отношения к нему субъекта. Его идиллическая природа заметна во многом. Например, говоря о небе, Бальмонт отдает предпочтение лексике с позитивными коннотациями: «отрадный гимн Небес» [Бальмонт 1894: 5] (Здесь и далее курсив мой. – С. В.); «И в лазури на небе прекрасном» [там же: 21]; «В небе далеком зажгутся огни, <…> И позабудем мы муку грядущую» [там же: 23]; «Скользят стрижи в лазури неба чистой» [там же: 35]; «В небесах царил покой» [там же: 41] и т. п. Исключением становятся случаи, когда небо отражает эмоциональное состояние субъекта на земле: «С отуманенного неба // Грустно смотрит тусклый день» [там же: 10]; «Скорбь в небесах разлита, точно грусть о мечте отлетевшей» [там же: 13]; «Хмуро северное небо, // Скорбны плачущие тучи» [там же: 14]; «Как в небесах, объятых тяжким сном» [там же: 5] и т. п.
Не менее важен и выбор колористической символики. Глубину верхнего мира подчеркивает его основной цвет – лазурь, ведь это «самый дематериализованный из значащих цветов на границе между внеземным космосом и воздушной атмосферой Земли» [Ханзен-Лёве 2003: 425]. Лазурь занимает особое место в палитре символистской поэзии. Этот цвет многогранен, но, так или иначе, он исходит из космического, потустороннего пространства, сообщая о его беспредельности. Интересно, что позднее в статье А. Белого «Священные цвета» (1903) лазурь в глазах девушки связывается с границей, отделяющей «земную любовь от вечной» [Белый 1994: 208]. В сборнике Бальмонта такое сравнение присутствует в стихотворении «Норвежская девушка». Два женских образа (земная/демо-ническая и небесная/идиллическая возлюбленная) и их связь с двумя пространствами в сборнике также присутствуют, о чем еще будет сказано.
Кроме вышеперечисленного, картина верхнего мира складывается и из отдельных небесных образов, которые дополняют его значение идиллического пространства. Самый частотный для сборника – образ луны. Лунное начало, в противоположность солярному, ассоциируется с фемининным. Это не единственный небесный образ, соотносящийся с женским началом, как станет понятно далее. В ранний период символизма луна часто перенимает на себя демонические женские черты [Ханзен-Лёве 1999: 199–218], лишь в редких случаях она выступает в роли космической царицы [Ханзен-Лёве 2003: 143]. Но именно последнее характерно для Бальмонта: «Я расстался с печальной Луною, // – Удалилась царица небес» [Бальмонт 1984: 20]. Отметим, что здесь, как и во многих других текстах сборника, наблюдается соединение «субстанциального и условнопоэтического слова» [Бройтман 1997: 246]. Субстанциальный смысл – исчезновение луны с наступлением утра, а условно-поэтический – прощание с возлюбленной. Эти два типа слова в сборнике соответствуют двум пространствам (земле и небу).
В стихотворениях прослеживаются две тенденции, исходя из которых можно трактовать образ луны. С одной стороны, луна представляет благое начало, олицетворяет небесный мир или является проводником в него: «Точно мук у них так много, точно им чего-то жаль. // А Луна все льет сиянье, и без муки, без страданья , <…> И с спокойствием приемлют чары ясных светлых снов» [Бальмонт 1894: 4–5]; Когда Луна сверкнет во мгле ночной // Своим серпом, блистательным и нежным [там же: 7]; «Под холодным сияньем Луны, // Хорошо нам с тобой! <…> Обитатели призрачной светлой страны <…> В царстве бледной Луны. <…> Как отрадно мечтать и любить » [там же: 10]. С другой стороны, если луна, как это ранее было с небом, отражает меланхолическое настроение лирического субъекта, она превращается в символ печального: «Как за́мка седые руины , печальной // Луны трепетание, // Застенчивых сумерек скорбь , или осени грустной листы» [там же: 23]; «Месяц матовый взирает, // Месяц горькой грусти полн» [там же: 33].
Следующий образ верхнего мира – солнце. В отличие от луны, оно присутствует лишь в трех текстах. В стихотворениях «Разлука» и «Есть красота в постоянстве страданий…» солнце ассоциируется с обновлением, радостью, то есть становится еще одним образом, подчеркивающим положительное значение небес: «И Солнце смеется , взирая на них, // И шлет им лучистые ласки » [там же: 22]; « Знойного яркого Солнца сияние, // Пышной Весны молодые черты» [там же: 22]. Хотя образ луны – один из важнейших, в открывающем сборник стихотворении «Смерть» именно солнце выступает объединяющей силой. Это объясняется тем, что оно «представляет собой уже свершившееся “объединение” всех противоположностей и начал» [Ханзен-Лёве 2003: 155]. Вполне вероятно, тут намечается образ солнца как всепроникающего и, что немаловажно, бессмертного начала, что проявится позднее в сборнике «Будем как Солнце» (1903).
Для пространства неба имеют значение еще три образа: звезд, зарницы и зари. В стихотворении «Разлука» дана карта звездного неба, но первенство отдается вечерней звезде: «Но среди миллионов светил // Нет светила прекрасней – Вечерней Звезды» [Бальмонт 1894: 21–22]. Находясь на лазурном небе (а лазурь редко сочетается с ночным миром [Ханзен-Лёве 2003: 433]), она оказывается равноценна луне. Словно окутанная лазурной мантией, звезда также соотносится с небесной царицей. Еще один важный «звездный» мотив – предзнаменований и «соответствия между событиями космическими и земными» [там же: 251]: «Тоскою о том, чего нет , //
Что дремлет пока , как цветок под водою, // О том, что когда-то проснется чрез многие тысячи лет. // Чтоб вспыхнуть падучей звездою» [Бальмонт 1894: 8]. Падающая звезда напоминает о слезах и имеет негативное значение, ведь она покидает небесную идиллию, повторяя судьбу лирического субъекта. Но у Бальмонта падение звезды намекает не только на трагическое грядущее. В стихотворении «Рабство», погибая в пограничном пространстве между небом и землей, звезда становится символом утраченного прошлого, размышления о котором характерны для элегии: «К тому, чем прежде был он так волнуем, // К святыне, что погасла, как звезда» [там же: 37]. Она пересекает границу, после которой остается только память о рае.
Аналогично интерпретируется образ зарницы в одноименном стихотворении, которое пронизано чувством мимолетности человеческого бытия. Воспоминания, как и зарница, лишь краткая вспышка: «Порой сверкает беглая зарница // Но ей не отвечает дальний гром, – // Так точно иногда в уме моем // Мелькают сны, и образы, и лица, // Погибшие во тьме далеких лет» [там же: 5]. Вновь возникает типичный для элегии мотив утраченного прошлого. Отрицательная символика, как ранее было с другими образами, появляется при контакте небесного явления с эмоциональным состоянием субъекта. Однако в сборнике зарница имеет и другие значения. Она не молния, движущаяся сверху вниз, а только намек на нее. Так, и в стихотворении «Норвежская девушка» возлюбленная принадлежит не столько к земному миру, сколько намекает на небесный: «Ты – отблеск зарницы, ты – отзвук загадочной песни без слов» [там же: 16]. Уместно предположить, что зарница, как луна и вечерняя звезда, связана с небесной царицей. Более того, Бальмонт именует ее «светлой, девственно-ясной» [там же: 16], и в этом указании на чистоту и непорочность открывается возможность для интерпретации возлюбленной в контексте софийного образа. Последний раз зарница появляется в стихотворении «Когда меж тучек туманных…». Красота сопоставляется с «зарницей вечной» [Бальмонт 1894: 20]. И если в других примерах подчеркивалась мимолетность этого явления, здесь образ зарницы преображается. Ее переход в вечность и, соответственно, в верхний мир происходит с появлением луны: «Полночной порой загорится луна» [там же: 20]. Как упоминалось в статье ранее, луна в данном случае выступает в одной из своих ролей в сборнике – проводника в небесное пространство.
Последнее значимое явление верхнего мира – заря. Она продолжает цепочку небесных образов, связанных с фемининным началом. Заря также ассоциируется с переходностью, промежуточностью, с «моментом визионерского ожидания» [Ханзен-Лёве 2003: 233]. У Бальмонта речь идет об ожидании богини, небесной царицы. Момент эпифании, возникающий в переходный период между ночью и утром, описан так: «В нерукотворные ткани из света, // В поясе пышном из ярких лучей, // Мчится Заря благовонного лета <…> Мчится Богиня Рассвета. <…> Хором поют: “Пробудилась Заря!” <…> В небе – и блеск изумруда, и блеск янтаря» [Бальмонт 1894: 31]. Что важно, заря-богиня не покидает небесное пространство. Лирический субъект разлучен с ней и выступает только наблюдателем.
Связь образов с небесной царицей позволяет выделить в сборнике тип героини-возлюбленной, которую условно можно назвать небесной (или идиллической3). Ее внешний облик сообщает о принадлежности к благому миру: «Очи твои, голубые и чистые – // Слиянье небесной лазури с изменчивым блеском волны» [там же: 15]; «Ты – шелест нежного листка, // Ты – ветер, шепчущий украдкой» [там же: 16]. Лирический субъект не в силах достичь возлюбленной, так как она находится в верхнем мире, из которого он сам был изгнан. Но у него сохранилось припоминание о ней: «Мне чудится, что я когда-то // Тебя видал, с тобою был, // Когда я сердцем то любил, // К чему мне больше нет возврата» [там же: 16].
Особняком стоит стихотворение «О, птичка нежная, ты не поймешь меня...», где речь идет о совсем юной девушке, которая сравнивается с птицей. Птица выступает медиатором между двумя мирами и является существом пограничным. Так и девушка не принадлежит полностью к небесному райскому пространству, но и «приземленной» еще не стала. Промежуточное положение зависит от ее возраста. Юность является периодом между детством, которое часто становится метафорой утраченного рая, и зрелостью, когда, как и для лирического субъекта, «день давно погас».
Дав характеристику небесному пространству, следует перейти к земному. На этом уровне довольно заметно влияние элегической традиции. Что не удивительно, ведь в подлунном мире человек и осознает свою смертность. В стихотворениях «Зарница», «Грусть», «Призрак» и «Я знаю, что значит – безумно рыдать…» присутствуют значимые для элегии чувства утраты, тоски, разочарования. Особое место занимает стихотворение «Уходит светлый май. Мой небосклон темнеет…», где лирический субъект рефлексирует по поводу невозможности вернуть прошедшие годы. Хотя картина грядущего представляется пессимистичной, он находит силы и смысл дальнейшего земного существования:
«Хочу я усладить хоть чье-нибудь страданье. // Хочу я отереть хотя одну слезу!» [там же: 9]. Поскольку в тексте лирический субъект высказывает опасения о том, что перестанет «верить в честь свою и в правду слов своих» [там же: 8], вероятно, что утешением на земле, если понимать слово как поэтическое, становится творчество. Мир художественного слова может стать временной альтернативой небесному4. Гимном идее творчества как формы бессмертия становится текст «Памяти И. С. Тургенева»: «Но смерти для твоих созданий нет» [там же: 27].
В стихотворениях, где внимание сосредоточено на земном пространстве, возникают воспоминания о безвозвратно утраченной или разрушенной идиллии. Однако лирический субъект размышляет не только о небесном рае, но и о том самом потерянном малом мире из жанрового канона элегии. В стихотворениях «Родная картина», «Картинка. Сонет» и «В столице» возникают сельские идиллические образы как ушедшие в прошлое. Здесь встречаются неизменные атрибуты подобной идиллии: пастух, луг, родник, деревья и т. д. Место разрушено временем буквально («под гнетом тяжкой скорби // Покачнулася изба» [там же: 11]) или существует только умозрительно. В соответствии с особенностями жанра сам субъект находится за пределами малого мира и не может вернуться, он лишь воспроизводит образ в памяти: «Невозвратного светлого детства предо мной загорелись огни» [там же: 40]; «Свежий запах душистого сена только болью терзает меня» [там же: 40]. Земле, как и небесам, соответствует свой тип героини-возлюбленной. Ее можно назвать демонической. Суть ее природы раскрывается в текстах «О, женщина, дитя, привыкшее играть…», «Дышали твои ароматные плечи…», «Рабство», «Кошмар» и «Нет, мне никто не сделал столько зла…». Ее образ создается за счет традиционных атрибутов демонической женской героини [Магомедова 2010: 129, 133]. При встречах с ней акцент сделан на плотской земной любви и на телесности: «Упругие груди неровно вздымались» [Бальмонт 1894: 35]; «Твоих волос капризные извивы» [там же: 36]; «Душа моя наполнилася вдруг // От этих губ, от этих ног и рук» [там же: 37] и т. п. Характерным для нее являются: обман («Настолько же прекрасны, как и лживы, // Глубокие спокойные глаза, // Где и́скрится притворная слеза» [там же: 37]), вам-пиризм5 («Она украдкой кровь мою, // Как злой вампир, пила» [там же: 38]), мортальные мотивы («Я вижу, как ты гроб готовишь мне» [там же: 38]), ядовитость («Кого ты отравила поцелуем» [там же: 37]), змеиная символика («И видел я везде – везде вокруг – // Змею с полузакрытыми глазами» [там же: 38]).
Что касается мортальных мотивов, следует уточнить, что смерть не воспринимается исключительно в отрицательном ключе. В случае взаимодействия с демонической героиней речь идет о физической смерти, о негативном восприятии трупа как предметно выраженного свидетельства конечности бытия. Однако для лирического субъекта принципиально важна смерть в ином, символическом, значении, как переход в небесный мир, освобождение из темницы тела.
Отдельно прокомментируем змеиную символику. Кроме символа женского обмана и мнимости земная змея выступает двойником космического Уробороса [Ханзен-Лёве 2003: 556], что сопоставимо с тем, как земная/демоническая возлюбленная становится двойником небесной. Тут видится связь с мифом о Софии, разделенной на две ипостаси: божественную и падшую. Но такое сравнение допустимо лишь отчасти, так как демоническая героиня у Бальмонта не ждет спасения из плена, она сама пленяет и не дает вырваться за пределы земного мира: «И понял я, что мне уж нет возврата // К прошедшему, к Лазури неземной» [Бальмонт 1894: 37]. Хотя власть ее не абсолютна, и лирический субъект не забывает небесную возлюбленную, поэтому сквозь черты демонической проступает ее образ: «Как будто лежал я не в грешных объятьях, // Как будто лелеял я душу родную» [там же: 35]; «Твой нежный смех – улыбка серафима» [там же: 39]. Причем сравнение с ангелами традиционно для изображения идиллической героини (здесь – небесной).
Из всего вышесказанного заметна общая отрицательная оценка земного пространства. Исключением становятся природные локусы, которые по своей сути для лирического субъекта ближе к небесному: «Мне ненавистен гул гигантских городов, // Противно мне толпы движенье, // Мой дух живет среди лесов» [там же: 12]. Именно здесь прослеживается другой вариант отношений в антиномической паре «земля – небо». Как было показано, два мира являются противоположностями, однако их равнозначность возникает относительно вселенского пространства. Природное, стихийное начало играет в этом не последнюю роль. Оно присутствует как в небесном мире (воздух), так и в земном (огонь, земля, вода). Причем допускается понимание водной стихии как отражения воздушной [Хан-зен-Лёве 2003: 681]. Сквозь природу либо проступает верхний мир, либо небо и земля контактируют. В стихотворении «Фантазия» лес обретает покой лишь под светом луны, а в текстах «Без улыбки, без слов» и «У фьордов» единое царство формируется при совмещении земного (снег, степь) и небесного (луна). В стихотворе- нии «Разлука» показана сопоставимость и равенство небесного и земного: «Неразлучен с красавицей неба, Вечерней Звездой, – // Как морская волна неразлучна с пугливою чайкой» [Бальмонт 1894: 21]. В стихотворении «Заря» драгоценные камни, которые обычно символически в нижнем мире замещают небесные тела, напротив, переносятся на уровень небесной сферы. Вспомним, что в славянской мифологии солнце и луна фигурируют и как драгоценные камни [Афанасьев 1868: 467]. Это еще раз демонстрирует цельность земного и небесного, перетекание одного в другое.
Взаимодействие двух пространств на фоне элегического топоса вполне очевидно. Небо по отношению к земле, как неоднократно отмечалось, выступает идиллией, из которой лирический субъект был изгнан. И если «небосклон» его жизни «темнеет», то настоящие небеса – мир вне времени. Об этом говорилось в начале статьи, теперь, охарактеризовав оба пространства, уточним понимание времени в сборнике. В нем следует разграничить собственно хронотоп и «кайротоп» [Федотова 2010: 61–62] (мистери-альный/вертикальный хронотоп [Бахтин 1986: 193]). В рамках первого лирический субъект движется по горизонтали и ощущает невозвратность прошлого. Это реальный план событийного ряда в земном мире. Во втором случае речь идет о вхождении в вечность и переживании мистической встречи с небесной возлюбленной.
Лирический субъект отказывается смириться и предпочесть горизонтальное движение вертикальному: «И на земле земное совершай, // Но сохрани в душе огонь нетленный // Божественной мистической тоски, // Желанье быть не тем, чем быть ты можешь. // Бестрепетно иди все выше – выше, // По лучезарным чистым ступеням» [Бальмонт 1894: 3–4]. Стремление к небесному миру в лирическом сюжете – стремление к вечности, отраженное и в кольцевой композиции сборника. В открывающем его стихотворении «Смерть» лирический субъект сразу провозглашает отказ от понимания смерти как конца и называет ее началом жизни. В финале последнего стихотворения – «Смерть, убаюкай меня» – разочарование земной жизнью достигает предела, но смерть означает перерождение. Глядя на небо, субъект ощущает «предчувствие дня» [там же: 43], что дает надежду на возвращение в идиллию.
В заключение можно сказать, что субъектнообразная структура в сборнике построена в соответствии с принципами «неклассической» поэтики. Ключевым понятием ее становится цельность, что выражается в особом взаимодействии небесного и земного мира и в межсубъектной целостности, демонстрирующей стремление субъекта к слиянию с чем-то большим, например с Природой. Не менее важна установка на бесконечность, которая реализуется на уровне образной структуры и выступает свойством небесного пространства.
Изменения, возникающие в «неклассической» поэтике, могут влиять на трансформацию элегического топоса, хронотоп которого связан с антиномией земля – небо. Анализ, проведенный в статье, позволяет прийти к нескольким выводам. Во-первых, на пространственном уровне утраченному в элегии идиллическому миру соответствует небо. Во-вторых, переосмысляется оппозиция двух времен в элегии. Если раньше краткости человеческого бытия противопоставлялся цикл природы, то Бальмонт замещает его вечностью небесного мира. Изменяется и положение субъекта. Обыкновенно в элегии возврат в счастливое прошлое невозможен, что осознается страдающим из-за этого субъектом. В сборнике же он обладает стремлением вернуться в идиллию и получает на это шанс. Меняется отношение к смерти – она начинает пониматься как этап на пути к перерождению, к новой жизни. Важно указать, что в лирическом сюжете утрата небесной идиллии связана с библейским эпизодом изгнания из Рая. В данном сборнике в контексте элегического топоса данный сюжет намечен впервые. Однако в дальнейшем он получит развитие в других поэтических книгах Бальмонта, что позволяет предположить схожие изменения элегического топоса в них.