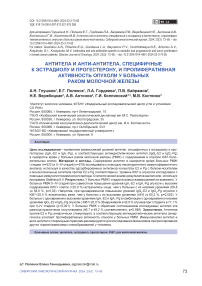Антитела и анти-антитела, специфичные к эстрадиолу и прогестерону, и пролиферативная активность опухоли у больных раком молочной железы
Автор: Глушков А.Н., Поленок Е.Г., Гордеева Л.А., Байрамов П.В., Вержбицкая Н.Е., Антонов А.В., Колпинский Г.И., Костянко М.В.
Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj
Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования - выявление взаимосвязей уровней антител, специфичных к эстрадиолу и прогестерону (IgA1-E2 и IgA1-Pg), и соответствующих антиидиотипических антител (IgG2-E2 и IgG2-Pg) в сыворотке крови у больных раком молочной железы (РМЖ) с содержанием в опухоли Ki67-положительных клеток. материал и методы. Содержание антител в сыворотке крови больных РМЖ I стадии (n=522) и II-IV стадий (n=578) исследовали с помощью неконкурентного иммуноферментного анализа, используя в качестве адсорбированных антигенов конъюгаты E2 и Pg c белком-носителем и моноклональные антитела против E2 и Pg соответственно. Уровень Ki67 в опухолях исследовали с помощью иммуногистохимического метода. Статистический анализ результатов выполняли, используя программу Statistica 8.0.
Антитела, эстрадиол, прогестерон, ki67, рак молочной железы
Короткий адрес: https://sciup.org/140305930
IDR: 140305930 | УДК: 618.19-006.6-097:612.621:576.385 | DOI: 10.21294/1814-4861-2024-23-3-73-85
Текст научной статьи Антитела и анти-антитела, специфичные к эстрадиолу и прогестерону, и пролиферативная активность опухоли у больных раком молочной железы
Основной причиной онкологической смертности женского населения России и других экономически развитых стран остается рак молочной железы (РМЖ) [1]. Выявление и широкое клиническое применение внутриклеточных биологических маркеров диагностики и прогнозирования роста опухоли способствуют повышению эффективности лечения и сдерживанию роста смертности от РМЖ. Одним из таких маркеров является протеин Ki67, экспрессия которого в злокачественных клетках отражает пролиферативную активность опухоли и служит важным критерием в определении молекулярно-биологического подтипа РМЖ [2, 3].
Известное влияние на возникновение и рост РМЖ оказывают внеклеточные факторы сыворотки крови: стероидные гормоны и стероид-связывающий глобулин [4, 5]. Гораздо менее исследованным остается участие антител, специфичных к стероидным гормонам и к их клеточным рецепторам, в патогенезе гормонозависимых опухолей. Ранее в экспериментах показано, что иммунизация животных против стероидных гормонов приводила к повышению их концентрации в сыворотке крови [6–8]. Прививаемость и последующий рост мышиной аденокарциномы молочной железы после трансплантации клеток MT/W9A замедлялись у животных, иммунизированных конъюгатом эстрадиола (E2) с белком-носителем, по мнению авторов, за счет связывания E2 специфическими антителами в сыворотке крови [9]. У больных РМЖ повышенные уровни антител против E2 встречались чаще, чем у здоровых женщин [10]. Совместное влияние E2 и прогестерона (Pg) на прогрессирование РМЖ предполагает вероятное совместное участие специфических к ним антител в модуляции пролиферативной активности опухоли. Однако до сих пор такое участие не было исследовано. Еще меньше данных о роли антител против стероидных рецепторов в канцерогенезе молочной железы. В модельных экспериментах in vitro показаны внегеномные эффекты антител против рецепторов E2 и Pg, блокирующие или имитирующие действие соответствующих гормонов на различные клетки-мишени [11–14], в том числе на культивируемые клетки опухоли молочной железы [15–18]. Агонистическое или антагонистическое действие в зависимости от условий эксперимента проявляли in vitro и in vivo антиидиотипические антитела, распознающие гормон-связывающие сайты моноклональных антител против E2 и реагирующие с E2-рецептором [19, 20].
Аутоантитела против E2-рецептора у больных РМЖ описаны в единственной работе [21], их уровень в сыворотке превышал таковой у здоровых женщин и прямо коррелировал с экспрессией Ki67 в опухоли. Одновременное повышение уровней антиидиотипических антител к E2 и Pg у больных РМЖ обнаруживали чаще, чем у здоровых женщин [22]. Согласно известной теории Йерне [23], образование антиидиотипических антител происходит в ответ на появление идиотипических антител, индуцируемых чужеродным агентом. Поэтому можно предположить, что аутоантитела против E2 и Pg индуцируют синтез соответствующих антиидиотипических антител и их уровни в сыворотке крови больных РМЖ должны быть взаимосвязанными. Однако справедливость этого предположения остается неподтвержденной.
Одновременное влияние идиотипических антител, специфичных к стероидным гормонам, и соответствующих антиидиотипических антител на пролиферативную активность опухоли у больных РМЖ ранее не было исследовано. Изучение указанных антител во взаимодействии с внутриклеточными опухолевыми маркерами представляется актуальным ввиду перспективности их анализа в сыворотке крови в качестве дополнительных маркеров прогноза роста и метастазирования РМЖ и других гормонозависимых новообразований.
Цель исследования – выявление предполагаемых взаимосвязей антител класса А, специфичных к E2 и Pg (IgA1-E2 и IgA1-Pg), и соответствующих антиидиотипических антител класса G (IgG2-E2 и IgG2-Pg) в сыворотке крови больных РМЖ с содержанием в опухоли Ki67 положительных клеток.
Материал и методы
Исследовали сыворотку крови 1100 женщин в постменопаузе с диагнозом: Инвазивная карцинома молочной железы неспецифического типа. Все обследуемые женщины впервые поступили на лечение в Кузбасский клинический онкологический диспансер г. Кемерово. До обращения к онкологу пациентки не получали специального противоопухолевого лечения, в том числе гормонозаместительной терапии. По классификации TNM рак молочной железы I стадии диагностирован в 47,5 %, II стадии – в 38,4 %, III стадии – в 12,9 %, IV стадии – в 1,2 % случаев. Медиана возраста составила 65 лет (интерквартильный размах 59–71 год).
Маркер пролиферативной активности опухолевой клетки Ki67 в опухолевых клетках определили с помощью стандартного иммуногистохимического (ИГХ) метода. Материалом для исследования служили трепан-биоптаты, ИГХ-анализ Ki67 выполнялся с помощью кроличьих антител против Ki67 (клон 30-9 CONFIRM, Ventana, США).
Периферическую кровь для исследования забирали в соответствии с этическими принципами Хельсинкской декларации (2013) и согласно «Правилам клинической практики в Российской Федерации» (Приказ Минздрава РФ № 266 от 19.06.2003). Забор крови осуществлялся до начала противоопухолевого лечения. Дизайн исследования был одобрен локальным этическим комитетом Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН. Все женщины дали письменное информированное согласие на участие в настоящем исследовании.
Идиотипические антитела класса А, специфичные к эстрадиолу и прогестерону (IgА1-E2, IgА1-Pg), определяли методом неконкурентного иммуноферментного анализа по методике [24], где в качестве антигена на пластике были иммобилизованы конъюгаты Е2 или Pg с бычьим сывороточным альбумином (BSA). Комплекс антиген-антитело выявляли с помощью козьих антител против IgА человека, меченных пероксидазой хрена (Invitro-gen, США), с разведением 1/10000. Оптическую плотность ферментативной реакции измеряли на фотометре Multiscan FC (Thermo Scientific, Финляндия) при длине волны 450 нм. Уровни IgА1-E2 и IgА1-Pg выражали в условных единицах и рассчитывали по формуле
IgА1-X=(ODX-BSA– ODBSA)/ODBSA, где X=Е2 или Pg, ODX-BSA – связывание идиотипических антител с конъюгатом гаптен-BSA; ODBSA – фоновое связывание с белком-носителем BSA.
Антиидиотипические антитела класса G, специфичные к E2 и Pg (IgG2-E2, IgG2-Pg), определяли методом неконкурентного полуколичественного иммуноферментного анализа с использованием коммерческих наборов «ИммуноФА-Эстрадиол», «ИммуноФА-ПГ» («Иммунотех», г. Москва) с иммобилизованными на пластике моноклональными антителами против E2 или Pg по методике [24]. Связавшиеся с моноклональными антителами IgG2-E2 и IgG2-Pg выявляли с помощью козьих антител против IgG человека, меченных пероксидазой хрена (Invitrogen, США), с разведением 1/30000. Уровни IgG2-E2 и IgG2-Pg выражали в условных единицах и рассчитывали по формуле
IgG 2 -Х=(OD Х-мАТ – OD фон )/OD фон ,
Таблица 1/table 1
Частота низких ( ≤ 20 %) и высоких (>20 %) уровней Ki67 положительных клеток в опухоли у больных РМЖ i, ii и iii–iV стадий
Frequencies of low ( ≤ 20 %) and high (>20 %) levels of Ki67 positive cells in tumor in Bcp i, ii and iii–iV stages
|
Ki67 в опухоли/ Tumor Ki67 |
РМЖ I стадия/ BCP I stage (n=522) |
РМЖ II стадия/ BCP II stage (n=422) |
РМЖ III–IV стадии/ BCP III–IV stages (n=156) |
χ2, (р) df=1 I–II стадии/ I–II stages |
χ2, (р) df=1 I – (III–IV) стадии/ I – (III–IV) stages |
χ2, (р) df=1 II – (III–IV) стадии/ II – (III–IV) stages |
|
Ki67≤20 % |
304 (58,2 %) |
167 (39,6 %) |
55 (35,3 %) |
31,8 |
39,9 |
0,7 |
|
Ki67>20 % |
218 (41,8 %) |
255 (60,4 %) |
101 (64,7 %) |
(<0,001) |
(<0,001) |
(0,395) |
|
χ2, (р) df=2 |
44,1 (<0,001) |
Примечание: таблица составлена авторами.
Note: created by the authors.
где X=Е2 или Pg, ODХ-мАТ – связывание антиидио-типических антител с моноклональными антителами (мАТ) против E2 или Pg; ODфон – фоновое связывание меченных пероксидазой хрена козьих антител против IgG человека с моноклональными антителами против E2 или Pg без добавления сыворотки крови.
Полученные данные обрабатывали с помощью программы Statistica 8.0 (StatSoft Inc., USA). Тип распределения исследуемых показателей оценили с помощью W-критерий Шапиро–Уилка. Поскольку показатели имели ненормальный характер распределения, для их оценки в дальнейшем использовали непараметрический критерий χ2 с поправкой Йейтса на непрерывность вариации. Критический уровень значимости принимался p<0,05. Оптимальные пороги отсечения (cut-off value) уровней исследуемых антител были рассчитаны с помощью ROC-анализа между больными РМЖ I стадии с низким (≤20 %) и высоким (>20 %) процентным содержанием Ki67 положительных клеток в опухоли [25].
Результаты
Сначала исследовали распределение больных РМЖ по стадиям в соответствии с низким (≤20 %) и высоким (>20 %) содержанием в опухоли Ki67 положительных клеток (табл. 1). Выяснилось, что у больных РМЖ II и III–IV стадий новообразования с низкими уровнями Ki67 экспрессирующих клеток встречалось реже (39,6 и 35,3 %), чем при опухоли с высокими уровнями Ki67 (60,4 и 64,7 %), по сравнению с больными РМЖ I стадии (58,2 и 41,8 % соответственно). Таким образом, пролиферативная активность опухоли у больных РМЖ II и III–IV стадиями была выше, чем у больных РМЖ I стадии. Отсутствие значимых различий между больными со II и III–IV стадиями по удельному весу опухолей и с низкой, и с высокой пролиферативной активностью послужило основанием условного объединения их в отдельную подгруппу при дальнейшем анализе.
Далее рассчитали пороговые значения уровней исследуемых антител (cut-off), по которым больные РМЖ I стадии с высоким и низким содержанием в опухоли Ki67 положительных клеток имели наибольшие различия. Таковыми оказались: для IgG2-E2=4,0; IgG2-Pg=2,5; IgA1-E2=3,0; IgG2-Pg=2,0. После этого провели анализ распределения больных РМЖ по высоким и низким уровням антител при разных стадиях заболевания.
В табл. 2 приведены результаты такого анализа по уровням IgG2-E2 и IgG2-Pg, каждого по отдельности (позиции 1 и 2) и в четырех возможных индивидуальных сочетаниях их низких и высоких уровней. Выяснилось, что по соотношениям низких и высоких уровней IgG2-E2 и IgG2-Pg, равно как и по удельному весу их сочетаний, больные РМЖ I, II и III–IV стадий не имели существенных различий. Аналогичные результаты получены при анализе IgA1-E2 и IgA1-Pg (табл. 3), то есть образование исследуемых идиотипических и антиидиотипиче-ских антител не зависело от стадии заболевания. Отсутствие различий между больными РМЖ II и III–IV стадий позволяет объединить их в отдельную подгруппу (как и в предыдущем разделе) для дальнейшего поиска наиболее общих закономерностей в соответствии с целью исследования.
При изучении кооперативного участия идиотипических и антиидиотипических антител к стероидным гормонам необходимо, прежде всего, выяснить, взаимосвязано ли их образование в конкретной ситуации у больных РМЖ. По результатам, представленным в табл. 4, стало очевидным, что высоким уровням IgG2-E2 соответствуют только высокие уровни IgG2-Pg, но не IgA1-E2 и IgA1-Pg. И наоборот, высоким уровням IgA1-E2 соответствуют высокие уровни IgA1-Pg, но не IgG2-E2 и IgG2-Pg. Выявленные особенности оказались одинаковыми у пациенток с РМЖ I и II–IV стадий. Иными словами, образование антиидиотипических антител не зависит от уровня идиотипических антител, как можно было бы предположить, исходя из общеизвестной теории
Таблица 2/table 2
Частота низких и высоких уровней igg2-e2 и igg2-pg и их индивидуальных комбинаций у больных РМЖ i, ii и iii–iV стадий
Frequencies of low and high levels of igg2-e2 and igg2-pg and their personal combinations in Bcp i, ii and iii–iV stages
|
Антитела и их комбинации/ Antibodies and their combinations |
РМЖ I стадия/ BCP I stage (n=522) |
РМЖ II стадия/ BCP II stage (n=422) |
РМЖ III–IV стадии/ BCP III–IV stages (n=156) |
χ2, (р) df=1 I–II стадии/ I–II stages |
χ2, (р) df=1 I – (III–IV) стадии/ I – (III–IV) stages |
χ2, (р) df=1 II – (III–IV) стадии/ II – (III–IV) stages |
|
1.1 IgG2-E2≤4 |
279 (53,4 %) |
250 (59,2 %) |
100 (64,1 %) |
2,9 |
5,1 |
0,9 |
|
1.2 IgG2-E2>4 |
243 (46,6 %) |
172 (40,8 %) |
56 (35,9 %) |
(0,086) |
(0,016) |
(0,334) |
|
2.1 IgG2-Pg≤2,5 |
274 (52,5 %) |
208 (49,3 %) |
76 (48,7 %) |
0,8 |
0,5 |
0,01 |
|
2.2 IgG2-Pg>2,5 |
248 (47,5 %) |
214 (50,7 %) |
80 (51,3 %) |
(0,361) |
(0,462) |
(0,977) |
|
3.1 IgG2-E2≤4 + IgG2-Pg≤2,5 |
168 (32,2 %) |
138 (32,7 %) |
53 (34,0 %) |
0,01 (0,921) |
0,1 (0,748) |
0,04 (0,849) |
|
3.2 IgG2-E2>4 + IgG2-Pg≤2,5 |
106 (20,3 %) |
70 (16,6 %) |
23 (14,7 %) |
1,1 (0,298) |
1,5 (0,225) |
0,2 (0,692) |
|
3.3 IgG2-E2≤4 + IgG2-Pg>2,5 |
111 (21,3 %) |
112 (26,5 %) |
47 (30,1 %) |
1,2 (0,281) |
1,3 (0,255) |
0,1 (0,799) |
|
3.4 IgG2-E2>4 + IgG2-Pg>2,5 |
137 (26,2 %) |
102 (24,2 %) |
33 (21,2 %) |
0,2 (0,633) |
0,9 (0,338) |
0,3 (0,589) |
Примечание: таблица составлена авторами.
Note: created by the authors.
Таблица 3/table 3
Частота низких ( ≤ ) и высоких (>) уровней iga1-e2 и iga1-pg и их индивидуальных комбинаций у больных РМЖ i, ii и iii–iV стадий
Frequencies of low ( ≤ ) and high (>) levels of iga1-e2 and iga1-pg and their personal combinations in Bcp i, ii and iii–iV stages
|
Антитела и их комбинации/ Antibodies and their combinations |
РМЖ I стадия/ BCP I stage (n=522) |
РМЖ II стадия/ BCP II stage (n=422) |
РМЖ III–IV стадии/ BCP III–IV stages (n=156) |
χ2, (р) df=1 I–II стадии/ I–II stages |
χ2, (р) df=1 I – (III–IV) стадии/ I – (III–IV) stages |
χ2, (р) df=1 II – (III–IV) стадии/ II – (III–IV) stages |
|
290 (55,6 %) 232 (44,4 %) |
231 (54,75) 191 (45,3 %) |
87 (55,8 %) 69 (44,2 %) |
0,03 (0,853) |
0,01 (0,964) |
0,01 (0,899) |
|
287 (54,9 %) 235 (45,1 %) |
223 (52,8 %) 199 (47,2 %) |
78 (50,0 %) 78 (50,0 %) |
0,3 (0,556) |
1,0 (0,316) |
0,3 (0,607) |
|
3.1 IgA1-E2≤3 + IgA1-Pg≤2 |
233 (44,6 %) |
170 (40,3 %) |
63 (40,4 %) |
1,6 (0,201) |
0,7 (0,396) |
0,01 (0,941) |
|
3.2 IgA1-E2>3 + IgA1-Pg≤2 |
54 (10,3 %) |
53 (12,6 %) |
15 (/9,6 %) |
1,6 (0,210) |
0,01 (0,936) |
0,4 (0,505) |
|
3.3 IgA1-E2≤3 + IgA1-Pg>2 |
57 (11,0 %) |
61 (14,5 %) |
24 (15,4 %) |
2,9 (0,085) |
2,0 (0,152) |
0,01 (0,944) |
|
3.4 IgA1-E2>3 + IgA1-Pg>2 |
178 (34,1 %) |
138 (32,7 %) |
54 (34,6 %) |
0,1 (0,746) |
0,2 (0,659) |
0,02 (0,888) |
Примечание: таблица составлена авторами.
Note: created by the authors.
Йерне об идиотип-антиидиотипических иммунологических сетях.
Исходя из очевидной способности антиидио-типических антител напрямую связываться с мембранными E2 и Pg рецепторами и таким образом оказывать внегеномное воздействие на прогрессирование РМЖ, в первую очередь исследовали взаимосвязи содержания в опухоли Ki67 экспрессирующих клеток с уровнями IgG2-E2 и IgG2-Pg в сыворотке крови. При этом учитывали вероятность того, что такие взаимосвязи могут различаться у больных в начале и при продолжающемся росте опухоли (табл. 5). Оказалось, что у больных РМЖ I стадии искомые взаимосвязи отсутствовали. Опухоли с низким или с высоким содержанием Ki67 положительных клеток встречались с одинаковой частотой как при низких, так и при высоких уровнях IgG2-E2 и IgG2-Pg в сыворотке крови (позиции
Таблица 4/table 4
Взаимосвязи низких и высоких уровней исследуемых антител у больных РМЖ i и ii–iV стадийinterrelations between low and high levels of studied antibodies in Bcp i and ii–iV stages
|
Антитела/ Antibodies |
IgG2–Pg ≤2,5 >2,5 |
IgA1–E2 |
IgA1–Pg |
||
|
≤3 |
>3 |
≤2 |
>2 |
||
|
РМЖ I стадия/BCP I stage (n=522) |
|||||
|
IgG2–E2≤4 |
168 (60,2 %) 111 (39,8 %) |
160 (57,3 %) |
119 (42,7 %) |
164 (58,8 %) |
115 (41,2 %) |
|
IgG2–E2>4 |
106 (43,6 %) 137 (56,4 %) |
130 (53,5 %) |
113 (46,5 %) |
123 (50,6 %) |
120 (49,4 %) |
|
χ2, (р) df=1 |
13,7 (<0,001) |
0,6 (0,427) |
3,2 (0,074) |
||
|
IgG2-Pg≤2,5 |
–– |
141 (51,5 %) |
133 (48,5 %) |
139 (50,7 %) |
135 (49,3 %) |
|
IgG2-Pg>2,5 |
–– |
149 (60,1 %) |
99 (39,9 %) |
148 (59,7 %) |
100 (40,3 %) |
|
χ2, (р) df=1 |
3,6 (0,059) |
3,9 (0,049) |
|||
|
IgA1–E2≤3 |
–– |
– |
– |
233 (80,3 %) |
57 (19,7 %) |
|
IgA1–E2>3 |
–– |
– |
– |
54 (23,3 %) |
178 (76,7 %) |
|
χ2, (р) df=1 |
167,3 (<0,001) |
||||
|
РМЖ II–IV стадии/BCP II–IV stages (n=578) |
|||||
|
IgG2–E2≤4 |
191 (54,6 %) 159 (45,4 %) |
186 (53,1 %) |
164 (46,9 %) |
173 (49,4 %) |
177 (50,6 %) |
|
IgG2–E2>4 |
93 (40,8 %) 135 (59,2 %) |
132 (57,9 %) |
96 (42,1 %) |
128 (56,1 %) |
100 (43,9 %) |
|
χ2, (р) df=1 |
9,9 (0,002) |
1,1 (0,299) |
2,2 (0,135) |
||
|
IgG2–Pg≤2,5 |
149 (52,5 %) |
135 (47,5 %) |
154 (54,2 %) |
130 (45,8 %) |
|
|
IgG2–Pg>2,5 |
169 (57,5 %) |
125 (42,5 %) |
147 (50,0 %) |
147 (50,0 %) |
|
|
χ2, (р) df=1 |
1,3 (0,259) |
0,9 (0,351) |
|||
|
IgA1–E2≤3 |
233 (73,3 %) |
85 (26,7 %) |
|||
|
IgA1–E2>3 |
68 (26,2 %) |
192 (73,8 %) |
|||
|
χ2, (р) df=1 |
125,4 (<0,001) |
||||
Примечание: таблица составлена авторами.
Note: created by the authors.
Таблица 5/table 5
Частота низких и высоких уровней igg2–e2 и igg2–pg и их индивидуальных комбинаций соответственно низким и высоким уровням Ki67 положительных клеток в опухоли у больных РМЖ i и ii–iV стадий
Frequencies of low and high levels of igg2–e2 and igg2–pg and their personal combinations according to low and high levels of tumors Ki67 in Bcp i and ii–iV stages
|
Антитела и их комбинации/ Antibodies and their combinations |
РМЖ I стадия/ BCP I stage (n=522) Ki67≤20 % Ki67>20 % |
РМЖ II–IV стадии/ BCP II–IV stages (n=578) Ki67≤20 % Ki67>20 % |
χ2, (р) df=1 |
||
|
1.1 IgG2–E2≤4 |
162 (58,1 %) |
117 (41,9 %) |
127 (36,3 %) |
223 (63,7 %) |
28,8 (<0,001) |
|
1.2 IgG2–E2>4 |
142 (58,4 %) |
101 (41,6 %) |
95 (41,7 %) |
133 (58,3 %) |
12,6 (<0,001) |
|
χ2(р), df=1 |
0,01 (0,998) |
1,5 (0,225) |
|||
|
2.1 IgG2–Pg ≤2,5 |
156 (56,9 %) |
118 (43,1 %) |
95 (33,5 %) |
189 (66,5 %) |
30,1 (<0,001) |
|
2.2 IgG2–Pg>2,5 |
148 (59,7 %) |
100 (40,3 %) |
127 (43,2 %) |
167 (56,8 %) |
13,9 (<0,001) |
|
χ2(р), df=1 |
0,3 (0,585) |
5,4 (0,020) |
|||
|
3.1 IgG2–E2≤4 + IgG2–Pg≤2,5 |
96 (57,1 %) |
72 (42,9 %) |
68 (35,6 %) |
123 (64,4 %) |
15,9 (<0,001) |
|
3.2 IgG2–E2>4 + IgG2–Pg≤2,5 |
60 (56,6 %) |
46 (43,4 %) |
27 (29,0 %) |
66 (71,0 %) |
14,2 (<0,001) |
|
3.3 IgG2–E2≤4 + IgG2–Pg>2,5 |
66 (59,5 %) |
45 (40,5 %) |
59 (37,1 %) |
100 (62,9 %) |
12,3 (<0,001) |
|
3.4 IgG2–E2>4 + IgG2–Pg>2,5 |
82 (59,9 %) |
55 (40,1 %) |
68 (50,4 %) |
67 (49,6 %) |
2,1 (0,147) |
|
3.5 (3.1 + 3.2 + 3.3) |
222 (57,7 %) |
163 (2,3 %) |
154 (34,8 %) |
289 (65,2 %) |
42,7 (<0,001) |
|
χ2 (р), df=3 |
0,4 (0,938) |
12,4 (0,007) |
|||
|
χ2(р3.1–3.4), df=1 |
0,1 (0,718) |
6,5 (0,011) |
|||
|
χ2(р3.2–3.4), df=1 |
0,1 (0,705) |
9,5 (0,002) |
|||
|
χ2(р3.3–3.4), df=1 |
0,01 (0,946) |
4,7 (0,030) |
|||
|
χ2(р3.5–3.4), df=1 |
0,1 (0,729) |
10,0 (0,002) |
|||
Примечание: таблица составлена авторами.
Note: created by the authors.
-
1 и 2). Не обнаружили и различий по удельному весу опухолей с различным содержанием Ki67 между больными с отдельными индивидуальными сочетаниями низких и высоких уровней исследуемых антител (позиции 3.1–3.4).
Иная ситуация проявилась у больных РМЖ II–IV стадии. Удельный вес больных с большим количеством Ki67 положительных клеток был несколько ниже при высоких уровнях IgG2-E2, чем при низких уровнях (позиции 1.2–1.1: 58,3 vs 63,7 %, р=0,225). Эти различия оказались статистически значимыми между больными с низкими и высокими уровнями IgG2-Pg (позиции 2.2–2.1: 66,5 vs 56,8 %, р=0,02).
У больных с одновременно низкими уровнями исследуемых антиидиотипических антител (позиция 3.1) опухоли с высокой пролиферативной активностью обнаруживали в 64,4 %. Аналогичные показатели у больных с низким уровнем одного из антител в сочетании с высокими уровнями другого (позиции 3.2–3.3) составили 71,0 и 62,9 %. В подгруппе 3.5, объединяющей больных с одновременно низкими уровнями IgG2-E2 и IgG2-Pg и больных с низкими уровнями одного их них при высоком другого, этот показатель оказался равным 65,2 %. Значительно реже опухоли с высоким содержанием Ki67 положительных клеток встречались у больных с одновременно высокими уровнями IgG2-E2 и IgG2-Pg (позиция 3.4, 49,6 %, р<0,05 по сравнению с каждой из подгрупп 3.1, 3.2 и 3.3 по отдельности и р=0,002 по сравнению с объединенной подгруппой 3.5).
Значимое (p<0,001) возрастание удельного веса больных с высоким содержанием Ki67 экспрессирующих клеток с РМЖ II–IV стадии по сравнению с РМЖ I стадии (табл. 1) имело место и при низких, и при высоких уровнях IgG2-E2 и IgG2-Pg (позиции 1 и 2). Такое же возрастание (более чем на 20 %) наблюдалось у больных с одновременно низкими уровнями IgG2-E2 и IgG2-Pg (позиция 3.1) или у больных с низким уровнем одного из них при высоком уровне другого (позиции 3.2 и 3.3). Напротив, у больных с одновременно высокими уровнями исследуемых антител (позиции 3.4) удельный вес случаев с высоким содержанием Ki67 положительных клеток при РМЖ II–IV стадии незначительно превышал таковой при РМЖ I стадии (49,6 vs 40,1 %, р=0,147).
В табл. 6 приведены результаты исследования взаимосвязей пролиферативной активности опухолей с содержанием в сыворотке идиотипических антител против E2 и Pg. Искомые взаимосвязи не обнаружены у больных РМЖ I стадии. У больных РМЖ II–IV стадии незначительное превышение случаев с высоким содержанием в опухоли Ki67 экспрессирующих клеток наблюдалось при высоких уровнях IgA1-E2 и IgA1-Pg (позиции 1 и 2). У больных с одновременно высокими уровнями IgA1-E2 и IgA1-Pg (позиции 3.4) удельный вес слу- чаев с высоким содержанием в опухоли Ki67 положительных клеток оказался выше (68,8 %), чем у больных с одновременно низкими их уровнями (позиция 3.1, 60,9 %, р=0,04) и у больных с низким уровнем одного из них при высоком другого (позиции 3.2 и 3.3: 52,9 % и 54,1 %; р=0,03). При этом у больных с одновременно низкими уровнями этих антител этот показатель был достаточно высок (60,9 %). У больных в объединенной подгруппе 3.5 с одновременно низкими уровнями IgA1-E2 и IgA1-Pg или одного из них (3.1 + 3.2 + 3.3) опухоли с Ki67>20 встречались реже (58,0 %), чем у больных с одновременно высокими уровнями этих антител (р=0,016).
Возрастание удельного веса больных с активно пролиферирующей опухолью от I до II–IV стадий имело место при любой из индивидуальных комбинаций исследуемых антител, но достигало высокой статистической значимости только в случаях с одновременно низкими и одновременно высокими уровнями IgA1-E2 и IgA1-Pg (р<0,001). Таким образом, по содержанию в сыворотке исследуемых антител среди больных РМЖ можно условно выделить следующие группы:
-
1) ассоциированные с высокой пролиферативной активностью опухоли: по антиидиотипическим антителам – с одновременно низкими уровнями IgG2-E2 и IgG2-Pg или с низким уровнем одного из них в сочетании с высоким другого (позиции 3.1 + 3.2 + 3.3 в табл. 5); по идиотипическим антителам – с одновременно высокими уровнями IgA1-E2 и IgA1-Pg (позиция 3.4 в табл. 6);
-
2) ассоциированные с низкой пролиферативной активностью опухоли: по антиидиотипическим антителам – с одновременно высокими уровнями IgG2-E2 и IgG2-Pg (позиция 3.4 в табл. 5); по идиотипическим антителам – с одновременно низкими уровнями IgA1-E2 и IgA1-Pg или с низким уровнем одного из них при высоком другого (3.1 + 3.2 + 3.3 в табл. 6).
В табл. 7 приведены результаты анализа комбинированного влияния идиотипических и антиидиоти-пических антител на пролиферативную активность опухоли у больных РМЖ. Удельный вес больных РМЖ II–IV стадий с высоким содержанием Ki67 положительных клеток (>60 % – как в табл. 1) имел место при комбинациях: IgG2, ассоциированных с высокой пролиферативной активностью опухоли, и IgA1, ассоциированных с низкой пролиферативной активностью (позиция 1, 61,9 %) или IgA1, ассоциированных с высокой пролиферативной активностью (позиция 2, 73,2 %). При этом возрастание удельного веса больных с Ki67>20 от I к II–IV стадиям было значительным (р<0,001).
Напротив, при комбинациях IgG2, ассоциированных с низкой пролиферативной активностью опухоли, и IgA1, ассоциированных с низкой или высокой пролиферативной активностью (позиции 3 и 4), удельный вес больных II–IV стадией с высо-
Таблица 6/table 6
Частота низких и высоких уровней iga1–e2 и iga1–pg и их индивидуальных комбинаций соответственно низким и высоким уровням Ki67 положительных клеток в опухоли у больных РМЖ i и ii–iV стадий
Frequencies of low and high levels of iga1–e2 and iga1–pg and their personal combinations according to low and high levels of tumors Ki67 in Bcp i and ii–iV stages
|
Антитела и их комбинации/ Antibodies and their combinations |
РМЖ I стадия/ BCP I stage (n=522) Ki67≤20 % Ki67>20 % |
РМЖ II–IV стадии/ BCP II–IV stages (n=578) Ki67≤20 % Ki67>20 % |
χ2, (р) df=1 |
||
|
1.1 IgA1–E2≤3 |
172 (44,1 %) |
118 (55,9 %) |
130 (40,9 %) |
188 (59,1 %) |
19,9 (<0,001) |
|
1.2 IgA1–E2>3 |
132 (56,9 %) |
100 (43,1 %) |
92 (35,4 %) |
168 (64,6 %) |
22,0 (<0,001) |
|
χ2(р), df=1 |
0,2 (0,641) |
1,6 (0,206) |
|||
|
2.1 IgA1–Pg ≤2 |
172 (60,0 %) |
115 (40,0 %) |
123 (40,9 %) |
178 (59,1 %) |
20,8 (<0,001) |
|
2.2 IgA1–Pg>2 |
132 (56,2 %) |
103 (43,8 %) |
99 (35,7 %) |
178 (64,3 %) |
20,6 (<0,001) |
|
χ2(р), df=1 |
0,6 (0,437) |
1,4 (0,238) |
|||
|
3.1 IgA1–E2≤3 + IgA1–Pg≤2 |
138 (59,2 %) |
95 (40,8 %) |
91 (39,1 %) |
142 (60,9 %) |
18,2 (<0,001) |
|
3.2 IgA1–E2>3 + IgA1–Pg≤2 |
34 (63,0 %) |
20 (37,0 %) |
32 (47,1 %) |
36 (52,9 %) |
2,5 (0,117) |
|
3.3 IgA1–E2≤3 + IgA1–Pg>2 |
34 (59,6 %) |
23 (40,4 %) |
39 (45,9 %) |
46 (54,1 %) |
2,1 (0,151) |
|
3.4 IgA1–E2>3 + IgA1–Pg>2 |
98 (55,1 %) |
80 (44,9 %) |
60 (31,2 %) |
132 (68,8 %) |
20,4 (<0,001) |
|
3.5 (3.1 + 3.2 + 3.3) |
206 (59,9 %) |
138 (40,1 %) |
162 (31,2 %) |
224 (58,0 %) |
22,6 (<0,001) |
|
χ2(р), df=3 |
1,4 (0,711) |
8,4 (0,040) |
|||
|
χ2(р3.1–3.4), df=1 |
0,6 (0,455) |
2,5 (0,116) |
|||
|
χ2 (р3.2–3.4), df=1 |
0,8 (0,384) |
4,8 (0,028) |
|||
|
χ2 (р3.3–3.4), df=1 |
0,2 (0,649) |
4,9 (0,027) |
|||
|
χ2 (р3.5–3.4), df=1 |
0,9 (0,334) |
5,8 (0,016) |
|||
Примечание: таблица составлена авторами.
Note: created by the authors.
Таблица 7/table 7
Частота персональных стимулирующих и угнетающих пролиферацию опухоли комбинаций исследуемых iga1 и igg2 соответственно низким и высоким уровням Ki67 положительных клеток в опухоли у больных РМЖ i и ii–iV стадий
Frequencies of personal proliferation promoting and inhibiting studied antibodies combinations according to low and high levels of tumors Ki67 in Bcp i and ii–iV stages
|
Комбинации антител/ Antibodies combinations |
РМЖ I стадия/ |
РМЖ II–IV стадии/ |
|
|
BCP I stage (n=522) Ki67≤20 % Ki67>20 % |
BCP II–IV stages (n=578) Ki67≤20 % Ki67>20 % |
χ2, (р) df=1 |
|
|
1. [IgG23.1 + 3.2 + 3.3] + [IgА13.1 + 3.2 + 3.3] |
151 (60,2 %) |
100 (39,8 %) |
110 (38,1 %) |
179 (61,9 %) |
25,4 (<0,001) |
|
2. [IgG23.1 + 3.2 + 3.3] + [IgА13.4] |
71 (52,9 %) |
63 (47,1 %) |
44 (26,8 %) |
110 (73,2 %) |
16,8 (<0,001) |
|
3. [IgG23.4] + [IgА13.1 + 3.2 + 3.3] |
55 (59,1 %) |
38 (40,9 %) |
52 (53,6 %) |
45 (46,4 %) |
0,4 (0,534) |
|
4. [IgG23.4] + [IgА13.4] |
27 (61,4 %) |
17 (38,6 %) |
16 (42,1 %) |
22 (57,9 %) |
2,3 (0,129) |
|
5. [IgG23.1] + [IgА13.4] |
36 (57,1 %) |
27 (42,9 %) |
16 (22,9 %) |
54 (77,1 %) |
14,9 (<0,001) |
|
6. [IgG23.4] + [IgА1 3.1] |
32 (53,3 %) |
28 (46,7 %) |
29 (51,8 %) |
27 (48,2 %) |
0,001 (0,985) |
χ2, (р1–3) df=1 0,01 (0,962) 6,6 (0,010)
χ2, (р2–3) df=1 0,6 (0,434) 14,8 (<0,001)
χ2, (р5–6) df=1 0,06 (0,808) 10,0 (0,001)
Примечание: таблица составлена авторами.
Note: created by the authors.
ким содержанием в опухоли Ki67 положительных клеток был ниже (46,4 % и 57,9 %, соответственно). При этом не наблюдалось значительного возрастания удельного веса больных с активно пролиферирующими опухолями от I ко II–IV стадиям (р=0,534 и р=0,129 соответственно).
Максимальное выраженное возрастание удельного веса больных с высоким содержанием в опухоли Ki67 положительных клеток от I стадии к II–IV (от 42,9 % до 77,1 %, р<0,001) имело место при одновременно высоких уровнях IgA1-E2 и IgA1-Pg в комбинации с одновременно низкими уровнями IgG2-E2 и IgG2-Pg. И наоборот, незначительное возрастание (от 46,7 % до 48,2 %, р=0,985) – при одновременно низких уровнях IgA1-E2 и IgA1-Pg в комбинации с одновременно высокими уровнями IgG2-E2 и IgG2-Pg.
Следует отметить, что удельный вес больных с каждой из четырех комбинаций исследуемых антител, указанных в табл. 7, при РМЖ I стадии отличался от такового при РМЖ II–IV стадии не более чем на 2 %, т. е. был практически одинаковым. Это позволяет утверждать, что индивидуальный иммунологический фенотип (комбинация идиотипических и антиидиотипических антител E2 и Pg), присущий больным в начале опухолевого роста, сохранялся при дальнейшем опухолевом прогрессировании, но его влияние на пролиферацию опухоли проявлялось только при РМЖ II–IV стадии.
Обсуждение
Исследование аутоантител, специфичных к стероидным гормонам, и соответствующих антиидиотипических аутоантител, способных к связыванию с мембранными стероидными рецепторами, представляется актуальным в связи с их потенциальным участием в возникновении и прогрессировании гормонозависимых опухолей у человека, показанным ранее в экспериментах in vitro и in vivo . В настоящей работе впервые изучены взаимосвязи пролиферативной активности опухоли у больных РМЖ с различными индивидуальными сочетаниями уровней идиотипических аутоантител, специфичных к E2 и Pg, и соответствующих антиидиотипических аутоантител в сыворотке крови.
Появление антител против E2 (возможно, и против Pg за счет кросс-реактивности) можно объяснить образованием аддуктов E2 с ДНК [26–28], в которых низкомолекулярный E2 выступал в роли гаптена. В свою очередь, антитела против стероидных гормонов могли бы служить индукторами образования специфичных к ним анти-антител по теории идиотип-антиидиотипических сетей [23]. Однако в настоящей работе у больных РМЖ не обнаружено никаких взаимосвязей между уровнями исследованных идиотипических и антиидиотипи-ческих антител.
Вероятной причиной образования антиидио-типических антител, способных по определению связываться со стероидными рецепторами, могут быть мутации в генах, кодирующих эти рецепторы. В частности, показано, что аминокислотные замены в E2-связывающем участке E2 рецептора вследствие определенных точечных мутаций приводят к повышению E2-независимой активности E2 рецептора и резистентности опухолевых клеток к антиэстрогеновым препаратам [29, 30]. Вместе с тем, структурные изменения в E2 связывающем домене вполне могли бы индуцировать образование антител против E2 рецептора, которые в нашем варианте исследований проявлялись как антиидиотипические. Противоречат этому предположению ранее полученные данные о наличии в сыворотке крови не только больных РМЖ, но и здоровых женщин аутоантител, специфичных к E2 рецептору [21] и антиидиотипических IgG2-E2 и IgG2-Pg [22]. Кроме того, в настоящей работе показано (табл. 2), что уровни IgG2-E2 и IgG2-Pg и их индивидуальные сочетания у больных РМЖ I, II и III–IV стадий практически не отличались. Если бы их образование зависело от структурных изменений стероидных рецепторов, то и вероятность повышения их содержания в сыворотке крови возрастала бы с увеличением количества мутаций по мере роста и метастазирования опухоли.
Поэтому не исключено, что образование описанных антиидиотипических (возможно, и идиотипических) антител является конституциональной особенностью иммунной системы индивидуума. То есть они представляют собой натуральные (natural occurence) аутоантитела, биологическое действие которых на опухолевые клетки проявляется по-разному в начале заболевания и при его прогрессировании, нарастании молекулярнобиологической гетерогенности, росте количества мутаций и соответствующих структурных изменений стероидных рецепторов и повышении чувствительности некоторых опухолевых клонов к этим натуральным аутоантителам.
В работе впервые обнаружены синергические эффекты идиотипических и антиидиотипических антител к стероидным гормонам на пролиферацию опухоли при РМЖ. Одновременное повышение уровней IgA1-E2 и IgA1-Pg, но не каждого из них по отдельности, оказалось ассоциированным с возрастанием количества Ki67 положительных клеток в опухоли при ее прогрессировании. И наоборот, совместное повышение уровней IgG2-E2 и IgG2-Pg, но не каждого из них по отдельности, было ассоциировано с торможением пролиферативной активности опухоли при ее прогрессировании.
Последний результат косвенно противоречил ранее полученным данным о положительной взаимосвязи уровней аутоантител против E2 рецептора в сыворотке крови больных РМЖ с количеством Ki67 экспрессирующих клеток в опухоли [21], по- видимому, вследствие различий в методах исследований. A. Maselli et al. [21] использовали в ELISA E2α рецептор в качестве адсорбированного антигена, т. е. выявляли моноспецифические антитела именно против этого рецептора. Анализ антител против Pg рецептора не проводили. В число обследованных женщин входило только 72 больных РМЖ без учета стадий и гормонального статуса. Мы использовали моноклональные антитела против стероидных гормонов в качестве адсорбированных антител, т. е. выявляли антиидиотипические антитела, по определению с более широким спектром связывания. В исследование было включено 1100 больных РМЖ в постменопаузе. Описанный антипролиферативный эффект проявлялся при одновременном повышении уровней IgG2-E2 и IgG2-Pg и у больных РМЖ II–IV стадии.
Опираясь в основном на результаты исследования A. Maselli et al. [21], G. Leclercq [31] представил гипотетические механизмы стимуляции пролиферации опухолевых клеток антителами против E2 рецептора, в том числе антиидиоти-пическими анти-антителами против идиотипических, специфичных к E2. Признавая вслед за ним явную умозрительность подобных гипотез, следует подчеркнуть множественность внеклеточных факторов, модулирующих процессы возникновения, роста и метастазирования опухолей, результирующий эффект которых зависит от их индивидуальных взаимодействий между собой и с клетками-мишенями. В частности, в настоящем исследовании показано, что максимально выраженный антипролиферативный эффект проявлялся
Список литературы Антитела и анти-антитела, специфичные к эстрадиолу и прогестерону, и пролиферативная активность опухоли у больных раком молочной железы
- Merabishvili V.M., Semiglazov V.F., Komyakhov A.V., Semiglazova T.Yu., Krivorot'ko P.V., Belyaev A.M. Sostoyanie onkologicheskoi pomoshchi v Rossii: rak molochnoi zhelezy. Epidemiologiya i vyzhivaemost' bol'nykh. Vliyanie epidemii beta-varianta koronavirusa SARS-CoV-2 (kliniko-populyatsionnoe issledovanie). Opukholi zhenskoi reproduktivnoi sistemy. 2023; 19(3): 16-24. https://doi.org/10.17650/1994-4098-2023-19-3-16-24.
- Nielsen T.O., Leung S.C.Y., Rimm D.L., Dodson A., Acs B., Badve S., Denkert C., Ellis M.J., Fineberg S., Flowers M., Kreipe H.H., Laenkholm A.V., Pan H., Penault-Llorca F.M., Polley M.Y., Salgado R., Smith I.E., Sugie T., Bartlett J.M.S., McShane L.M., Dowsett M., Hayes D.F. Assessment of Ki67 in Breast Cancer: Updated Recommendations From the International Ki67 in Breast Cancer Working Group. J Natl Cancer Inst. 2021; 113(7): 808-19. https://doi.org/10.1093/jnci/djaa201.
- Hacking S.M., Wang Y. Practical Issues of Ki67 Evaluation in Breast Cancer Clinical Practice. J Clin Transl Pathol. 2022; 2(2): 53-6. https://doi.org/10.14218/jctp.2022.00012.
- Fortunati N., Catalano M.G., Boccuzzi G., Frairia R. Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG), estradiol and breast cancer. Mol Cell Endocrinol. 2010; 316(1): 86-92. https://doi.org/10.1016/j.mce.2009.09.012.
- Dimou N.L., Papadimitriou N., Gill D., Christakoudi S., Murphy N., Gunter M.J., Travis R.C., Key T.J., Fortner R.T., Haycock P.C., Lewis S.J., Muir K., Martin R.M., Tsilidis K.K. Sex hormone binding globulin and risk of breast cancer: a Mendelian randomization study. Int J Epidemiol. 2019; 48(3): 807-16. https://doi.org/10.1093/ije/dyz107.
- Elsaesser F. Effects of active immunization against oestradiol-17 beta, testosterone or progesterone on receptivity in the female rabbit and evaluation of specificity. J Reprod Fertil. 1980; 58(1): 213-8. https://doi.org/10.1530/jrf.0.0580213.
- Rosenberg M., Amir D., Folman Y. The effect of active immunization against progesterone on plasma concentrations of total and free progesterone, estradiol-17beta and LH in the cyclic ewe. Theriogenology. 1987; 28(4): 417-26. https://doi.org/10.1016/0093-691x(87)90246-9.
- Bochskanl R., Thie M., Kirchner C. Active immunization of rabbits against progesterone: increase in hormone levels, and changes in metabolic clearance rates and in genital tract tissues. J Steroid Biochem. 1989; 33(3): 349-55. https://doi.org/10.1016/0022-4731(89)90323-3.
- Caldwell B.V., Tillson S.A., Esber H., Thorneycroft I.H. Survival of tumours after immunization against oestrogens. Nature. 1971; 231(5298): 118-9. https://doi.org/10.1038/231118a0.
- Aver'yanov A.V., Antonov A.V., Zhivotovskii A.S., Kostyanko M.V., Vafin I.A., Kolpinskii G.I. Antitela klassa G, spetsifichnye k benzo[a]pirenu, estradiolu i progesteronu u zhenshchin s kolorektal'nym rakom i rakom molochnoi zhelezy. Sibirskii onkologicheskii zhurnal. 2022; 21(5): 52-8. https://doi.org/10.21294/1814-4861-2022-21-5-52-58.
- Norfleet A.M., Clarke C.H., Gametchu B., Watson C.S. Antibodies to the estrogen receptor-alpha modulate rapid prolactin release from rat pituitary tumor cells through plasma membrane estrogen receptors. FASEB J. 2000; 14(1): 157-65. https://doi.org/10.1096/fasebj.14.1.157.
- Luconi M., Francavilla F., Porazzi I., Macerola B., Forti G., Baldi E. Human spermatozoa as a model for studying membrane receptors mediating rapid nongenomic effects of progesterone and estrogens. Steroids. 2004; 69(8-9): 553-9. https://doi.org/10.1016/j.steroids.2004.05.013.
- Modi D.N., Shah C., Puri C.P. Non-genomic membrane progesterone receptors on human spermatozoa. Soc Reprod Fertil Suppl. 2007; 63: 515-29.
- Schwartz N., Verma A., Bivens C.B., Schwartz Z., Boyan B.D. Rapid steroid hormone actions via membrane receptors. Biochim Biophys Acta. 2016; 1863(9): 2289-98. https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2016.06.004.
- Borkowski A., Gyling M., Muquardt C., Body J.J., Leslercq G. Estrogen-like activity of a subpopulation of natural antiestrogen receptor autoantibodies in man. Endocrinology. 1991; 128(6): 3283-92. https://doi.org/10.1210/endo-128-6-3283.
- Tassignon J., Haeseleer F., Borkowski A. Natural antiestrogen receptor autoantibodies in man with estrogenic activity in mammary carcinoma cell culture: study of their mechanism of action; evidence for involvement of estrogen-like epitopes. J Clin Endocrinol Metab. 1997; 82(10): 3464-70. https://doi.org/10.1210/jcem.82.10.4313.
- Chaudhri R.A., Schwartz N., Elbaradie K., Schwartz Z., Boyan B.D. Role of ERα 36 in membrane-associated signaling by estrogen. Steroids. 2014; 81: 74-80. https://doi.org/10.1016/j.steroids.2013.10.020.
- Ortona E., Pierdominici M., Berstein L. Autoantibodies to estrogen receptors and their involvement in autoimmune diseases and cancer. J Steroid Biochem Mol Biol. 2014; 144: 260-7. https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2014.07.004.
- Sömjen D., Amir-Zaltsman Y., Mor G., Gayer B., Lichter S., Barnard G., Kohen F. Anti-idiotypic antibody as an oestrogen mimetic in vivo: stimulation of creatin kinase specific activity in rat animal models. J Endocrinol. 1996; 149(2): 305-12. https://doi.org/10.1677/joe.0.1490305.
- Sömjen D., Kohen F., Lieberherr M. Nongenomic effects of an anti-idiotypic antibody as an estrogen mimetic in female human and rat osteoblasts. J Cell Biochem. 1997; 65(1): 53-66. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4644(199704)65:1<53::AID-JCB6-3.0.CO;2-Y.
- Maselli A., Capoccia S., Pugliese P., Raggi C., Cirulli F., Fabi A., Malorni W., Pierdominici M., Ortona E. Autoantibodies specific to estrogen receptor alpha act as estrogen agonists and their levels correlate with breast cancer cell proliferation. Oncoimmunology. 2015; 5(2). https://doi.org/10.1080/2162402X.2015.1074375.
- Polenok E.G., Gordeeva L.A., Mun S.A., Kostyanko M.V., Antonov A.V., Verzhbitskaya N.E., Bairamov P.V., Kolpinskii G.I., Vafin I.A., Glushkov A.N. Kooperativnoe uchastie idiotipicheskikh i antiidiotipicheskikh antitel v steroid-zavisimom khimicheskom kantserogeneze. Rossiiskii immunologicheskii zhurnal. 2023; 26(1): 27-40. https://doi.org/10.46235/1028-7221-1177-COI.
- Jerne N.K. Idiotypic networks and other preconceived ideas. Immunol Rev. 1984; 79: 5-24. https://doi.org/10.1111/j.1600-065x.1984.tb00484.x.
- Glushkov A.N., Polenok E.G., Mun S.A., Gordeeva L.A., Kostyanko M.V., Antonov A.V., Verzhbitskaya N.E., Vafin I.A. Individual'nyi immunologicheskii fenotip i risk raka molochnoi zhelezy u zhenshchin v postmenopauze. Rossiiskii immunologicheskii zhurnal. 2019; 13(1): 44-52. https://doi.org/10.31857/S102872210005019-5.
- Greiner M., Pfeiffer D., Smith R.D. Principles and practical application of the receiver operating characteristic analysis for diagnostic test. Prev Vet Med. 2000; 45(1-2): 23-41. https://doi.org/10.1016/s0167-5877(00)00115-x.
- Pruthi S., Yang L., Sandhu N.P., Ingle J.N., Beseler C.L., Suman V.J., Cavalieri E.L., Rogan E.G. Evaluation of serum estrogen-DNA adducts as potential biomarkers for breast cancer risk. J. Steroid Biochem. Mol Biol. 2012; 132(1-2): 73-9. https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2012.02.002.
- Yang L., Zahid M., Liao Y., Rogan E.G., Cavalieri E.L., Davidson N.E., Yager J.D., Visvanathan K., Groopman J.D., Kensler T.W. Reduced formation of depurinating estrogen-DNA adducts by sulforaphane or KEAP1 disruption in human mammary epithelial MCF-10A cells. Carcinogenesis. 2013; 34(11): 2587-92. https://doi.org/10.1093/carcin/bgt246.
- Yager J.D. Mechanisms of estrogen carcinogenesis: The role of E2/E1-quinone metabolites suggests new approaches to preventive intervention - A review. Steroids. 2015; 99: 56-60. https://doi.org/10.1016/j.steroids.2014.08.006.
- Alluri P.G., Speers C., Chinnaiyan A.M. Estrogen receptor mutations and their role in breast cancer progression. Breast Cancer Res. 2014; 16(6): 494. https://doi.org/10.1186/s13058-014-0494-7.
- Harrod A., Lai C.-F., Goldsbrough I., Simmons G.M., Oppermans N., Santos D.B., Győrffy B., Allsopp R.C., Toghill B.J., Balachandran K., Lawson M., Morrow C.J., Surakala M., Carnevalli L.S., Zhang P., Guttery D.S., Shaw J.A., Coombes R.C., Buluwela L., Ali S. Genome engineering for estrogen receptor mutations reveals differential responses to antiestrogens and new prognostic gene signatures for breast cancer. Oncogene. 2022; 41(44): 4905-15. https://doi.org/10.1038/s41388-022-02483-8.
- Leclercq G. Natural anti-estrogen receptor alpha antibodies able to induce estrogenic responses in breast cancer cells: hypotheses concerning their mechanisms of action and emergence. Int J Mol Sci. 2018; 19(2): 411. https://doi.org/10.3390/ijms19020411.