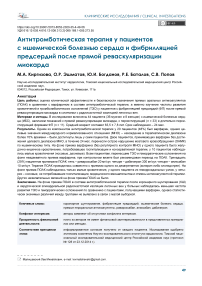Антитромботическая терапия у пациентов с ишемической болезнью сердца и фибрилляцией предсердий после прямой реваскуляризации миокарда
Автор: Киргизова М.А., Эшматов О.Р., Богданов Ю.И., Баталов Р.Е., Попов С.В.
Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk
Рубрика: Клинические исследования
Статья в выпуске: 4 т.35, 2020 года.
Бесплатный доступ
Цель работы: оценка клинической эффективности и безопасности назначения прямых оральных антикоагулянтов (ПОАК) в сравнении с варфарином в составе антитромботической терапии, а именно изучение частоты развития кровотечений и тромбоэмболических осложнений (ТЭО) у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) после прямой реваскуляризации миокарда в сочетании с радиочастотной изоляцией легочных вен.Материал и методы. В исследование включены 44 пациента (36 мужчин и 8 женщин) с ишемической болезнью сердца (ИБС), наличием показаний к прямой реваскуляризации миокарда, с персистирующей (n = 33) и длительно персистирующей формами ФП (n = 11). Средний возраст составил 63,5 ± 7,8 лет. Срок наблюдения - 24 мес.Результаты. Одним из компонентов антитромботической терапии у 20 пациентов (48%) был варфарин, однако целевые значения международного нормализованного отношения (МНО) - нахождение в терапевтическом диапазоне более 70% времени - были достигнуты лишь у семи пациентов. Двое пациентов, принимающих варфарин без достижения целевого диапазона МНО, в течение 24 мес. перенесли острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу. На фоне приема варфарина (без регулярного контроля МНО) у одного пациента было желудочно-кишечное кровотечение, потребовавшее госпитализации и консерв ативной терапии, у 10 пациентов наблюдались малые кровотечения (носовые, десневые). Всем пациентам, перенесшим ТЭО и геморрагические осложнения на фоне неадекватного приема варфарина, при контрольном визите был рекомендован переход на ПОАК. Тринадцать (29%) пациентов принимали ПОАК: пять - ривароксабан 20 мг/сут, четыре - дабигатран 300 мг/сут, четыре - апиксабан 10 мг/сут. Терапия ПОАК проводилась совместно с приемом одного из дезагрегантов (аспирин либо клопидогрел). На фоне приема ПОАК наблюдались только малые кровотечения, у одного пациента из геморроидальных узлов, у четырех - носовые, не потребовавшие госпитализации, медицинского вмешательства и отмены антикоагулянтной терапии. Других нежелательных явлений на фоне приема ПОАК не было.Заключение. На фоне приема ПОАК в составе антитромботической терапии после коронарного шунтирования (КШ) и хирургической эпикардиальной радиочастотной изоляции легочных вен у больных наблюдалась меньшая частота развития ТЭО и геморрагических осложнений по сравнению с пациентами, получавшими варфарин, однако статистически значимых различий между группами не выявлено в связи с малой выборкой.
Коронарное шунтирование, фибрилляция предсердий, ишемическая болезнь сердца, прямые пероральные антикоагулянты, ривароксабан, апиксабан, дабигатран
Короткий адрес: https://sciup.org/149126210
IDR: 149126210 | УДК: 616.12-005.4:616.12-008.313.2]-089.168.1-085.273.55 | DOI: 10.29001/2073-8552-2020-35-4-49-56
Текст научной статьи Антитромботическая терапия у пациентов с ишемической болезнью сердца и фибрилляцией предсердий после прямой реваскуляризации миокарда
Заболеваемость фибрилляцией предсердий (ФП) составляет приблизительно 3% у взрослых в возрасте 20 лет и старше [1] с большей распространенностью у пожилых людей [2], а также при наличии ассоциированных состояний, включая гипертоническую болезнь (ГБ), хроническую сердечную недостаточность (ХСН), ишемическую болезнь сердца (ИБС). Распространенность ФП среди пациентов, направленных на операцию коронарного шунтирования (КШ), составляет 6,1%, что в абсолютных цифрах исчисляется десятками тысяч пациентов [1]. После прямой реваскуляризации миокарда у части пациентов регистрируется ФП, при этом она может быть вновь возникшей либо диагностированной ранее, до проведения оперативного лечения. В любом случае пациентам с ФП рекомендуется оценка риска тромбоэмболических осложнений (ТЭО) по шкале CHA2DS2-VASc, и при риске > 2 баллов у мужчин и > 3 баллов у женщин показано назначение антикоагулянтной терапии [3].
Важным аспектом лечения пациентов с ФП после КШ является назначение антиагрегантов в комбинации с антикоагулянтной терапией, при этом зачастую сложно найти баланс между необходимостью профилактики тромбозов и риском геморрагических осложнений. Как известно, состояние шунтов в раннем послеоперационном периоде – один из важных факторов, определяющих исходы КШ. Доказано, что от 3 до 12% венозных шунтов окклюзируются в течение первого месяца после аортокоронарного шунтирования (АКШ) [4, 5]. При этом одной из основных причин смерти больных, имеющих исходно тяжелые поражения коронарных артерий, является острая сердечная недостаточность, обусловленная острым инфарктом миокарда (ОИМ) в результате острого тромбоза шунтов [4, 5]. В этой связи прием ацетилсалициловой кислоты (АСК) после проведенного КШ чрезвычайно важен для пациента, поскольку он значительно улучшает проходимость аутовенозных шунтов, особенно в первый год после операции [4]. Терапия АСК рекомендуется как средство вторичной профилактики для всех пациентов с ИБС, в том числе для пациентов, перенесших КШ (доказанность: класс I, уровень А). Вместе с тем, по данным разных авторов, количество лиц, резистентных к аспирину, колеблется от 5 до 60% [6, 7]. Известно, что антиагрегационная способность АСК после КШ может нарушаться у больных из-за снижения абсорбции препарата, развивающегося лекарственного взаимодействия, системного воспаления, увеличения количества тромбоцитов и факторов, способных увеличивать риск окклюзии аутовенозных шунтов [7].
Активно обсуждается вопрос целесообразности назначения двойной антитромботической терапии (ДААТ) после КШ. По данным метаанализа Y. Wang (2015), в который вошли результаты 15 исследований ( n = 31365), продемонстрирована эффективность ДААТ после КШ у пациентов со стабильной ИБС, прием ДАТТ уменьшает риск развития окклюзии венозного шунта, в то время как подобная зависимость не была характерна для артериальных трансплантатов [8].
Согласно Европейским рекомендациям («Двойная антитромбоцитарная терапия при ишемической болезни сердца, обновленная версия 2017 года»), пациентам со стабильной ИБС после АКШ показана терапия одним ан-тиагрегантом (АСК или ингибитор P2Y12 рецепторов). Не рекомендовано рутинно назначать ДАТТ после операции с целью снижения вероятности окклюзии венозных шунтов, учитывая отсутствие доказательств преимущества в выживании или в снижении ТЭО при приеме ДАТТ у пациентов со стабильной ИБС [3].
Внедрение в повседневную клиническую практику прямых оральных антикоагулянтов (ПОАК) для предупреждения профилактики ТЭО у пациентов с неклапанной ФП открывает новые перспективы безопасного ведения пациентов с антиагрегантной и антикоагулянтной терапией у пациентов с ИБС и ФП после реваскуляризации миокарда [1, 2]. В рекомендациях Европейского общества кардиологов по антитромботической терапии для профилактики ТЭО у пациентов с ФП после КШ предпочтение экспертами отдается ПОАК. При этом АСК в дозе 75–100 мг/сут может рассматриваться в дополнение к длительной антикоагулянтной терапии у пациентов с ФП при низком риске кровотечения, ИМ в анамнезе и высоком риске рецидивирующих ишемических событий [3]. Однако эффективность и безопасность двойной терапии аспирином и ПОАК после операции КШ неопределенна, так как крупные проспективные исследования не проводились.
Важно отметить, что опубликованы результаты ряда международных исследований (PIONEER AF, REDUAL PCI, AUGUSTUS), где доказана безопасность и эффективность ПОАК в качестве компонента ДААТ или тройной антитромботической терапии у пациентов с ФП и ИБС, перенесших чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) [2, 3]. В то же время результаты исследований по применению ПОАК у пациентов с ИБС и ФП после КШ пока не опубликованы. Остается нерешенным вопрос безопасности и эффективности использования ПОАК у данной когорты пациентов.
Цель работы: оценка клинической эффективности и безопасности назначения ПОАК в составе антитромбо-тической терапии в сравнении с варфарином, а именно изучение частоты развития кровотечений и ТЭО у пациентов с ФП после прямой реваскуляризации миокарда в сочетании с радиочастотной изоляцией легочных вен.
Материал и методы
В исследование за период с 2014 по 2016 г. включены 44 пациента (36 мужчин и 8 женщин) с ИБС и показаниями к реваскуляризации миокарда, с персистирующей ( n = 33) и длительно персистирующей формами ФП ( n = 11). Средний возраст составил 63,5 ± 7,8 лет. Клинико-анамнестическая характеристика пациентов представлена в таблице 1.
Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Проведенное пилотное исследование было одобрено локальным этическим комитетом НИИ кардиологии, Томский НИМЦ, протокол № 128 от 23 декабря 2014 г. Включенные в исследование пациенты подписали информированное согласие на участие в нем.
Критерии включения в исследование: ИБС с документированной персистирующей либо длительно персистирующей формой ФП, наличие показаний для проведения прямой реваскуляризации, согласие пациента на участие в исследовании.
Критерии исключения: противопоказания для проведения прямой реваскуляризации и радиочастотной изоляции легочных вен, отказ пациента от операции, анев- ризма левого желудочка (ЛЖ), клапанное поражение, фракция выброса ЛЖ менее 40%, острый коронарный синдром, наличие тромба в ушке левого предсердия (ЛП), противопоказания к приему антикоагулянтов, тяжелые психические расстройства, которые могли повлиять на режим приема и дозирования антикоагулянтной терапии.
Таблица 1. Клинико-анамнестическая характеристика пациентов, включенных в исследование
Table 1. Clinical and anamnestic characteristics of patients included in the study
Примечание: ФП – фибрилляция предсердий, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ПИКС – постинфарктный кардиосклероз, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ФК – функциональный класс.
Note: AF – atrial fibrillation, СHD – coronary heart disease, PCI – percutaneous coronary intervention, СHF – chronic heart failure, FC – functional class.
Первичное обследование включало: клинический осмотр, стандартные лабораторные тесты, электрокардиографию (ЭКГ) в 12 отведениях, эхокардиографию (ЭхоКГ), чреспищеводную ЭхоКГ и коронарографию. Все пациенты получали антиаритмическую терапию на догоспитальном этапе. Учитывая наличие структурной патологии сердца, пациенты преимущественно принимали антиаритмические препараты III класса – амиодарон ( n = 39; 89%), соталол ( n = 5; 11%), однако на фоне приема антиаритмической терапии у всех пациентов сохранялись пароксизмы ФП.
При поступлении в стационар пациенты предъявляли жалобы на приступы учащенного неритмичного сердцебиения (n = 40; 93%), давящие боли за грудиной (n = 44; 100%), одышку инспираторного характера (n = 42; 96%), кашель (n = 4; 9%). Были пациенты (n = 3; 7%), которые не ощущали субъективно аритмии, и ФП была выявлена при плановой регистрации ЭКГ. Для объективной оцен- ки и систематического анализа жалоб пациентов была использована балльная оценка выраженности симптомов аритмии по шкале EHRA (European Heart Rhythm Association), средний балл по этой шкале составил 2,3 ± 0,5.
По данным коронарографии, проведенной перед реваскуляризацией, среднее количество пораженных артерий было 2,7 ± 0,6. Средний балл по шкале Syntax равнялся 27,1 ± 3,5, продолжительность аритмологического анамнеза до вмешательства составила 3,1 ± 2,1 года, а стаж ИБС – 8,4 ± 1,3 года. Ранее перенесли ОИМ 23 пациента (52%), при этом у 22 пациентов в анамнезе были ЧКВ. Преобладали пациенты с клинически значимой ХСН II и более функционального класса (82%).
Всем пациентам выполнена прямая реваскуляризация миокарда и эпикардиальная биполярная радиочастотная изоляция легочных вен и крыши ЛП с использованием биполярных электродов Atricure Isolator Synergy OLL2 (USA) и окклюзии ушка ЛП (перевязка ушка ЛП для предотвращения образования тромбов).
Для стратификации риска возникновения инсульта у пациентов с ФП использовалась шкала CHA2DS2-VASc (в среднем 3,8 ± 1,1), риска кровотечения – HAS-BLED (в среднем 2,1 ± 0,7). Таким образом, преобладали пациенты с высоким риском ТЭО, превышающим потенциальный риск кровотечения. Пациенты были с сохранной либо умеренно сниженной фракцией выброса ЛЖ (59 ± 6,5%), средний размер ЛП составлял 43,7 ± 3,5 мм, по данным ЭхоКГ и чреспищеводного ЭхоКГ, у пациентов на момент включения в исследование внутрисердечного тромбоза не выявлено.
Контрольное обследование, осуществленное через 12 и 24 мес. после выписки из стационара, прошли 40 пациентов (91%). Во время визита оценивался сердечный ритм по ЭКГ и 24-часовому холтеровскому мониторированию ЭКГ, проводился анализ медицинской документации, анализ записей ЭКГ за текущий период наблюдения.
В качестве конечных точек определены следующие события:
-
1. Кровотечения (любые кровотечения, возникшие после включения пациента в исследование).
-
2. ТЭО: инсульт, системная эмболия или транзитор-ная ишемическая атака, подтвержденные данными медицинской документации.
-
3. Смерть от всех причин.
Для статистической обработки использовали пакет прикладных программ STATISTIСA for Windows ver. 10.0. Результаты представлены абсолютными числами, средними значениями и процентными соотношениями. Сравнение качественных параметров оценивали при помощи метода хи-квадрат. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты
На госпитальном этапе рецидивы ФП в раннем послеоперационном периоде зарегистрированы у 24 пациентов (40%). Проведение электроимпульсной терапии потребовалось троим пациентам. В остальных случаях синусовый ритм был восстановлен медикаментозно.
Осложнение в виде кровотечения в раннем послеоперационном периоде на фоне терапии гепарином зарегистрировано у двух пациентов (4%), что потребовало ревизии в первые сутки после операции и переливания свежезамороженной плазмы. Источником кровотечения являлась коллатераль левой внутренней грудной артерии. Периоперационных ИМ не было.
Медикаментозная терапия после операции КШ включала стандартное послеоперационное лечение ИБС и назначение антиаритмических препаратов (III класса) сразу после экстубации пациентов. После операции проводилась терапия нефракционированным гепарином, через сутки наблюдения пациентам назначалась пероральная антикоагулянтная терапия. Выбор антикоагулянта осуществлялся лечащим врачом, при этом учитывалась как коморбидность больного, так и предполагаемая компла-ентность пациента, его предпочтения в отношении цены препарата и кратности приема, а также возможность контроля международного нормализованного отношения (МНО) амбулаторно. При применении варфарина парентеральное введение гепарина прекращалось сразу после достижения МНО 2,0. Учитывая высокий риск ТЭО (по шкале CHA2DS2-VASc в среднем, 3,8 ± 1,1), всем пациентам после операции назначались антикоагулянты на неопределенно долгий срок.
Пациенты были разделены на 2 группы: принимающие варфарин – группа 1, принимающие ПОАК – группа 2. В таблице 2 представлена клинико-анамнестическая характеристика пациентов; статистически значимых различий между группами выявлено не было.
Таблица 2. Клинико-анамнестическая характеристика пациентов, принимающих варфарин (группа 1) и прямые оральные антикоагулянты (группа 2)
Table 2. Clinical and anamnestic characteristics of patients taking warfarin and direct oral anticoagulants
Через 12 и 24 мес. после включения в исследование путем телефонного интервью пациентов либо их родственников установлен жизненный статус (жив/умер) 44 пациентов (100%). Летальных случаев не зарегистрировано в течение 12 мес. наблюдения, через 24 мес. после операции умерли два пациента (причина одного летального исхода – ОИМ, второго – рак предстательной железы с множественным метастазированием).
Через 12 мес. после вмешательства синусовый ритм сохранялся у 35 пациентов (79%), через 24 мес. только у 10 больных (23%) после КШ и хирургической эпикардиальной радиочастотной изоляции легочных вен и крыши ЛП не было зарегистрировано пароксизмов ФП.
Все пациенты получали антикоагулянты для профилактики ТЭО: варфарин или ПОАК (ривароксабан, даби-гатран, апиксабан). Пациентам, принимавшим варфарин, на момент выписки из стационара подобрана оптимальная доза препарата, рекомендован контроль МНО 1 раз в 4 нед. амбулаторно, целевой уровень МНО – 2,0–2,5.
В течение периода наблюдения антикоагулянтную терапию принимали 34 пациента (77%). Десять пациентов после выписки отказались принимать варфарин в связи с невозможностью контроля МНО, ПОАК – в связи с финансовыми ограничениями, продолжили принимать ДАТТ (аспирин и клопидогрел).
У одного больного на фоне двойной дезагрегантной терапии было желудочно-кишечное кровотечение, не потребовавшее хирургического вмешательства и гемотрансфузии.
Одним из компонентов антитромботической терапии у 20 пациентов (48%) был варфарин, однако целевые значения МНО (нахождение в терапевтическом диапазоне более 70% времени) были достигнуты лишь у семи пациентов.
Двое пациентов, принимающих варфарин без достижения целевого диапазона МНО, в течение 24 мес. перенесли острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу. На фоне приема варфарина (без регулярного контроля МНО) у одного пациента было желудочно-кишечное кровотечение, потребовавшее госпитализации и консервативной терапии (без хирургического вмешательства и гемотрансфузии). У 10 пациентов наблюдались малые кровотечения (носовые, десневые), не потребовавшие отмены препарата.
Всем больным, перенесшим ТЭО и геморрагические осложнения на фоне неадекватного приема варфарина, при контрольном визите был рекомендован переход на ПОАК, в дальнейшем два пациента принимали дабига-тран 300 мг/сут, один – ксарелто 20 мг/сут. Тринадцать (29%) пациентов принимали ПОАК: пять – ривароксабан 20 мг/сут, четыре – дабигатран 300 мг/сут, четыре – апик-сабан 10 мг/сут. Терапия ПОАК проводилась совместно с приемом одного из дезагрегантов (аспирин либо клопи-догрел).
На фоне приема дабигатрана у одного больного наблюдалось кишечное кровотечение (геморроидальное) на фоне хронического геморроя, не потребовавшее хирургического вмешательства. Других нежелательных явлений на фоне приема ПОАК не было. Тринадцать пациентов продолжили принимать ПОАК в течение 24 мес. после операции, у шести из них проведено интервенционное лечение ФП, чреспищеводная ЭхоКГ, по результатам которой данных за внутрисердечный тромбоз не выявлено.
Частота развития конечных точек у пациентов, принимающих варфарин (группа 1) и ПОАК (группа 2), представлена в таблице 3.
Таблица 3. Частота развития конечных точек, n (%)
Table 3. Endpoint development frequency, n (%)
|
Показатели Parameters |
Группа 1 Group 1 ( n = 21) |
Группа 2 Group 2 ( n = 13) |
р |
|
ОНМК ACА |
2 (9) |
0 |
0,41 |
|
Тромбоз ЛП LA thrombosis |
0 |
0 |
– |
|
Кровотечения малые, большие Bleedings minor major |
10 (48), 1 (5) |
5 (38), 0 (0) |
0,58 – |
|
Смерть в течение 12 мес. Death within 12 months |
0 |
0 |
– |
|
Смерть в течение 24 мес. Death within 24 months |
1 (5) |
0 |
0,62 |
Примечание: р – сравнение между группами 1 и 2, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, ЛП – левое предсердие.
Note: p – p-value for comparison of groups 1 and 2. ACA – acute cerebrovascular accident, LА – left atrium.
Обсуждение
В работе исследована проблема антикоагулянтной терапии после хирургического лечения ИБС в сочетании с эпикардиальной биполярной радиочастотной изоляцией легочных вен и крыши ЛП, ушивания его ушка. Особенную опасность в хирургической практике представляют такие коморбидные заболевания сердечно-сосудистой системы, как сочетание ИБС и ФП. В условиях тахиаритмии наиболее уязвимыми оказываются пациенты с нарушением коронарного кровоснабжения. Частота встречаемости таких пациентов достигает 34,5% [2]. Известно, что ФП, как и любое другое хроническое заболевание, прогрессирует со временем от пароксизмальной формы к персистирующей и далее к длительно персистирующей, при этом риск возникновения ТЭО остается одинаковым, независимо от формы аритмии [1, 2].
В клинической практике хирургическая резекция или ушивание ушка ЛП выполняется как сопутствующая процедура во время операции на открытом сердце, а в последнее время – в сочетании с хирургической аблацией ФП. При этом остаточный поток в ушке ЛП или неполное его удаление могут увеличивать риск инсульта [9]. Единственное рандомизированное исследование, результаты которого были опубликованы в 2015 г., было посвящено оценке роли сочетанного хирургического вмешательства по поводу ФП и изоляции ушка ЛП. Оно не показало убедительных преимуществ изоляции ушка ЛП в плане профилактики инсульта в группе пациентов, перенесших хирургическое лечение ФП [10]. После хирургической окклюзии или иссечения ушка ЛП для профилактики инсульта у пациентов с повышенным риском рекомендуется продолжение антикоагулянтной терапии, I B [10, 11].
В настоящее время в качестве пероральных антикоагулянтов доступны антагонисты витамина К и ПОАК (ингибиторы Х-фактора и ингибитор тромбина). Ан- тагонисты витамина К являются одними из основных препаратов для профилактики инсульта и системных тромбоэмболий, прием данных препаратов снижает относительный риск развития ишемического инсульта на 67% [12]. Однако терапия варфарином сопряжена с рядом трудностей: он обладает непредсказуемой фармакокинетикой и фармакодинамикой вследствие как генетических особенностей пациентов, так и специфики его лекарственного метаболизма, требует постоянного лабораторного контроля и имеет длительное время до развития эффекта [13]. Инсульт во многих случаях развивается в период прерывания приема антагонистов витамина К или на фоне нетерапевтических значений МНО [13]. Исследования, посвященные ПОАК: RELY – дабигатрана этаксилат, ROCKET-AF – ривароксабан и ARISTOTLE – апиксабан [14–16], проводились в сравнении с варфарином, и они показали, что время нахождения в терапевтическом диапазоне МНО (2–3) среди пациентов, участвующих в рандомизированном клиническом исследовании и принимающих варфарин, составляло лишь 64, 55 и 64% соответственно. По результатам этих рандомизированных клинических исследований продемонстрировано, что ПОАК не менее эффективны, чем варфарин в профилактике ТЭО, они обладают лучшим профилем безопасности и удобством применения [14, 15].
В настоящее время достаточно хорошо исследована безопасность и эффективность назначения ПОАК совместно с антиагрегантной терапией после ЧКВ [12, 15, 16]. При этом ПОАК (дабигатран, апиксабан, ривароксабан) не изучались у больных после КШ.
В нашем исследовании на фоне приема ПОАК наблюдались только малые кровотечения, у одного пациента из геморроидальных узлов, у четырех – носовые, не потребовавшие госпитализации, медицинского вмешательства и отмены антикоагулянтной терапии. ТЭО не наблюдались у пациентов, принимающих ПОАК. Эти данные свидетельствуют о безопасности и эффективности терапии ПОАК в представленном клиническом наблюдении.
Безусловно, ограничением исследования является небольшая выборка пациентов и исходно нерандомизированный характер исследования при назначении ПОАК и варфарина.
Следует признать, что необходимы новые исследования, прежде всего исследования безопасности новых оральных антикоагулянтов, для обоснованного утверждения их в качестве альтернативы антагонистам витамина К при антитромботической терапии после КШ у пациентов с ФП.
Заключение
По результатам представленного наблюдательного исследования на ограниченной выборке пациентов на фоне приема ПОАК в составе антитромботической терапии после КШ и хирургической эпикардиальной радиочастотной изоляции легочных вен и крыши ЛП у больных наблюдалась меньшая частота развития ТЭО и геморрагических осложнений по сравнению с пациентами, получавшими варфарин, однако статистически значимых различий между группами не выявлено в связи с малой выборкой. Безусловно, клинические исследования с большим количеством пациентов в этом направлении являются перспективными.
Список литературы Антитромботическая терапия у пациентов с ишемической болезнью сердца и фибрилляцией предсердий после прямой реваскуляризации миокарда
- Haim M., Hoshen M., Reges O., Rabi Y., Balicer R., Leibowitz M. Prospective national study of the prevalence, incidence, management and outcome of a large contemporary cohort of patients with incident non valvular atrial fibrillation. J. Am. Heart Assoc. 2015;4(1):e001486. https://doi.org/10.1161/JAHA.114.001486.
- Lippi G., Sanchis-Gomar F., Cervellin G. Global epidemiology of atrial fibrillation: An increasing epidemic and public health challenge. Int. J. Stroke. 2020;1747493019897870. https://doi.org/10.1177/1747493019897870.
- Valgimigli M., Bueno H., Byrne R., Collet J.-P., Costa F., Jeppsson A. et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur. Heart J. 2018;39(3):213-260. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419.
- Бокерия Л.А., Аронов Д.М., Барбараш О.Л., Бубнова М.Г., Князева Т.А., Лямина Н.П. и др. Российские клинические рекомендации. Коронарное шунтирование больных ишемической болезнью сердца: реабилитация и вторичная профилактика. CardioСоматика. 2016;7(3-4):5-71.
- Vohra H.A., Whistance R., Modi A., Ohri S.K. The inflammatory response to miniaturised extracorporeal circulation: a review of the literature. Mediators of Inflammation. 2009;707042. https://doi.org/10.1155/2009/707042.
- Zheng A.S.Y., Churilov L., Colley R.E., Goh C., Davis S.M., Yan B. Association of aspirin resistance with increased stroke severity and infarct size. JAMA Neurol. 2013;70(2):208-213. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2013.601.
- Мартынов А.И., Акатова Е.В., Урлаева И.В., Николин О.П. Истинная резистентность и псевдорезистентность к аспирину. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2013;9(4):301-305. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2013-9-3-301-305.
- Wang Y., Chen S., Shi J.W., Dong W.-G. Benefit and Safety of Dual Antiplatelet Therapy after Coronary Artery Bypass Grafting for Off-pump CABG: A Systematic Review and Meta-analysis. British Journal of Medicine and Medical Research. 2015:9(11):1-15. https://doi.org/10.9734/BJMMR/2015/19433.
- Aryana A., Singh S.K., Singh S.M., O’Neill P.G., Bowers M.R., Allen S.L. et al. Association between incomplete surgical ligation of left atrial appendage and stroke and systemic embolization. Heart Rhythm. 2015;12(7):1431-1437. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2015.03.028.
- Chatterjee S., Alexander J.C., Pearson P.J., Feldman T. Left atrial appendage occlusion: Lessons learned from surgical and transcatheter experiences. Ann. Thorac. Surg. 2011;92(6):2283-2292. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2011.08.044.
- Budera P., Straka Z., Osmančík P., Vaněk T., Jelínek S., Hlavička J. et al. Comparison of cardiac surgery with left atrial surgical ablation vs. cardiac surgery without atrial ablation in patients with coronary and/or valvular heart disease plus atrial fibrillation: final results of the PRAGUE-12 randomized multicentre study. Eur. Heart J. 2012;33(21):2644-2652. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehs290.
- Двойная антитромбоцитарная терапия при ишемической болезни сердца: обновленная версия 2017 года. Российский кардиологический журнал. 2018;23(8):113-163. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2018-8-113-163.
- Сулимов В.А., Голицын С.П., Панченко Е.П., Попов С.В., Ревишвили А.Ш., Шубик Ю.В. и др. Диагностика и лечение фибрилляции предсердий. Рекомендации РКО, ВНОА и АССХ. Российский кардиологический журнал. 2013;4(102):1-100.
- Сулимов В.А., Напалков Д.А., Соколова А.А. Сравнительная эффективность и безопасность новых пероральных антикоагулянтов. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2013;9(4):433-438.
- Tabl M.A. Безопасность и эффективность комбинации ривароксабана и клопидогрела для лечения фибрилляции предсердий у пациентов с острым коронарным синдромом. Международный журнал сердца и сосудистых заболеваний. 2017;5(16):22-30.
- Hindricks G., Potpara T., Dagres N., Arbelo E., Bax J.J., Blomström-Lundqvist C. et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The task force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur. Heart J. 2020;ehaa612. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa612.