Антропологическая структура населения Западной Сибири эпохи поздней бронзы (по данным краниометрии)
Автор: Козинцев А.Г.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Антропология и палеогенетика
Статья в выпуске: 3 т.52, 2024 года.
Бесплатный доступ
Для выяснения истоков популяционной дифференциации населения Западной Сибири позднего бронзового века измерения 68 серий черепов этой и предшествующих эпох обработаны с помощью многомерной статистики. Результаты подтверждают вывод о минимум двух постафанасьевских миграциях в Сибирь с запада доандроновской и андроновской. Представителями первой были чаахольцы, елунинцы и самусьцы. Каракольцы обнаруживают черты сходства и с ними, и с членами обеих аборигенных евразийских формаций северной и южной, которые выглядят полюсами одного континуума. Различия между носителями двух андроновских традиций федоровской и алакульской вызваны скорее местным субстратом в составе первых, чем разным происхождением. Карасукская популяция, очевидно, возникла в результате метисации окуневцев с андроновцами. Носители «классического варианта» карасукской культуры ближе к первым, каменноложцы уклоняются в сторону вторых. Жители Верхнего Прииртышья и монгун-тайгинцы Байдага III близки к карасукцам. Данные по усредненной ирменской серии, сборной монгун-тайгинской и пахомовской указывают на вероятное смешение представителей обеих автохтонных формаций, андроновцев и карасукцев. Из андроноидных групп лишь еловская и пахомовская, как и серия из Еловки I, обнаруживают следы метисации аборигенов с андроновцами, а черкаскульская и корчажкинская, подобно позднекротовским из Сопки и Черноозерья и носителям бегазы-дандыбаевской культуры Барабы, уклоняются от аборигенов северной евразийской формации в сторону не андроновцев, а окуневцев. Метисация автохтонного населения с пришлым сильнее затронула южную евразийскую формацию, чем северную.
Западная сибирь, бронзовый век, северная евразийская антропологическая формация, южная евразийская антропологическая формация, окуневская культура, андроновская культура, карасукская культура
Короткий адрес: https://sciup.org/145147191
IDR: 145147191 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.3.127-135
Текст научной статьи Антропологическая структура населения Западной Сибири эпохи поздней бронзы (по данным краниометрии)
Согласно общепринятому взгляду, главным фактором, обусловившим дифференциацию западносибирского населения в эпоху поздней бронзы, было взаимодействие аборигенов данных территорий с андро-новскими мигрантами. В ходе этого процесса возник ряд культур, причисляемых к андроноидным*. К ним обычно отно сят черкаскульскую юга лесной зоны Урала [Косарев, 1981, с. 132–141], еловскую Томско-Нарымского Приобья [Там же, с. 145–162], корчаж-кинскую Алтайского Приобья [Кирюшин, Шамшин, 1992] и пахомовскую лесостепного Тоболо-Иртышья [Корочкова, 2009].
Несмотря на данные о значительной доле как ан-дроновского, так и местного компонента в ирменской культуре обь-иртышской лесостепи, она не причислялась к андроноидным, т.к. считалась сравнительно поздней. Радиоуглеродные даты, однако, свидетельствуют о появлении ирменцев на поселении Чича уже в XV–XIV вв. до н.э. [Шнеевайс и др., 2018]. Один из главных вопросов, связанных с ирменской культурой, касается участия карасукцев в ее генезисе (обзор см.: [Ковалевский, 2011]). Тот же вопрос возникает по отношению к культуре позднего бронзового века Верхнего Прииртышья в эпоху, когда андро-новская традиция сменялась карасукской [Черников, 1960, с. 74, 98].
Загадочно и происхождение самой карасукской культуры. Некоторые археологи отводят важную роль в данном процессе как пришлому (андроновскому), так и коренному (окуневскому) населению [Вадец-кая, 1986, с. 61–63]. Другие же полагают, что главный вклад в сложение карасукской популяции внесли ан-дроновцы, а участие окуневцев было минимальным [Поляков, 2022, с. 211, 226, 245, 249, 290, 316].
Особая проблема – участие бегазы-дандыбаевско-го компонента в генезисе западносибирских культур. Он заметен, в частности, в материалах эпохи поздней бронзы могильников Старый Сад и Преображенка-3 в Барабе [Молодин, Нескоров, 1992], Еловка I в Томском Приобье [Кирюшин, 2004, с. 95]. Есть мнение, что данный компонент участвовал в формировании еловской культуры [Там же].
*Во избежание путаницы подчеркну, что данный термин относится к культурам, а не к антропологическим особенностям их носителей.
Значительная роль в решении перечисленных проблем принадлежит краниологии. В этой области за последние десятилетия появились крупные обобщающие работы [Алексеев, Гохман, 1984; Дрёмов, 1997; Чикишева, 2012; Зубова, 2014; Багашев, 2017]. Предлагаемая статья, продолжающая данное направление, имеет целью проверку вышеизложенных гипотез с использованием нового материала и нового графического приема.
Материал и методика
Использованы данные о 68 мужских сериях черепов, относящихся к следующим культурам, эпохам и территориям*:
-
1. Окуневская культура, Хакасско-Минусинская котловина, Тас-Хазаа.
-
2. То же, Уйбат.
-
3. То же, Черновая.
-
4. То же, Верх-Аскиз.
-
5. Каракольская культура, Горный Алтай.
-
6. Чаахольская культура, Тува.
-
7. Елунинская культура, Верхнее Приобье.
-
8. Самусьская культура, Томско-Нарымское Приобье.
-
9. Усть-тартасская культура, Барабинская лесостепь, Сопка-2/3.
-
10. То же, Сопка-2/3A.
-
11. Одиновская культура, Сопка-2/4A.
-
12. То же, Барабинская лесостепь, Тартас-1.
-
13. То же, Преображенка-6.
-
14. Кротовская культура, классический этап, Сопка-2/4Б, В.
-
15. Позднекротовская (черноозерская) культура, Сопка-2/5.
-
16. То же, Омское Прииртышье, Черноозерье-1.
-
17. Андроновская (федоровская) культура, Центральный, Северный и Восточный Казахстан.
-
18. То же, Барабинская лесостепь.
-
19. То же, Рудный Алтай.
-
20. То же, Барнаульское Приобье, Фирсово XIV.
-
21. То же, Барнаульско-Новосибирское Приобье.
-
22. То же, Причумышье.
-
23. То же, Томское Приобье, Еловка II.
-
24. То же, Кузнецкая котловина.
-
25. То же, Минусинская котловина.
-
26. Андроновская (алакульско-кожумбердынская) культура, Южный Урал и Западный Казахстан.
-
27. Андроновская (алакульская) культура, Центральный, Северный и Восточный Казахстан.
-
28. То же, Омское Прииртышье, Ермак IV.
-
29. Черкаскульская культура, Башкирия, Красногорский могильник [Шевченко, 1980], Челябинская обл., Березки Vг [Дрёмов, 1997, с. 153, 157]*.
-
30. Пахомовская культура, Тюменская обл., Ново-Шадрино VII [Солодовников, Рыкун, 2011].
-
31. Корчажкинская культура, Кузнецкая котловина, Танай-1 и -12 [Зубова, 2014, с. 183–184].
-
32. Еловская культура, Томское Приобье, Еловка II [Солодовников, Рыкун, 2011].
-
33. Культура эпохи поздней бронзы, возможно бе-газы-дандыбаевская [Кирюшин, 2004, с. 95], Томское Приобье, Еловка I [Солодовников, Рыкун, 2011].
-
34. Культура позднего бронзового века, испытавшая влияние бегазы-дандыбаевской [Молодин, 1985, с. 140–142; Молодин, Нескоров, 1992], Барабинская лесостепь, Преображенка-3, Старый Сад [Чикишева, 2012, с. 388–390].
-
35. Культура эпохи поздней бронзы Верхнего Прииртышья [Солодовников, 2009].
-
36. Ирменская культура, Барабинская лесостепь, Преображенка-3 [Чикишева, 2012, с. 372–375].
-
37. То же, Новосибирское Приобье [Зубова, 2014, с. 129].
-
38. То же, лесостепной Алтай [Там же, с. 134].
-
39. То же, Томское Приобье [Там же, с. 125].
-
40. То же, Кузнецкая котловина, Журавлево-1, -3, -4 [Чикишева, 2012, с. 372–375].
-
41. То же, Заречное-1 [Зубова, 2014, с. 109].
-
42. То же, Ваганово-2 [Там же, с. 117].
-
43. Собственно карасукская культура («классический вариант»).
-
44. Каменноложский вариант карасукской культуры.
-
45. Атипичная карасукская группа (суммированы данные по группам № 46–49).
-
46. То же, северная группа – каменноложские погребения на р. Карасук.
-
47. То же, Малые Копены III.
-
48. То же, Федоров Улус.
-
49. То же, восточно-минусинская группа – лугав-ские (бейские) погребения на правобережье Енисея к югу от р. Тубы.
-
50. Карасукская культура, северная группа.
-
51. То же, южная группа.
-
52. То же, ербинская группа.
-
53. То же, левобережная группа.
-
54. То же, правобережная группа.
-
55. То же, Хара-Хая.
-
56. То же, Тагарский Остров IV.
-
57. То же, Кюргеннер I.
-
58. То же, Кюргеннер II.
-
59. То же, Карасук I.
-
60. То же, Северный Берег Варчи I.
-
61. То же, Сухое Озеро II.
-
62. То же, Арбан I.
-
63. То же, Белое Озеро.
-
64. То же, Сабинка II.
-
65. То же, Терт-Арба.
-
66. То же, Есинская МТС.
-
67. Монгун-тайгинская культура, Тува, сборная группа.
-
68. То же, Тува, Байдаг III.
25а. Андроновская (федоровская) культура, суммарно (№ 17–25).
28а. Андроновская (алакульская) культура, суммарно (№ 26–28).
42а. Ирменская культура, суммарно**.
Программа включает 14 признаков: продольный, поперечный и высотный диаметры, наименьшую ширину лба, скуловой диаметр, верхнюю высоту лица, высоту и ширину носа и орбиты, назомалярный и зи-гомаксиллярный углы, симотический указатель и угол выступания носа. Данные обработаны с помощью канонического анализа и подсчета расстояний Махала-нобиса с поправкой на численность ( D 2 c ). Матрица расстояний подвергнута неметрическому многомерному шкалированию и кластерному анализу*. Применен новый графический прием, направленный на совмещение результатов этих анализов.
Результаты
В результате анализа с мелкими группами выделено четыре главных кластера (рис. 1). Наиболее обособлен кластер А, противостоящий трем остальным. В него входят шесть серий, в т.ч. три самые «западные» по своим антропологическим параметрам –
-
*Использовалась программа CANON Б.А. Козинцева и пакет PAST Э. Хаммера (версия 4.05).
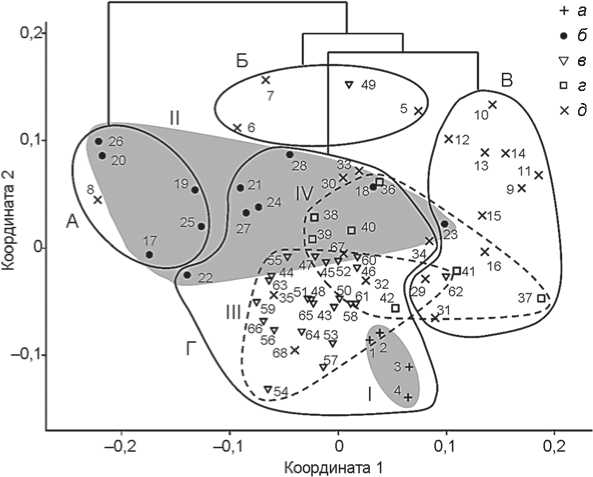
Рис. 1. Положение центроидов групп на плоскости неметрического многомерного шкалирования в анализе с мелкими группами (дендрограмма
показывает иерархические отношения между четырьмя главными кластерами А–Г).
а – окуневские группы; б – андроновские; в – карасукские; г – ирменские; д – прочие. Нумерация групп соответствует списку в тексте. Зоны расположения окуневских и андроновских групп обозначены пятнами (I, II), карасукских и ирменских – штрих-пунктирными контурами (III, IV).
самусьская (№ 8) и андроновские со «средиземноморскими» чертами: федоровская из Фирсова XIV (№ 20) и алакульско-кожумбердынская (№ 26), – а также еще три федоровские – из Северного, Центрального и Восточного Казахстана (№ 17), Рудного Алтая (№ 19), Минусинской котловины (№ 25).
Следующий по степени обособленности – кластер Б. Он состоит из четырех серий, заметно различающихся по выраженности западных и восточных черт: первые сильнее проявляются в чаахольской (№ 6) и елу-нинской (№ 7), вторые – в лугавской (бейской) серии атипичной карасукской группы (№ 49) и особенно в каракольской (№ 5). Данный кластер противостоит двум наиболее крупным – В и Г, куда попадают все остальные серии.
Кластер В, типологически наиболее «восточный», включает 14 серий: восемь, относящихся к северной евразийской антропологической формации (по: [Чи-кишева, 2012, с. 6, 56, 59, 123–124, 179–180]) (№ 9–14) и близких к ней (№ 15, 16), андроновскую из Елов-ки II в Томском Приобье (№ 23), черкаскульскую (№ 29), корчажкинскую (№ 31), ирменские из Новосибирского Приобья (№ 37) и из Заречного в Кузнецкой котловине (№ 41), а также карасукскую из Арбана I (№ 62).
Кластер Г самый крупный. Он занимает центральное положение, будучи окружен тремя другими. В нем
44 серии: все окуневские (№ 1–4), половина андроновских (№ 18, 21, 22, 24, 27, 28), пахомовская (№ 30), еловская (№ 32), группы эпохи поздней бронзы из Еловки I (№ 33), Барабинской лесостепи (№ 34) и верхнего Прииртышья (№ 35), большинство ирменских (№ 36, 38–40, 42), почти все, кроме двух, кара-сукские (№ 43–48, 50–61, 63–66) и обе монгун-тайгинские (№ 67 и 68). Кара-сукская группировка (III) отчетливо промежуточная между окуневской (I) и ан-дроновской (II).
Как видим, группировки, выделенные по статистическому и археологическому принципам, совпадают далеко не полностью. Лишь окуневская (целиком) и карасукская, за двумя исключениями (см. выше), оказываются в одном кластере – Г. Наиболее серьезное несов- падение касается андроновских групп, которые распределились по трем класте- рам – А, В и Г. Зона их расположения (II) сильно вытянута в направлении, которое можно условно назвать западно-восточным, от «средиземноморских» серий кластера А – федоровской из Фирсова XIV (№ 20) и алакульско-кожумбер- дынской (№ 26) – до серии из Еловки II (№ 23), попадающей в тот же кластер В, что и аборигенные сибирские группы северной евразийской формации*.
Существенно вытянута вдоль западно-восточного вектора и ирменская группировка. Большинство ее серий находятся в кластере Г, в зоне значений андронов-ских (№ 36, 38–40) и карасукских (№ 42) групп, но две ирменские – из Заречного-1 в Кузнецкой котловине (№ 41) и из Новосибирского Приобья (№ 37) – попадают в кластер В, причем последняя отличается особенно «восточной» морфологией. Из остальных групп две – черкаскульская (№ 29) и корчажкинская (№ 31) – оказываются в противоположной, «западной» части данного кластера, а пять – пахомовская (№ 30), елов-ская (№ 32) и группы поздней бронзы из Еловки I (№ 33), Барабинской лесостепи (№ 34) и Верхнего Прииртышья (№ 35) – в кластере Г.
В силу большого числа мелких групп кластерный анализ не всегда успешно справляется с задачей. Крупные кластеры могут получиться довольно
-
*«Восточный» полюс в данной классификации образован не традиционно понимаемыми монголоидами (они в анализе не участвуют), а протоморфными группами, задержавшимися на сравнительно ранней стадии дифференциации бореального ствола [Чикишева, 2012, с. 6, 56, 57, 153, 169, 123–124, 179–180; Козинцев, 2021].
аморфными, что в данном случае относится прежде всего к «центральному» и самому гетерогенному в культурном отношении кластеру Г.
Попытаемся снизить роль случайных факторов и сделать картину более четкой, укрупнив группы: из андроновских оставим лишь суммарные федоровскую (№ 25а) и алакульскую (№ 28а), из кара-сукских – «классическую» (№ 43) и ка-менноложскую (№ 44), а ирменские объединим (№ 42а). Это не значит, что вся изменчивость в пределах этих группировок считается случайной (результаты, изложенные выше, свидетельствуют об обратном). Но т.к. отделить закономерности от случайностей при маленьких выборках сложно, есть смысл обратить внимание на центральные тенденции.
Результаты анализа с укрупненными группами (рис. 2) в целом согласуются с вышеизложенными, но есть и расхождения. Вместо четырех крупных кластеров мы видим три. Прежнего кластера Б, куда входили три доандроновские группы – каракольская (№ 5), чаахольская (№ 6) и елунинская (№ 7) – больше нет. Теперь последние две из них объединены
с
самусь-
ской (№ 8), а также с алакульской (№ 28а) в рамках самого обособленного кластера А, наиболее «западного» по своим характеристикам, как и в первом анализе. Четвертая же доандроновская группа (каракольская, № 5), имеющая в своем составе сильную «восточную» примесь, отошла к северной евразийской формации (подкластер В1), впрочем, заняв в нем наиболее «западное» место.
Кластер Б, в значительной мере совпадающий по составу с прежним кластером Г, теперь структурирован – он включает два подкластера. В первый (Б1) вошли все окуневские серии (№ 1–4), а также елов-ская (№ 32). Во втором (Б2) выделяются два подкластера более низкого ранга: Б2а – федоровская группа (№ 25а), обе карасукские (№ 43 и 44), серия эпохи поздней бронзы с верхнего Иртыша (№ 35) и монгун-тайгинская из Байдага III (№ 68); Б2б – пахомовская (№ 30), объединенная ирменская (№ 42а) и суммарная монгун-тайгинская (№ 67).
Новый кластер В, как и прежний с тем же обозначением, типологически наиболее «во сточный». Он состоит из двух подкластеров – В1 и В2. В первый вошли, помимо уже упоминавшейся каракольской группы (№ 5), шесть серий северной евразийской антропологической формации (№ 9–14). Второй включает позднекротовские (черноозерские) группы из Сопки-2/5 (№ 15) и Черноозерья (№ 16), серии
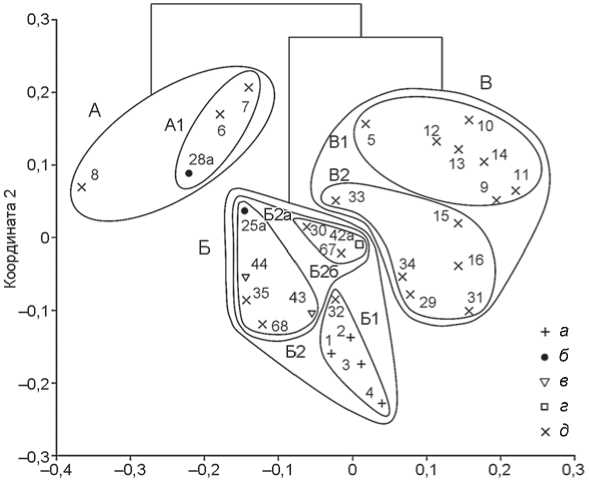
Координата 1
Рис. 2. Положение центроидов групп на плоскости неметрического многомерного шкалирования в анализе с укрупненными группами (дендрограмма показывает иерархические отношения между кластерами А–В). а – окуневские группы; б – андроновские; в – карасукские; г – ирменские; д – прочие. Нумерация групп соответствует списку в тексте. Замкнутыми контурами выделены кластеры и подкластеры.
из погребений с бегазы-дандыбаевскими чертами в Томском Приобье (Еловка I, № 33) и Барабинской лесостепи (№ 34), а также «андроноидные» черка-скульскую (№ 29) и корчажкинскую (№ 31). Группа из Еловки I занимает в данном подкластере обособленное положение, тяготея к федоровской (№ 25а). Между тем обе позднекротовские (черноозерские) серии (№ 15 и 16) уклоняются от групп, относящихся к северной евразийской формации, не в андронов-ском направлении, а в «андроноидном» – в сторону черкаскульской (№ 29), корчажкинской (№ 31) и серии из погребений с бегазы-дандыбаевскими чертами в Барабе (№ 34).
Обсуждение
Три доандроновские группы – каракольская (№ 5), чаахольская (№ 6) и елунинская (№ 7) – в первом анализе образовали отдельный кластер Б, который противостоял кластеру А, включавшему типологически наиболее «западных» андроновцев, а также самусьцев (№ 8). Следовательно, в бронзовом веке имели ме сто по крайней мере две постафанасьевские миграции в Сибирь с запада – доандроновская и андроновская. Результаты второго анализа этому не противоречат не смотря на исчезновение в нем бывшего кластера Б, ведь три из четырех членов но- вого кластера А относятся к доандроновскому времени. Правда, чаахольцы и елунинцы соседствуют тут не с каракольцами, а с самусьцами, тогда как кара-кольцы выглядят метисами между мигрантами с запада (чаахольцами и елунинцами), с одной стороны, и аборигенами – представителями северной евразийской формации – с другой*.
Укрупненные андроновские серии во втором анализе оказались в разных кластерах: алакульская (№ 28а) в кластере А, федоровская (№ 25а) в подкластере Б2а. Но расстояние между ними невелико, особенно в сравнении с сильным межгрупповым разбросом внутри этих сообществ (см. рис. 1). Результаты специального исследования [Козинцев, 2023б] свидетельствуют о единстве их происхождения и вторично-сти различий между ними. В частности, «восточный» сдвиг федоровцев по сравнению с алакульцами, скорее всего, вызван смешением некоторых федоровских популяций с аборигенами Сибири.
Наряду с федоровской группой, членами субкластера Б2а оказываются обе укрупненные карасук-ские – «классическая» (№ 43) и более поздняя камен-ноложская (№ 44). Это объясняется, видимо, не только андроновским компонентом в карасукской популяции, но и тем, что к анализу не были привлечены вероятные предки андроновцев – катакомбники Северного Кавказа, полтавкинцы, абашевцы и синташ-тинцы [Там же]. В обоих анализах, как и в предшествующих исследованиях [Козинцев, 2023а, 2024], данные карасукские группы промежуточные между окуневскими и андроновскими, причем «классическая» близка к первым, а каменноложская уклоняется в сторону вторых. Это подтверждает как теорию метисного происхождения карасукцев [Вадецкая, 1986, с. 61–63; Рыкушина, 2007, с. 15, 20; Козинцев, 2023а, 2024], так и гипотезу о том, что переход от собственно карасукской стадии к каменноложской был связан с очередной андроновской миграцией – из Синьцзяна через Монголию по верхнему Енисею [Поляков, 2022, с. 311].
Помимо федоровцев и карасукцев, подкластер Б2а включает группу эпохи поздней бронзы из Верхнего Прииртышья (№ 35) и носителей монгун-тайгинской культуры из Байдага III в Туве (№ 68), причем данные группы, довольно близкие друг к другу, занимают промежуточное положение, подобно карасукским, между андроновскими и окуневскими. Возможно, и их следует рассматривать в контексте метисации между ан-
*Этому, однако, противоречит то, что каракольцы, будучи наиболее своеобразной группой из всех рассмотренных, ближе к «южноевразийской» группе из Еловки II, чем к каким-либо из «северноевразийских». На южноевразийские черты каракольцев указала мне Т.А. Чикишева (личное сообщение).
дроновцами, с одной стороны, и окуневцами или родственными им представителями южной евразийской формации – с другой [Козинцев, 2023а, 2024].
То же самое может относиться и к еловской группе (№ 32) – единственной, кроме окуневских, вошедшей в подкластер Б1. Она занимает промежуточное положение между окуневскими и федоровской, при этом значительно ближе к первым. Хотя археологи отмечают «чрезвычайно мощный андроновский компонент» в составе еловской культуры [Корочкова, 2013, с. 343], результаты первого анализа свидетельствуют о родстве еловцев лишь с типологически наиболее «восточными» андроновскими группами из Еловки II (№ 23)* и Барабинской лесостепи (№ 18), т.е. как раз с теми, которые, судя по всему, принадлежали к аборигенам, подвергшимся аккультурации.
Наиболее же близкое сходство связывает еловцев с их соседями по подкластеру Б1 – окуневцами, особенно ранними – из Тас-Хазаа (№ 1) и Уйбата (№ 2). Значения расстояния D 2 c в этих случаях отрицательные, т.е. меньше статистической ошибки. Хронологические соображения заставляют думать, что речь идет не о непосредственном родстве, а о сходном соотношении двух компонентов – местного и пришлого (европейского). Доля второго у ранних окуневцев была выше, чем у более поздних [Поляков, 2022, с. 131–132; Громов, 1997], этим, видимо, и объясняется полученный результат.
Итак, из всех использованных в данном исследовании групп только еловцы могут претендовать на роль прямых потомков окуневцев или их родственников, впрочем, с небольшой андроновской примесью. То, что еловская культура отделена от окуневской и во времени, и в пространстве, этому не противоречит, т.к. южная евразийская формация включает в себя не только окуневцев [Чикишева, 2012, с. 57–58; Козинцев, 2021]. Видимо, речь идет об аккультурации, при которой аборигены – потомки окуневцев или их родственники – активно заимствовали элементы ан-дроновской культуры, тогда как масштаб метисации с пришельцами был небольшим.
Подкластер Б2б занимает центральное положение, что затрудняет оценку его статуса. Входящая в него объединенная ирменская группа (№ 42а) ближе всего к сборной монгун-тайгинской (№ 67), которая даже более сходна с ней, чем с монгун-тайгин-ской серией из Байдага III (№ 68). Археологи писали о родстве ирменской культуры с предшествующей ей еловской (см. особенно: [Матющенко, 1974, с. 4–5]). Антропологическое сходство между их носителями действительно имеется, но на первом месте все-таки параллель между ирменцами и монгун-тайгин- цами. Особенно отчетливо она проявляется в самой южной ирменской группе – из лесостепного Алтая (№ 38). Закономерно ли это – сказать трудно. Что касается относительного родства ирменцев с андронов-цами и карасукцами, то, как показал первый анализ, область, занятая центроидами отдельных ирменских серий, перекрывается и с андроновской, и с карасук-ской, будучи сдвинута в «восточном» направлении по сравнению с обеими (особенно с андроновской). Суммарная же ирменская группа (№ 42а) средне удалена как от объединенной федоровской (№ 25а), так и от обеих карасукских (№ 43 и 44). Ее положение, как и подкластера Б2б в целом, включая пахомовцев и монгун-тайгинцев, согласуется с гипотезой смешения федоровцев с аборигенами, подобными представителям позднекротовской (черноозерской) стадии. Возможно, соответствие этой гипотезе будет еще лучше, если допустить, что в метисации участвовали также карасукцы. Впрочем, пахомовская группа (№ 30) ближе всего не к остальным членам подкластера Б2б, а к другой андроноидной группе – еловской. Обе они, вопреки впечатлению от двумерной проекции (см. рис. 2), равноудалены от федоровской, хотя археологические данные свидетельствуют о преобладании андроновского компонента в еловской культуре и местного в пахомовской [Корочкова, 2013].
Сами же представители позднекротовской (черноозерской) стадии Сопки-2 (№ 15) и особенно Черно-озерья (№ 16) – члены подкластера В2 – обнаруживают сдвиг от северной евразийской формации (подкластера В1) не в направлении андроновцев, а в сторону южной евразийской формации, а именно окуневско-еловского подкластера Б1. На это обратила внимание и Т.А. Чикишева [2012, с. 123]. В еще большей степени сказанное относится к другим членам подкластера В2 – возможным родственникам бегазы-дандыба-евцев в Барабинской лесостепи (№ 34), носителям андроноидных корчажкинской (№ 31) и черкаскуль-ской (№ 29) культур. Особое место занимает вторая предположительно бегазы-дандыбаевская с ерия – из Еловки I (№ 33), которая, в отличие от своих соседей по подкластеру В2, действительно проявляет заметный сдвиг в сторону андроновских групп, совместимый с гипотезой смешения аборигенов северной евразийской формации с андроновцами*.
Положение прочих членов подкластера В2 – поздних кротовцев (№ 15 и 16), черкаскульцев (№ 29), корчажкинцев (№ 31) и барабинских родственников бегазы-дандыбаевцев (№ 34) – примирить с данной гипотезой трудно. Они далеки не только от андронов-цев, но и от воображаемой прямой, соединяющей тех с членами северной евразийской формации (см. рис. 2), а ведь, согласно общепринятому мнению, метисные популяции, как правило, промежуточны между родительскими. Нет и свидетельств того, что подкластер В2 отражает метисацию андроновцев с представителями южной евразийской формации. По всей видимости, его члены – автохтоны Западной Сибири, в основном не столько смешавшиеся с андроновца-ми, сколько подвергшиеся аккультурации. Но к какой из двух известных нам формаций следует их отнести?
Поздние кротовцы (№ 15 и 16) – явное ответвление северной формации, к которой принадлежат, в частности, представители классической кротовской культуры (№ 14). Черкаскульцы (№ 29) ближе всего к поздне-кротовской группе из Черноозерья (№ 16), но близки и к носителям еловской культуры (№ 32), входящим в южную формацию. Барабинские родственники бе-газы-дандыбаевцев (№ 34) сходны с обеими поздне-кротовскими (черноозерскими) группами и с елов-ской. Корчажкинцы (№ 31) также похожи на людей из Черноозерья, но, кроме того, подобно объединенной ирменской группе (№ 42а), и на монгун-тайгинцев (№ 67), а те – на классических карасукцев (№ 43; обе последние группы Т.А. Чикишева [2012, с. 8] относит к южной формации).
Серии из могильников с бегазы-дандыбаевскими чертами – из Еловки I (№ 33) и Барабинской лесостепи (№ 34) – по результатам первого анализа находятся в правой, т.е. морфологически «восточной», части андроновской группировки. Хотя во втором анализе обе входят в один подкластер В2, особого сходства между ними нет, причем сдвиг в сторону андро-новцев заметен лишь в серии из Еловки I, которая, как и ирменская, ближе всего к монгун-тайгинской (№ 67). Что касается «бегазы-дандыбаевских» материалов из Барабы, то Т.А. Чикишева именно на их основании впервые описала южную антропологическую формацию [Там же, с. 57]. Однако, как показал статистиче ский анализ, барабинская группа ближе всего к позднекротовско-черноозерским (№ 15 и 16), связанным с северной формацией, но, подобно черка-скульской (№ 29) и корчажкинской (№ 31), еще сильнее уклоняется в сторону южной. Похоже, обе формации, границы и отношения между которыми пока неясны, – полюса одного континуума. Носители елов-ской культуры (№ 32), возможно также подвергшейся влиянию бегазы-дандыбаевской [Кирюшин, 2004, с. 95], несомненно, принадлежат к южной формации, т.к. входят в окуневский кластер. Поскольку группы из могильников с бегазы-дандыбаевскими чертами не обнаруживают близкого сходства, а собственно бегазы-дандыбаевcкая культура не представлена краниологическим материалом, дать полученным результатам историческую интерпретацию затруднительно. Не проявляют единства и носители четырех культур, относимых к андроноидным. Во втором анализе мор- фологически более «западные» из них пахомовская (№ 30) и еловская (№ 32) группы попали в кластер Б, причем последняя отличается от первой отчетливым «окуневским» сдвигом; а «восточные» черкаскульская (№ 29) и корчажкинская (№ 31) оказались в подкластере В2, вместе с сериями из могильников позднекро-товско-черноозерского типа (№ 15 и 16).
Выводы
-
1. Елунинцы, чаахольцы и самусьцы представляли вторую (после афанасьевской) миграцию в Сибирь с запада, андроновцы – третью. Каракольцы обнаруживают черты сходства и с доандроновскими группами западного происхождения (елунинцами и чаа-хольцами), и с аборигенами Барабинской лесостепи, и с еловцами.
-
2. Небольшой «восточный» сдвиг федоровцев по сравнению с алакульцами вызван скорее аборигенным субстратом в составе первых, чем разным происхождением.
-
3. Карасукская группа, очевидно, возникла в результате метисации окуневцев с андроновцами, причем ее представители «классического» этапа культуры ближе к первым, а каменноложцы уклоняются в сторону вторых. Жители Верхнего Прииртышья эпохи поздней бронзы и монгун-тайгинцы Байдага III близки к карасукцам по физическому типу, возможно, и по происхождению.
-
4. Носители еловской культуры из Еловки II сходны с окуневцами, но, видимо, имеют небольшую ан-дроновскую примесь.
-
5. Позднекротовские (черноозерские) группы из Сопки и Черноозерья уклоняются от аборигенов северной евразийской формации из Барабы в сторону не андроновцев, а окуневцев. То же относится к носителям андроноидных черкаскульской и кор-чажкинской культур, а также к серии из барабинских могильников эпохи поздней бронзы с бегазы-данды-баевскими чертами. Культурно близкая по следней группа из Еловки I занимает промежуточное положение между барабинскими аборигенами и андро-новцами.
-
6. Результаты позволяют предположить, что северная и южная аборигенные формации – полюса одного континуума.
-
7. Усредненная ирменская группа, сборная монгун-тайгинская и носители андроноидной пахомовской культуры заняли в анализе центральное положение, что согласуется с гипотезой об участии в их формировании нескольких компонентов – обеих аборигенных формаций, андроновцев и карасукцев.
-
8. Из четырех серий андроноидных культур лишь две (еловская и пахомовская) обнаруживают следы
метисации аборигенов с андроновцами. В черкаскуль-ской и корчажкинской это не прослеживается, как и в позднекротовских. Метисация автохтонного населения с пришлым затронула южную евразийскую формацию сильнее, чем северную.
Я признателен Т.А. Чикишевой и А.В. Зубовой за ценные замечания.


