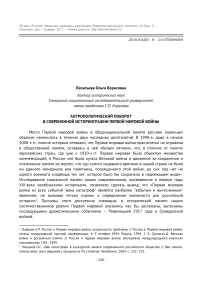Антропологический поворот в современной историографии Первой мировой войны
Автор: Леонтьева Ольга Борисовна
Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr
Статья в выпуске: 5, 2017 года.
Бесплатный доступ
Выявляются изменения в подходах современной историографии к проблемам Первой мировой войны в рамках общей тенденции развития исторической науки («антропологический поворот»).
Современная российская историография, историография первой мировой войны, историческая антропология, антропологический поворот
Короткий адрес: https://sciup.org/140220721
IDR: 140220721
Текст научной статьи Антропологический поворот в современной историографии Первой мировой войны
Место Первой мировой войны в общенациональной памяти россиян коренным образом изменилось в течение двух последних десятилетий. В 1990-е, даже в начале 2000-х гг. многие историки сетовали, что Первая мировая война практически не отражена в общественной памяти, оставаясь в ней «белым пятном», что, в отличие от многих европейских стран, где уже с 1920-х гг. Первая мировая была объектом множества коммемораций, в России «не было культа Великой войны и движения за сохранение и поклонение памяти ее жертв», что «до самого недавнего времени в нашей стране не было ни единого мемориала или памятника, посвященного этой войне, до сих пор нет ни одного военного кладбища тех лет, которое было бы сохранено в надлежащем виде»1. Исследование социальной памяти наших современников, проведенное в первые годы XXI века челябинскими историками, позволило сделать вывод, что «Первая мировая война из всех событий "века катастроф" является наиболее "забытым и вытесненным" явлением, не вызывая четких оценок и определения значимости для российской истории»2. Причины этого достаточно очевидны: в исторической памяти наших соотечественников реалии Первой мировой оказались как бы заслонены, вытеснены последующими драматическими событиями – Революцией 1917 года и Гражданской войной.
Доклады и сообщения
С тех пор многое изменилось, и, оглядываясь назад, можно поразиться стремительности этих перемен в общественном сознании и исторической культуре россиян. Свидетельством тому может служить огромное количество тематических выставок, конференций, «круглых столов», проведенных в 2014 г. и приуроченных к столетию начала Первой мировой войны; восстановление или создание заново памятных знаков в честь ее событий и участников3, попытки сформировать запоминающиеся образы этой войны в массовой культуре (например, фильм Д. Месхиева «Батальонъ», вышедший на экраны в 2015 г., или историко-приключенческий цикл Б. Акунина «Смерть на брудершафт», 2008–2011).
Все чаще высказывается мысль о переломном значении Первой мировой войны для становления современного мира. Сметенные ею с лица земли границы между империями и между социальными группами никогда больше не были восстановлены, «старый порядок» – не только в России, но и на всем европейском континенте – безвозвратно ушел в прошлое, властно заявили о себе принципы национальной государственности и социального равенства. Первая мировая война с ее опытом масштабных мобилизаций, создания миллионных армий вывела на авансцену истории массы, сделала их субъектами большой политики, вооружила и приучила к тотальному насилию. Опыт этой войны расширил представления человека о самом себе, и во многом эти открытия оказались болезненными и шокирующими.
Для российской исторической науки начала XXI века история Первой мировой войны стала одной из востребованных тем. Более того, в изучении ее истории отразились, как в капле воды, актуальные «познавательные повороты» в развитии науки. Если для отечественных работ по истории Первой мировой войны, выходивших в свет в советский период, был характерен «уклон в социоэкономическую и политическую историю», «изучение истории войны на макроуровне – классы, массы, движения», то отличительной чертой современной историографии Первой мировой войны стал интерес к «микроуровню» – проблеме человека на войне, его психологии, менталитета, быта, повседневных практик поведения, словом, «жизни на войне»4. Это стало проявлением общей тенденции развития исторической науки – «антропологического поворота», то есть поворота к изучению человека в истории.
В изучении «человеческого измерения» истории Первой мировой войны можно выделить несколько характерных тем. Прежде всего, это тема воздействия войны на сознание обычного, «рядового» человека; тема восприятия войны, образов «своих» и
Доклады и сообщения
«чужих» в массовом сознании; наконец, тема социального поведения людей в условиях войны, выбора поведенческих стратегий и «практик выживания» в годы исторических катаклизмов. Героями таких исследований являются не дипломаты и полководцы, не политические лидеры или интеллектуальная элита, а представители массовых социальных групп, рядовые участники и жертвы войны: крестьяне, рабочие и солдаты, а также беженцы, дезертиры, военнопленные.
Освоение историко-антропологической проблематики потребовало привлечения новых массивов источников и поиска новых подходов к их анализу. Перед историком, обратившимся к изучению менталитета, социальных настроений, практик поведения или исторической памяти больших и малых социальных групп, встает вопрос о том, какие источники позволяют реконструировать содержание сознания и мотивировку действий «простых» людей, которые, как правило, не вели дневников и не оставляли мемуаров.
Применительно к истории Первой мировой можно сказать, что эти источники создавала сама война. Мобилизация масс породила новые институты управления, методы и практики надзора и контроля, которые в невиданных прежде масштабах внедрялись во всех воюющих странах. Военная цензура («черные кабинеты») перлюстрировала письма с фронта и на фронт, ранжировала их в соответствии с выраженными в них настроениями («патриотическим», «бодрым», «уравновешенным», «угнетенным» и др.), перехватывала и сохраняла в своих архивах те письма, которые представлялись наиболее опасными; органы осведомления и управленческие структуры регулярно составляли сводки о настроениях населения и фиксировали циркулировавшие в народе слухи5. В свою очередь, рост грамотности побуждал людей делиться своими тревогами, ожиданиями, надеждами не только в личных письмах. Эпоха порождает жанр «писем во власть» – всевозможных коллективных и индивидуальных жалоб, обращений, требований, оседавших затем в архивах тех учреждений, куда они были адресованы.
Колоссальные познавательные возможности этих источников выявлены в работах О.С. Поршневой, посвященных изучению менталитета и социального поведения крестьян, рабочих и солдат в годы Первой мировой войны6 и основанных, прежде всего, на материалах перлюстрированной и задержанной цензурой переписки, а также «писем во власть». Двойственный характер таких источников (каждый из них является уникальным личностным документом, но при этом они сохранились в массовых масштабах) потребовал и особых, алгоритмизированных методов систематизации информации, в
Доклады и сообщения
частности, контент-анализа, основанного на выявлении повторяющихся тем и статистической обработке результатов.
Эти методы позволили автору проследить трансформацию сознания крупных социальных групп шаг за шагом и год за годом. Проследить, как вера в скорую победу сменялась угнетенными настроениями, как лавинообразно нарастали слухи об «измене», казавшиеся самым простым и логичным объяснением всех неудач и проблем, как от покорности воле провидения и властей общество переходило к всеобщему озлоблению: крестьян – против рабочих, «укрывающихся» от мобилизаций, рабочих – против предпринимателей и торговцев, солдат – против офицеров и вообще «начальства», всех вместе – против «внутреннего врага», под которым все чаще понимались социальные «верхи». По мере того, как общество привыкало к насилию, росла склонность верить в силовое решение проблем; десакрализация монархии и глубочайшее разочарование в последнем императоре сочетались с патерналистскими ожиданиями сильного и популярного «народного вождя». Словом, указанные работы посвящены тому, как в условиях войны происходила эрозия традиционалистского сознания, как в недрах Первой мировой постепенно вызревали будущая революция и Гражданская война. Подчеркнем важность материалов и выводов этих исследований для развенчания чрезвычайно популярных в современной массовой культуре конспирологических мифов о причинах революции. Как пишет О.С. Поршнева, «не столько усилия политической элиты или революционных вождей, сколько социокультурные стереотипы сознания и поведения народных масс, определяющие специфику национального менталитета, повлияли на характер трансформации российского общества и определили важнейшие тенденции его развития в дальнейшем»7.
Особый блок современной историографии Первой мировой войны составляют работы, посвященные историческому опыту жертв войны, разнообразных маргинальных групп: военнопленных (российских военнослужащих в немецком плену или наоборот), дезертиров, беженцев и т. д.8 В центре внимания их авторов – социальные проблемы людей, вырванных из привычных условий существования и вынужденных адаптироваться к новым, порой экстремальным условиям. Как считает Е.Н. Наземцева, изучение гуманитарных последствий войны характерно для современного этапа развития не только отечественной, но и зарубежной науки: обращение к гуманитарной проблематике «позволяет составить комплексное представление о ее (войны. – О.Л. ) влиянии на
Доклады и сообщения
общество, охарактеризовать те структурные изменения, к которым она привела»9. Во многих таких работах ярко выражен историко-антропологический аспект: внимание к картинам мира, существовавшим в сознании людей, пострадавших от войны, попытка понять, как они сами объясняли причины происходящего, чего ожидали и чего опасались.
На постановку исследовательских проблем в указанных работах оказал влияние прагматический поворот в исторической науке: обращение к изучению социальных практик в контексте той социальной среды, которая задает рамки для человеческой деятельности, но и сама претерпевает изменения в результате этих действий10. Историки стремятся выявить взаимосвязи между ментальными структурами, картинами мира, существовавшими в сознании людей, и их повседневным поведением, практиками выживания, сетью взаимодействий с окружающими людьми. Так, в центре исследования О.С. Нагорной – «пространство лагерного опыта» российских военнопленных в Германии: уровень материального обеспечения, принудительный труд и дисциплинарные практики, контакты с местным населением, взаимные стереотипы и слухи; особый мир лагерных взаимоотношений, которому была присуща своя внутренняя иерархия, линии размежевания и конфликты; дискурсивные практики военнопленных, их попытки осмыслить свой опыт в религиозных или – реже – политических категориях; и, наконец, причины выбора между возвращением и невозвращением на Родину после окончания войны, попытки найти себе место в изменившемся до неузнаваемости обществе11. Стержневая проблема работы О.С. Нагорной – как лагерный опыт изменяет человека, – безусловно, поставлена в русле «лагерной прозы» ХХ столетия. «Плотное описание», рассмотрение повседневных практик жизни относительно компактных социальных групп позволяет не только сделать выводы о «своеобразной эволюции антигуманности»12 охваченного войной общества, но и констатировать постепенные трансформации самих маргинальных групп, поставленных в жесткие условия выживания.
Одним из аспектов антропологического поворота в исторической науке является интерес исследователей к «картинам мира», существовавшим в сознании людей прошлого; их важный компонент – представления людей о Других (соседях, чужаках) и о самих себе. В годы войн социально-психологическая значимость таких представлений
Доклады и сообщения
многократно возрастает: они становятся средством мобилизации на борьбу, ориентиром при выборе образа действий, способом самооправдания.
Тема восприятия Первой мировой войны, образов «своих» и «чужих» в массовом сознании активно разрабатывается в рамках новаторского научного направления – исторической имагологии. Источниковый массив для изучения этой проблематики богат и разнообразен, поскольку мировая война вызвала к жизни феномен массовой пропаганды в немыслимых прежде масштабах. Переход к комплектации армий на основе всеобщей воинской повинности, совершившийся в течение XIX в. в общеевропейском масштабе, означал, что основной военной силой стали бывшие «гражданские», вынужденно оторванные от своих повседневных занятий. В результате многократно возросла значимость работы по идейно-политическому воспитанию личного состава: солдата – вчерашнего мирного крестьянина или горожанина, зачастую неграмотного или полуграмотного, – нужно было убедить, что война необходима, что она носит священный характер, что убийство врага на войне оправдано, а самопожертвование во имя победы является высшей доблестью. Отсюда – многообразие вербальных и визуальных средств воздействия на аудиторию, массовое тиражирование агитационных материалов, предназначенных для широкого распространения: плакатов, листовок, афиш, карикатур, памфлетов, лубочных картинок и т. д., а значит – широкий спектр источников, которыми могут воспользоваться современные исследователи для реконструкции эго-образов и образов Других, внедрявшихся пропагандой в сознание читателя и зрителя. В свою очередь, по источникам личного происхождения – переписке, дневникам, мемуарам, «письмам во власть», – можно судить о том, насколько успешной была пропаганда, насколько прочно укоренялись создававшиеся ею образы в общественном сознании.
Эволюции «образа врага» в массовом сознании россиян посвящены работы Е.С. Сенявской13; образ союзника в Первой мировой (Франции и Англии) подвергнут обстоятельному изучению в трудах О.С. Поршневой и А.В. Голубева14. В последние годы появился ряд работ об эго-образах, существовавших в сознании российского общества времен Первой мировой (например, об образах героев войны)15. Во многих трудах выявляется диалектическая взаимосвязь между образами врага и союзника (бывший «враг» при смене внешнеполитической обстановки может превратиться в «союзника», и
Доклады и сообщения
тогда его образ будет перетолкован в позитивном ключе – равно как и наоборот)16. Указывается, что зачастую образ Другого является антитезой, «тенью» эго-образа, проекцией вовне собственных негативных, отрицаемых черт17.
Одной из ключевых проблем исследований по исторической имагологии является вопрос о том, в какой мере эго-образы и образы Другого формируются в массовом сознании стихийно, а в какой – представляют собой результат целенаправленного воспитательного и пропагандистского воздействия, иными словами – насколько общественное сознание поддается воздействию политических технологий. Так, Е.С. Сенявская в работе об «образах врага» указывает, что, если элиты и государственные институты «продуцируют внешние этнические и этнокультурные стереотипы», то «преобладающие категории населения» являются «пассивными и воспринимающими» и представляют собой «объект воздействия, нередко – прямой манипуляции»18. Однако, как далее доказывает исследователь, в экстремальной ситуации человек способен выйти за пределы картины мира, созданной пропагандой, и проверить ее своим личным опытом. Войны давали противникам возможность «посмотреть друг на друга без идеологических "фильтров" – в бою, на госпитальной койке, в плену и т. д.»19. Поэтому «официальнопропагандистский» образ, целенаправленно формируемый с помощью государственных структур, средств массовой информации, систем образования и воспитания, мог существенно отличаться от образа личностно-бытового, складывающегося в сознании людей в результате личного контакта и порой гораздо более реалистичного и адекватного20. Именно этим, с точки зрения Сенявской, объясняется эволюция образа немца в массовом сознании времен Первой мировой войны: движение от образа «врага-зверя», тиражировавшегося в пропаганде, к образу «врага-человека», с которым возможно братание (что, добавляет она, было бы совершенно немыслимым в реалиях Второй мировой войны).
Тема поиска «внутреннего врага» (скрытого и замаскированного, но тем более опасного), реконструкция логики формирования образа этого врага в сознании общества
Доклады и сообщения
также затрагивается в работах, посвященных истории Первой мировой войны21. Здесь в фокусе исследовательского внимания оказываются уже не только образы и представления, существовавшие в сознании общества, но и те социальные действия, которые совершали люди под влиянием этих представлений: доносы, погромы, разнообразные проявления «шпиономании». Вскрываются психологические механизмы того, как ярость по отношению к врагу, культивируемая пропагандой, превращалась в агрессию, перенесенную внутрь самого общества; как эта агрессия меняла свой объект, перекидываясь с «немца» на «изменников и шпионов», пока в конечном итоге острие конспирологических подозрений и разоблачений не обратилось против самой власти.
Психологическая инверсия по отношению к власти становится предметом анализа в работе Б.И. Колоницкого об образах императорской семьи в годы Первой мировой войны22. Чтобы воссоздать образы власти, бытовавшие в сознании подданных Российской империи, историк анализирует многочисленные слухи, циркулировавшие по стране во время войны, реконструируя их по материалам разнообразных источников: писем и дневников, материалов перлюстрации почтовой корреспонденции, сводок Департамента полиции, судебных дел об «оскорблении величества», политических памфлетов, карикатур и т. д. Слухи – в том числе и самые фантастические, «вздорные» – трактуются историком как вполне реальный фактор исторического процесса. Колоницкий показывает, что именно стремительно разраставшиеся слухи – о государственной измене в «верхах» и о супружеской измене императрицы – привели к подрыву авторитета власти, к десакрализации фигуры императора и сыграли роковую роль в судьбе монархии. Таким образом, используя подходы исторической имагологии и социальной психологии, исследователь вскрывает причины фиаско, которое потерпела официальная пропаганда: образы монарха и его семьи, тиражировавшиеся «сверху» с самыми благими намерениями, в силу ряда «репрезентационных ошибок» перетолковывались населением в негативном ключе.
Исследования по исторической имагологии убедительно доказывают, что «образы», «представления» и другие ментальные феномены могут сыграть значимую роль в политической борьбе и трансформации общества. Такие работы позволяют наглядно проследить изменения социально-психологической атмосферы в императорской России, диагностировать приближение и нарастание социального взрыва. Однако для распространения тех или иных образов, стереотипов, слухов необходима благоприятная
Доклады и сообщения
социальная среда. В этом отношении работы по исторической имагологии и исследования поведенческих практик различных социальных групп удачно дополняют друг друга, создавая стереоскопическую картину того, как охваченная войной страна шла к внутреннему кризису, как «линия фронта» постепенно смещалась внутрь самого общества, чтобы, в конце концов, расколоть его на «красных» и «белых».
Наконец, предметом изучения все чаще становится историческая память о Первой мировой войне в сознании российского общества ХХ века, а также феномен «забывания» этой войны, «вытеснения» ее из памяти в советский период. Впрочем, применительно к общественному сознанию невозможно говорить об абсолютном забвении. По словам О. Никоновой, «Первая мировая война так или иначе присутствовала в советской действительности: в одних областях (например, в официальном дискурсе) – в форме крайне упрощенных и реинтерпретированных в духе марксизма символов; в других сферах – в форме "подтекста", "скрытой информации", проявлявшейся в социальных и дискурсивных практиках и мировоззренческих установках»23. В частности, наблюдалась явная преемственность «образов врага» в Первой и во Второй мировой войне; образ «врага-Германии» стал «весьма устойчивым элементом национальной памяти, причем как на уровне массового обыденного сознания, так и в сфере художественного осмысления исторического опыта»24.
Таким образом, появившиеся в последние два десятилетия историкоантропологические исследования Первой мировой войны позволяют судить о масштабах воздействия этой войны на общественное сознание и социальную психологию. Из ее реалий выросли многие особенности общества ХХ века: практика массовых мобилизаций, массовой пропаганды и массового политического надзора; стереотипы восприятия «врага», в том числе «внутреннего»; привычка к насилию и опыт выживания в критических ситуациях. В социально-психологическом отношении Первая мировая война оказалась неоконченной, незавершенной; в силу исторического парадокса осмысление и «проработка» ее драматического опыта в коллективной памяти общества начались лишь в наши дни. И существенный вклад в эту социально значимую «работу над прошлым», безусловно, вносят труды историков, выполненные в русле историко-антропологической проблематики.
Список литературы Антропологический поворот в современной историографии Первой мировой войны
- Военно-исторический журнал. 2014. № 3, 12.
- Гергилева А.И. Военнопленные Первой мировой войны на территории Сибири: дис. … канд. ист. наук. Красноярск, 2007. 186 с.
- Голубев А.В., Поршнева О.С. Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых войн. М.: Новый хронограф, 2011. 392 с.
- Измозик В. «Черные кабинеты»: история российской перлюстрации. XVIII -начало ХХ века. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 693 с.
- Козенко Б.Д. Отечественная историография Первой мировой войны//Новая и новейшая история. 2001. № 3. С. 3-27.
- Колоницкий Б. «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 664 с.
- Лиферов А.П. Россия и Первая мировая война: Актуальность проблемы//Россия в Первой мировой войне: Тезисы межвузовской научной конференции, 4-5 октября 1994 г. Рязань, 1994. С. 3-5.
- Макаров А.И. Образ Другого как образ памяти (методологические аспекты проблемы репрезентации прошлого)//Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 18. М.: Издательство ЛКИ, 2007. С. 6-18.
- Нагорная О.С. «Век катастроф» в культурной памяти современного российского общества//Век памяти, память века: Опыт общения с прошлым в ХХ столетии. Челябинск: Изд-во «Каменный пояс», 2004. С. 232-233.
- Нагорная О.С. «Другой военный опыт»: российские военнопленные Первой мировой войны в Германии (1914-1922 гг.). М.: Новый хронограф, 2010. 440 с.
- Наземцева Е.Н. Гуманитарные проблемы Первой мировой войны в современной отечественной историографии//Великая война: сто лет. М.; СПб: Нестор-История, 2014. С. 135-157.
- Наземцева Е.Н. Первая мировая война в современной германской историографии: основные тенденции и направления//Военно-исторический журнал. 2014. № 9. С. 25-29.
- Орловски Д. Великая война и российская память//Россия и первая мировая война (Материалы международного научного коллоквиума). СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 49-51.
- Оськин М.В. Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы. М.: Вече, 2011. 432 с.
- Пахалюк К.А. Отражение героизма русских солдат и офицеров Первой мировой войны в мемуарной литературе советского периода//Великая война: сто лет. М.; СПб: Нестор-История, 2014. С. 206-236.
- Пахалюк К.А. Структура образа героев в российском общественном дискурсе в годы Первой мировой войны//Первая мировая война в истории и культуре России и Европы. Калининград: Живём, 2013. С. 305-314.
- Поршнева О.С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период Первой мировой войны, 1914-1918 гг.: дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2000. 359 с.
- Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты накануне и в годы Первой мировой войны. М.: РОССПЭН, 2004. 368 с.
- Поршнева О.С. Переосмысление исторического опыта взаимодействия со странами-союзниками как «переформатирование» исторической памяти накануне и в годы первой мировой войны//Славянские диалоги на границе Европы и Азии. Историческая память: время войны «национальных историй» или основа для диалога и взаимопонимания: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. с элементами научной школы для молодежи, 23-24 ноября 2012 г. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. С. 117-129.
- Репина Л.П. Ситуация в современной историографии: общественный запрос и научный ответ//Историческая наука сегодня. Теории, методы, перспективы. 2-е изд. М.: Издательство ЛКИ, 2011. С. 5-13.
- Сенявская Е.С. Противники России в войнах ХХ века: Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М.: РОССПЭН, 2006. 288 с.
- Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России. М.: РОССПЭН, 1999. 382 с.
- Суржикова Н.В. Военный плен в российской провинции: 1914-1922 гг.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2015. 45 с.
- Фуллер У. Внутренний враг: Шпиономания и закат императорской России. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 376 с.
- Холквист П. «Осведомление -это альфа и омега нашей работы»: Надзор за настроениями населения в годы большевистского режима и его общеевропейский контекст//Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2001. С.45-93.
- Шубина А.Н. Формирование «образа врага» и отношение к российским немцам в годы Первой мировой войны//Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2011. № 4. С. 119-131.
- Шубина А.Н. Отношение власти и общества к проблеме так называемого «немецкого засилья» в России в годы Первой мировой войны: дис. … канд. ист. наук. М., 2012. 346 с.