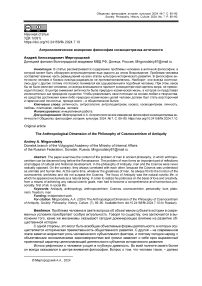Антропологическое измерение философии космоцентризма античности
Автор: Миргородский Андрей Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается содержание проблемы человека в античной философии, в которой может быть обнаружен антропоцентризм еще задолго до эпохи Возрождения. Проблема человека составляет важную часть размышлений на всех этапах культурно-исторического развития. В философии античности человек и Космос никогда радикально не противопоставлялись. Наоборот, они всегда соотносились друг с другом, потому что Космос понимался как одушевленный и подобный человеку. При этом, какое бы ни было величие человека, он всегда вписывался в горизонт космоцентричной картины мира, не превосходил Космос. В центре внимания античности была природно-космическая жизнь, в которой он представал исключительно как природное существо. Чтобы реализовать свои потенции на основе любви и творчества, из средства достижения каких-либо природно-космических целей человек должен был стать всесторонней и гармоничной личностью, прежде всего - в общественном бытии.
Античность, антропология, антропоцентризм, космос, космоцентризм, личность, любовь, платонизм, свобода, человек
Короткий адрес: https://sciup.org/149145578
IDR: 149145578 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24158/fik.2024.7.10
Текст научной статьи Антропологическое измерение философии космоцентризма античности
Введение . Проблема человека в свете вопроса об объективном субъекте истории в современных условиях приобретает особую актуальность. Говоря по существу, она заключается в выяснении того, какие же механизмы оказывают сегодня доминирующее влияние на развитие общественной истории.
С одной стороны, это могут быть всеобщие объективные формы деятельности, в которых осуществляется историческая преемственность общественного развития. С другой – на современном этапе заметно возрастает роль человеческого субъективного фактора, и поэтому сегодня наряду с объективными экономическими закономерностями всё громче заявляет о себе ярко выраженный проективный характер целеполагающей деятельности субъектов исторического развития.
Истоки рефлексии о человеке уходят в глубокую древность. Во всей полноте своего бытия он всегда оказывался в центре внимания философии. Вопрос о том, что человек такое, – далеко
не праздный, возникший еще до появления философии и всех наук, поэтому является таким важным и фундаментальным.
В мифологических и религиозных системах, в различных священных текстах и преданиях древних народов уже существовала своя оригинальная антропология. Это отмечается в современных отечественных философских исследованиях античной эпохи (Звиревич, 2024), исследуется также возникновение и начало антропологической проблематики (Драч, 2003). Кроме того, учеными анализируется типология концепций человека. В частности, по В.Т. Звиревичу, существуют 4 фундаментальных типа антропологии, которые различаются в зависимости от методологических предпосылок толкования человека, – мифологический, религиозный, натурфилософский и социокультурный1.
В настоящей работе мы придерживаемся методологического требования – видеть в каждой концепции уникальный феномен как рациональное зерно решения проблемы человека. В ходе исследования нами применялись как общетеоретические методы (описание, анализ, дедукция), так и частно-философские, связанные с рассмотрением концептуальных основ представлений античности об антропологичности бытия.
В публикациях зарубежных авторов по исследуемой теме также в основном исследуются истоки антропологической проблематики (Gernet, 1968), прослеживается взаимосвязь человека и Бога, а точнее сказать – человека и богов в рамках космологии (Pepin, 1971).
Но традиционной остается точка зрения, согласно которой именно Сократ и софисты – одни из первых, кто совершил антропологический переворот в философии. Сократ непосредственно обращался к внутренней жизни человека, делая акцент на получении знания как первейшей добродетели. Но все-таки антропологическому повороту в философии мы должны быть обязанными больше софистам. Протагор оценивал человека как меру всех вещей, что стало одним из основных мировоззренческих и методологических принципов науки и философии. Глядя поверхностно на античную философию, можно сказать, что в Универсуме философия рефлексирует над человеком, в котором и обнаруживается сама Вселенная. Эти антропологические идеи явственно проявляются в древнегреческой философии, то есть задолго до эпохи Возрождения, в учениях которой безоговорочным основным принципом размышлений стал антропоцентризм. В дальнейшем своем развитии философская наука будет устремлена на решение уже непосредственно человеческих проблем.
Результаты . Как известно, досократики как представители ранней греческой философии, занимаясь натурфилософией и космологией, понимали человека как составную часть бытия универсальной Вселенной. Но это поверхностное понимание. Понятие «Космос» у древних греков первоначально имело антропологический смысл: оно обозначало порядок в государственной общности. Пифагор и Плутарх считают, что впервые его применили представители милетской школы, которые рассматривали Вселенную «по образу и подобию» правового общества. Таким образом, божественно-космический порядок, имевший для древних греков главенствующее значение, представлял собой своеобразную проекцию законов человеческой жизни.
Итак, именно древние греки создали свою подлинную антропологию. Все цели их цивилизации были направлены на реализацию гуманистических идеалов (и это задолго до эпохи Возрождения), на то, чтобы возвысить человека над природой, укрепляя его положение в обществе, утверждая подлинную сущность человека, его достоинство и благо (Григорьян, 1969: 10–11).
Важно отметить, что корни философии заложены в самой потребности человека, то есть философия родилась из бескорыстной любви к мудрости. Человек всегда сохранит желание и способность что-то открывать и чему-то удивляться. Поэтому философия – это первично любовь к чему-то новому. Любовь в этом случае выступает конститутивным принципом человека, поэтому большой материал в осмыслении проблемы человека дает философия любви античного периода. В ней он показывается исключительно с лучшей стороны, таким, каков есть на самом деле. Сущностью человека выступает его творческая деятельность, которая лучше всего проявляется в труде и любви. Труд дисциплинирует человека, любовь же придает творческий смысл его бытию.
Почти все древние считали, что любовь – это достижение бессмертия. Первоначально она отождествлялась с влечением и желанием. Об этом свидетельствуют тексты древних египтян (любовь Эхнатона к Нефертити), шумеров, аккадийцев, древнеиндийского эпоса (Рама и Сита). В эпоху великих учителей Востока (Лао-цзы, Конфуций, школа моизма) формулируется золотое правило нравственности – «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы они поступали с тобой»), а также принцип гуманности.
Первые концепции человека носили строго космологический характер (Пифагор, Гераклит, Эмпедокла), в которых на первый план выносились четыре первоначала (огонь, земля, воздух, вода). К примеру, у Эмпедокла (V век до н. э.) все в этом мире создается с помощью двух космических сил – Любви и Вражды (Ненависти), которые подчиняют себе все вещи и элементы мира. Изначально в Космосе первенствует Любовь, которая со временем заменяется враждой, что приводит Вселенную к хаосу. Но в конце концов состояние «войны всех против всех» должно смениться миром и гармонией, а значит, и порядком (Космосом). Космос представляет собой упорядоченную гармонию всех элементов. У пифагорейцев он вообще одухотворен. Другие мыслители, скажем, Анаксагор и Диоген Аполлонийский говорят о явлении всемирного духа, который организует всю материю. Этот дух можно отразить в центральном понятии всей древнегреческой философии – Логосе. При этом Б.Т. Григорьян считает главной отличительной чертой античной философии гармоничное соединение принципов космологизма, антпропологизма и природоцентризма: «Все кос-мично, природно и божественно, но вместе с тем все человечно» (Григорьян, 1969: 12).
На основании вышеизложенного следует сказать, что человек в античные времена уже являлся не просто составной частью Космоса как объективного бытия, а существом вполне автономным и творческим. Уже в VII–VI вв. до н.э. антропоморфизм латентно присутствовал в древнегреческой религии и мифологии.
Как известно, в античности господствовали принципы гармонии души и тела, красоты и добра (калокагатия), любви к знанию (филоматейа). Пример сострадательного отношения к людям являет древнегреческий эпос Гомера. Например, любовь проявляется в трогательном расставании Гектора с женой Андромахой, в мольбах о встрече с Гектором Приама к Ахиллу («Или-ада»1). Гуманизм «Одиссеи» ярко выражен в верной любви, которую проявила Пенелопа, «ставшая наградой» Одиссею за его героические странствования2. Все ж, нужно отметить, что гомеровский или гесиодовский эпос еще не отражал веры в полнокровные возможности человека. Он призывал вернуться назад, к золотому веку, видел в нем общественный идеал, поэтому эту литературу тоже следует трактовать как космоцентричную по своей сути.
Классическая трагедия Эсхила, Софокла, Еврипида изображает также трагическую любовь. В драмах Эсхила восхищает благородный образ Прометея, принесшего людям на землю огонь, превращение эринний в богинь Эвменид, которые милуют Ореста, отомстившего за отца Агамемнона. Кстати, Прометей Эсхила, персонифицируя человеческую способность строить и изобретать, намного более близок людям, чем олимпийские боги. Он не только принес огонь, а научил людей строить дома и корабли, письму и счету, медицине, астрономии, медицине, искусству горного дела. Человек сам становится творцом своего жизненного пути, а вместе с этим – и субъектом исторического процесса.
В драмах Софокла звучит христианский мотив любви-самопожертвования, когда Антигона (дочь царя Эдипа) действует во имя любви к своему брату. В произведениях Еврипида наличествует страстная любовь, переходящая в ненависть (Федра и Ипполит, Медея и Ясон, Клитемнестра и Агамемнон).
Тему продолжают древнегреческие любовные романы. Например, в буколическом романе Лонга «Дафнис и Хлоя»3 описывается идиллическая любовь. Гелиодор воспевает любовную верность в вынужденной разлуке Хариклеи и Теагена.
В целом, в «золотом веке» (I век до н.э.) римской литературы утверждался постулат «Omnium procedit ex amore» – «Все происходит от любви». О ней писали Вергилий (пастушеские песни), Гораций, Овидий, у которого чувственная любовь «Любовных элегий»4 сменяется духовной любовью в книгах «Метаморфозы», где утверждается мысль, что любовь – единство крайних противоположностей. В римской лирике, как и в греческой, центр жизни – любовь, а не битвы.
Необходимо отметить главный тезис, что с обособлением личности от общества углубляется чувство любви, эмотивная сфера людей усложняется (Рюриков, 1990: 30). Любимый человек кажется особенным и неповторимым. Например, в отношениях Овидия и Коринны проявился мотив верности – главный признак индивидуальной любви, нескончаемости этого чувства. В «серебряный век» римской литературы (Петроний, Марциал, Ювенал, Апулей, Тацит) наиболее яркими представляются образы Психеи и Амура (Купидона).
Для более глубокого понимания проблемы обратимся к творчеству великого Платона. В целом, его учение – высшая точка развития античной философии любви. Оно послужило основанием для интерпретации этого чувства и в русской традиции Серебряного века. Платоническая любовь – любовь к идеальному вечному миру добра, истины и красоты. Согласно мнению философа, «люди совершенно не сознают истинной мощи любви; если бы сознавали, то воздвигали бы ей величайшие храмы, приносили жертвы»5.
Говоря о диалогах Платона, следует сказать, что они стояли на защите любви-дружбы, которая должна принести людям взаимную пользу в личностном общении, а не в мимолетном удовольствии1.
В платоновской философии акцентируется внимание прежде всего на субординации в любви, на иерархизации отношений между (полами) индивидами, на соподчинительной связи между ними2.
Нужно отметить, что божественная природа для философа имеет яркие языческие особенности, ведь «всюду неистово управляют языческие боги». Главным из них для Платона становится Эрот. При формировании своей концепции человека и любви философ использует древний миф о сотворении мира поэта Гесиода, согласно которому сначала возникает Хаос, а потом Гея вместе с Эротом3. В олимпийской мифологии Эрос – сын Афродиты и Ареса, а в «Пире» – Пороса и Пении. При этом он как бы пантеистически разлит во всем сущем4. Эрот в «Пире» есть «нечто среднее между бессмертным богом и смертным человеком, он великий гений, благодаря которому во Вселенной поддерживается внутренняя связь»5.
Главным толкователем Платона стал видный мыслитель В.С. Соловьев. Он считал, что философ должен был сделать вывод о том, что ключевая «эротическая задача состоит в сообщении бессмертия той части нашей природы (материальной), которая сама по себе его не имеет, которая обычно поглощается материальным потоком рождения и умирания» (Соловьев, 1991: 198). Конечно, в этом смысле христианский мистик В.С. Соловьев не учел тот момент, что идеализм Платона все равно оставался в тисках космоцентризма. По его мнению, разумная (высшая) бессмертная душа находится с низшей душой всегда в состоянии борьбы. Это может быть связано с гендерной принадлежностью: мужской пол происходит от Солнца, женский – от Земли, а Луна совмещает в себе оба начала6. У В.С. Соловьева наблюдается нечто подобное: женщина как пассивная индивидуальность является материей, а мужчина – проводник божественной силы – существо активное. Согласно Платону, мы достигнем вечных идей и сущностей тогда, когда найдем соответствующий себе предмет половой любви, потому что «Эрот – это всегда предмет, в котором испытываешь нужду»7.
Таким образом, на человека от рождения накладывается бремя, разрешение от которого находится в «соитии мужчины и женщины», потому что «зачатие и рождение – проявление бессмертного начала в существе смертном»8. Именно так поддерживается способность оставлять новое вместо старого, продуцируя его. При этом платоновский Эрос устремлен к бессмертию, а источником развития и движения вперед является как раз не высшая, а низшая душа, которая, не имея сознания, только догадывается о своих желаниях.
Очень похожи пути достижения любви у Платона и В.С. Соловьева как процесс восхождения к идеальной субстанции. Древнегреческий философ представляет этот путь, ведущий от материального к идеальному, сущность которого состоит в том, чтобы устремиться к прекрасным телам и душам, «получив море красоты»9. Платон говорит о таком постижении действительности, проявляющемся в надобности в правильном порядке созерцать прекрасное – от физических тел к нравам и учениям, которые означают выход к любовной мудрости. В конечном счете выходит чистая вечная идея – созерцание прекрасного самого по себе и торжество наслаждения красотой.
Итак, для Платона любовь – прежде всего рождение в красоте, которое одновременно есть стремление к бессмертию через творчество10. В этой связи интересные мысли А.Ф. Лосева – лучшего отечественного интерпретатора античной мысли – передает В.Д. Губин: «Любящий всегда гениален, так как открывает в предмете своей любви то, что скрыто от всякого нелюбящего. Творец в любой области, в личных отношениях, в науке, искусстве всегда есть любящий» (Губин, 1990: 241).
В древнегреческой философии эрос и дружба порой могли находится в противоположных отношениях. Например, Аристотель видел в последней не удовольствие, а пользу и человеческое достоинство. Согласно философу, цель человека – счастье (эвдемония), поэтому на первый план им выносится возвышенная дружба, в которой осуществляется равенство.
Нейтральный взгляд на явление любви мы встречаем прежде всего в стоицизме и, как ни странно, в эпикуреизме. Обе школы дают очень схожее толкование этого феномена, потому что самое главное для них – человек, его потребности, абсолютная независимость, а далее – уже счастье, блаженство и удовольствие.
Эпикур, Лукреций Кар считали, что необходимо воспитывать в себе аскезу через воздержание, смирение, скромность, нужно грамотно контролировать процесс получения чувственных удовольствий, «будь то от любви или еды», «созерцая красоту умеренно».
У стоиков встречается даже любовь к судьбе и року, при этом Сенека рассуждал о любви как о совершенной форме дружбы. Идеалы стоической этики разделял и Цицерон. Вопросы семьи и брака рассмотрены в трактате Плутарха (1–2 век н. э.) «Наставление супругам»1, где делается вывод, что брак – подлинное пристанище любви, в которой физическое единство ведет к высокой дружбе.
Любовь у стоиков бесстрастна, безмятежна, опирается на идеал атараксии, которая достигается не сразу, а в результате «умного постижения» реальности. Для этого человеку нужно научиться владеть собой, быть спокойным, опираясь не на чувства, а на голый разум и невозмутимость ясности сознания. Только пройдя сложный аскетический путь, человек достигнет счастья.
В триаде Плотина «единое – ум – душа» первоисточник истины находится в дружеских чувствах к высшему божественному началу. Это стремление к гармонии с Богом и стремление природы к порядку и Благу. Плотская любовь и голая чувственность – лишь начало пути. Любовь – вечное стремление к высшей красоте, непосредственное созерцание божественной красоты, одна из высших форм материи, бесконечная небесная эманация Души, тоскующей о Благе. Итак, в платонизме любовь – лестница, ведущая к бессмертию. Это тяготение к «божественному лучу», к духу, который вдохнул в человека Бог.
Заключение . Таким образом, в античной философской мысли проблема человека является магистральной. Важно отметить, что сообразно с принципами космоцентризма на первом плане философско-антропологических построений рассматриваемой эпохи остается порядок, а не хаос, этика и нравственность, а не эстетика. Присутствует сугубо рационалистический и даже прагматический подход к этическим проблемам. Чтобы вести себя нравственно, необходимо соблюдать принцип меры. Умеренность – главная этическая ценность и добродетель в философии космоцентризма. Вместе с тем человек, а не Космос является подлинным созидателем культуры. Она выводит его из первобытного существования, укрепляет веру в собственные возможности, утверждает, а не отрицает человека. Проще говоря, культура является тем индикатором, который отличает его от животного. Только благодаря культуре человек становится настоящим человеком. Да, сравнение с высшими силами сделало в какой-то мере его зависимым от них, но и возвеличило одновременно.
Если раньше, создавая культурные блага, человек склонен был приписывать своим знаниями и способностям мифическое происхождение, то в современных условиях, благодаря освоенным ремеслам и искусствам, он начал новую, подлинно человеческую жизнь.
При этом, на наш взгляд, цель и смысл личности индивида связаны прежде всего с жизнью и потребностями конкретного социума, в котором он живет и трудится. Но это отнюдь не снимает с человека ответственности перед будущими поколениями. Такое отношение к Универсуму должно определить смысл развития человечества и его истории. Это положение марксистской философии, которое способно разрешить проблему человека в современных условиях. Поэтому важно отметить тот факт, который ярко показывает Т.Э. Рагозина, что в истории философии идет последовательная смена мировоззренческих доминант, которую можно представить в виде схемы: космоцентризм – теоцентризм – антропоцентризм (Рагозина, 2021: 37). Это означает, что в новых условиях нужно опираться не на абстрактный абсолют (Бога) либо безликий Космос, а на потребности конкретного Человека.
Список литературы Антропологическое измерение философии космоцентризма античности
- Григорьян Б.Т. На путях философского познания человека // Проблема человека в современной философии. М., 1969. С. 5-70.
- Губин В.Д. Любовь, творчество и мысль сердца // Философия любви. М., 1990. Ч. 1. С. 231-253.
- Драч Г.В. Рождение античной философии и начало антропологической проблематики. М., 2003. 315 с.
- Звиревич В.Т. Античная антропология. М., 2024. 263 с.
- Рагозина Т.Э. Человек как предмет философской рефлексии // Философия и культура в гуманитарном дискурсе. Воронеж, 2021. С. 35-45.
- Рюриков Ю.Б. Детство человеческой любви // Философия любви. М., 1990. Ч. 1. С. 11-35.
- Соловьев В.С. Жизненная драма Платона // Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 161-211.
- Gernet L. Anthropologie de la Grece antique. P., 1968. 455 p. (на фр. яз.).
- Pepin J. Idees grecques sur l'homme et sur Dieu. P., 1971. 402 p. (на фр. яз.).