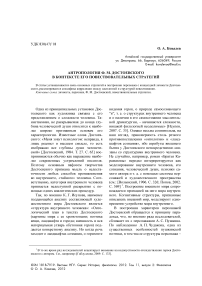Антропология Ф. М. Достоевского в контексте его повествовательных стратегий
Автор: Ковалев Олег Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье устанавливается связь основных стратегий в построении персонажа с концепцией личности Достоевского, рассматривается специфика корреляции между идеологией и структурой повествования.
Личность, персонаж, ф. м. достоевский, повествовательные стратегии
Короткий адрес: https://sciup.org/14737736
IDR: 14737736 | УДК: 830(47)'18
Текст научной статьи Антропология Ф. М. Достоевского в контексте его повествовательных стратегий
Одна из принципиальных установок Достоевского как художника связана с его представлением о сложности человека. Таинственная, не раскрываемая до конца глубина человеческой души относится к наиболее широко признанным основам его характерологии. Известные слова Достоевского: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой» [Достоевский, 1984. Т. 27. С. 65] воспринимаются обычно как выражение наиболее сокровенных устремлений писателя. Поэтому основным пафосом творчества Достоевского признана мысль о недостаточности любых способов проникновения во внутреннего, «тайного» человека. Соответственно, категория внутреннего человека признается недоступной раскрытию с помощью одних аналитических процедур.
Так, по мнению К. Г. Исупова, наименее поддающейся анализу составляющей художественного мира Достоевского является «структура внутреннего человека»: «Онтологический план в текстах Достоевского (картины мира с ее хронотопами; поэтика вещи, ландшафта и города; внешность и вся материальная утварь обстояния героя) поддается конкретному анализу. Но когда речь заходит о ландшафтах сознания, о горизонте видения героя, о природе самосознающего “я”, т. е. о структурах внутреннего человека и о наличии в его самосознании мыслительной драматургии, – начинаются сложности, никакой филологией неодолимые» [Исупов, 2007. С. 35]. Однако весьма сомнительна, на наш взгляд, правомерность столь резкого противопоставления «онтологии» и «ландшафтов сознания», ибо атрибуты внешнего бытия у Достоевского непосредственно связаны со структурами внутреннего человека. Не случайно, например, роман «Братья Карамазовы» нередко интерпретируется как моделирование внутреннего человека, его сознания, человеческой души, психики самого автора и т. д. с помощью системы персонажей и художественного пространства (см.: [Волынский, 1906. С. 326; Попов, 2002. С. 369] 1. Построение внешнего мира сопровождается проекцией на него мира внутреннего. Когнитивные структуры, призванные описывать внешний мир, моделируют одновременно устройство мира внутреннего.
В построении характеров персонажей Достоевский обращается к принципу парадокса, что, по мнению ряда исследователей, сближает их с персонажами А. С. Пушкина. По наблюдению А. П. Чудакова, одна из существенных особенностей пушкинской поэтики, в том числе структуры персонажа –
«отдельностность» разных проявлений целого, когда персонаж не складывается из его составляющих по принципу «характер – отдельные проявления» и эпизоды сохраняют свою самостоятельность с точки зрения целого [1992. С. 207]. Парадоксальность пушкинской поэтики отмечает также В. Шмид: в персонажах Пушкина есть противоречие между потенцией и актом, предрасположенностью героя и его поведением [2001. С. 136]. Именно пушкинские характеры, как полагает В. Шмид, вдохновили Достоевского на создание «парадоксов души» [Там же. С. 137]. Пушкин подсказал Достоевскому некоторые формы изображения парадоксальности, хотя сами истоки его подхода к человеку – идейные (например, представление о непостижимой глубине человека) и психологические (убеждение в несоответствии «я-для-других» и внутреннего человека) – были иными.
Основная форма парадоксальности персонажа у Достоевского – непредсказуемые поведенческие реакции, часто неожиданные для самого человека. Результатом являются различные случаи несоответствия между описанием героя как характера и конкретными поступками, нарушающими эти определения. Данный принцип проявляется в некие ударные, акцентированные моменты, на которых благодаря организующим восприятие приемам воздействия сосредоточивается внимание читателя. В то же время персонажи второстепенные часто остаются в рамках достаточно четко очерченных контуров.
Идейным коррелятом приема парадокса является характерная для Достоевского тема человеческой «широты». Как справедливо отметила Н. Д. Арутюнова, стремление совмещать в пределах одного характера противоположные черты имеет прямые выходы на картину мира писателя и его представление о человеке [2005. С. 12–13]. Данная тема имеет в творчестве Достоевского разные аспекты. По всей видимости, для писателя было характерно амбивалентное отношение к широте, и в этой точке пересекались его философская антропология, отношение к себе и художественный язык, используемый при моделировании персонажа. Формула Дмитрия Карамазова «широк человек, я бы его сузил» свидетельствует о проблемном характере широты для писателя. И хотя отношение Достоевского к упрощению и вы- прямлению человека часто имеет негативный характер, его художественный язык как способ ведения разговора о человеке содержит выраженную установку на упрощение.
В свое время Г. М. Фридлендер акцентировал внимание на двойственной, с точки зрения Достоевского, природе человека. И в этом представлении отразились стратегии самопостроения писателя. Практически, двойственность предполагала необходимость подавления своего второго «я», темной стороны собственной личности [1964. С. 250–251]. По мнению В. Белопольского, двойственность современного интеллигента Достоевский связывал с борьбой в нем родового и индивидуалистического начал [1987. С. 42]. Дж. Сканлан связывал двойственность героев Достоевского с христианским представлением о человеке (бессмертная душа и смертное тело), согласно которому человек принадлежит двум мирам одновременно [2006. С. 17]. Несколько иная интерпретация характерологии Достоевского была предложена Н. Д. Арутюновой. По ее мнению, ключом к пониманию персонажей Достоевского является принцип двуконечности, выразившийся в образе «палки о двух концах» и связанной с ним возможностью двоякого истолкования одних и тех же поступков. Данное представление, как полагает исследовательница, является одним из центральных в идейной системе Достоевского, а представление о двойственности человеческой натуры почти буквально преломляется в структуре образа [2005. С. 13].
Отталкиваясь от представления о раздвоенности человека, Достоевский стремится преодолеть раскол и восстановить целостность. Как справедливо отмечает А. В. Зло-чевская, психологическая задача Достоевского заключалась в том, чтобы, пройдя сквозь хаос разных проявлений человека, найти глубинное ядро его личности [1983. С. 22]. В рассуждениях Достоевского об искусстве данная интенция проявилась в отнесении потребности в идеале к наиболее фундаментальным свойствам человека.
Борьба с индивидуализмом означала необходимость ограничения своеволия индивидуума перед лицом коллектива. Но поиск оптимального социального устройства был связан у Достоевского с попытками внутренней самоорганизации. Характерно, что аргументы против социализма у него – это аргументы внутреннего характера (с позиции неограниченного индивидуального своеволия). Социализм не может предложить реальных путей обуздания своего «я» кроме «инквизиции», т. е. обмана, прямого подавления и страха. И только христианство дает путь для самоконтроля, основанный на добровольном самоограничении.
Мнения о психологических истоках антропологии Достоевского высказывались неоднократно. В свое время чешский философ Т. Г. Масарик указал на важнейший, быть может, исток большинства произведений Достоевского – признание собственной слабости и своей «части всеобщей вины», поиск любви как спасения и покаяния, отношение к любви как способу преодоления одиночества и изолированности индивидуума. Любовь и обособление, по мысли Т. Г. Масарика, выступают как две противоположности и в творчестве, и в идеологии Достоевского [2007. С. 202–203]. Еще ранее Б. М. Энгельгардт писал о том, что Достоевский «выстрадал» мысль об оторванности интеллигенции от народа. Основой этой мысли «было не славянофильское разочарование в западной культуре и не полемические настроения: для него это была истина, добытая в тяжком опыте, дорого оплаченная муками полнейшей отъединенности на каторге и в последующие годы пребывания в сибирском захолустье простым рядовым» [1995. С. 280].
Идеи интересовали Достоевского преимущественно в антропологическом аспекте – с точки зрения условий их возникновения и воздействия на личность. Поэтому писатель невольно раскрывает психологические основы собственных убеждений – как идеи бессмертия, так и представления о всеединстве. Показателен случай, на который указывает А. Ю. Колпаков – психологическая основа размышления о Н. А. Некрасове в «Дневнике писателя» за 1877 г. [2009. С. 217]. Отмечая, что любовь образованного человека к народу соседствует с непреодолимым стремлением к самовозвышению, писатель тем самым констатирует соединение того и другого в себе самом.
Но писатель жил в эпоху интенсивной социальной динамики, когда разрыв и непонимание между поколениями становились серьезной культурной проблемой. И потому так важна была для него задача сделать опыт своей жизни доступным новому поко- лению. Не удивительно, что современные радикальные увлечения Достоевский не рассматривал как явление чужеродное по отношению к своему опыту. Так как концепция человека у Достоевского во многом имеет полемический характер, его поэтическая структура образов в основе своей диалогична. Многие герои Достоевского напоминают персонифицированные реплики из спора. Например, в изображении персонажей-теоретиков, одним из которых является Раскольников, присутствует установка на антитеоретизм – характерная для писателя форма критики рационализма. При этом позиция спорщика тем категоричнее, чем в большей степени автор ведет спор с самим собой, или, точнее, чем больше его позиция опирается на индивидуальный опыт изживания какого-либо качества, которое и привело его к возникновению определенных идей, концепций и т. д. В 1870-е гг. писатель рассматривал отвлеченность как атрибут русской культуры послепетровской эпохи и русской интеллигенции в целом, а следовательно, и как свою собственную характеристику. Мысль об оторванности русской интеллигенции от народа (почвы) очень многое определила не только в его представлении о современной России, но и в художественном творчестве. И если позицию Достоевского отличает последовательный антитеоретизм, то это значит, что она была сформирована в борьбе со своей противоположностью – отвлеченностью и мечтательностью. Иначе говоря, когда Достоевский бичует теоретиков, он борется со своими внутренними демонами.
С точки зрения социальной психологии решающее значение в процессе формирования доминантных установок имеют ранние впечатления. Человеку всю жизнь приходится бороться с теми силами, которые он нашел в мире в период формирования своей личности, и прежде всего – ревизовать наивную картину мира, сложившуюся в его юности. По мнению К. Мангейма, именно так формируются определенные «точки отталкивания», которые определяют развитие сознания человека в последующие годы [1998. С. 25]. В случае Достоевского эта закономерность очевидна. Картина мира, сформировавшаяся у него в 1840-е гг., стала своеобразной точкой отталкивания, а мировоззренческий переворот, произошедший на каторге, определил систему ценностей и нравственных ориентиров, последовательно отстаивавшихся писателем в дальнейшем.
Груз идей, верований, увлечений, амбиций, который обрушился на Достоевского в начале его карьеры, описан достаточно полно и известен очень хорошо. Именно это наследство Достоевский должен был воспринимать позднее как преодоленное прошлое. Время, проведенное в Сибири, нанесло писателю тяжелую психологическую травму, однако, как справедливо отмечает Л. М. Лотман, все последующие годы прошли под знаком тех идей и проблем, которые вызревали на каторге [1972. С. 129]. На момент завершения каторжного периода писателю было 33 года, что вряд ли могло не быть значимой для него деталью. Не случайно водораздел, по мнению Р. Л. Джексона, в творчестве Достоевского, образуют «Записки из Мертвого дома», а возвращение его с каторги воспринималось писателем как возрождение к новой жизни [1998. С. 128]. Р. Л. Джексон предложил аллегорическое толкование смерти Горянчикова как выражение личного кризиса Достоевского – перерождения его убеждений на каторге. При этом смерть персонажа, по мнению исследователя, символизировала освобождение от старого и рождение в ином качестве самого автора [Там же. С. 41].
По сути, мы имеем дело с двумя Достоевскими. И один из них ревизует другого, стараясь преодолеть его отвлеченность, кабинетность, мечтательность, амбициозность, честолюбие и замкнутость. Художественная реальность, являясь формой самопострое-ния, представляет собой аксиологизацию внутреннего поля личности. В качестве особенности, сближающей Достоевского с Гоголем, К. А. Степанян отмечает персонификацию и опредмечивание тех проявлений своего «я», от которых Достоевский стремился избавиться [2005. С. 62]. По сути, это был способ ценностной символической градации личностного поля с помощью отдельных составляющих художественного мира и художественной структуры – рассказчиков, системы персонажей и т. д., отражающей не столько психику как таковую, сколько работу автора над собой.
Пересказывая основные события жизни Достоевского, Т. Г. Масарик акцентировал внимание на авторской символизации событийной канвы собственной жизни (названием книги «Записки из Мертвого дома» писа- тель дал основание говорить о мифологизации сюжета своей жизни) – символической смерти, пребывании в потустороннем мире и приобщении, вследствие этого, к сакральной, метафизической истине о России и человеке, возрождении и обновлении [2007. С. 201].
Одной из точек отталкивания был для Достоевского детерминистский подход к человеку. В определенном смысле все его творчество питалось протестом против стремления определить человека извне (т. е. детерминировать его), характеризующего современную литературу и ту антропологию, на которой она базировалась. Но отношение Достоевского к детерминизму в понимании человека не являлось однозначным. Для писателя было характерно, с одной стороны, стремление отстоять свободу личности перед лицом любых внешних обстоятельств, а главное – перед ограничивающим взглядом другого, с другой – использование при создании конкретных персонажей художественной техники фиксации героя в определенных границах. Это создало один из наиболее устойчивых внутренних конфликтов в художественном мире Достоевского. При этом протест против детерминизма выражался в отталкивании от чужого стиля и связанного с ним эстетически определяющего взгляда извне на человека, поскольку построение эстетического образа – это во многом проявление чужой активности и чужого самоутверждения, а точнее, результат моделирования взгляда другого.
Отношение к художественному творчеству (прежде всего неприятие утилитарного подхода к искусству) и протест против стремления «вычислить» человека свидетельствуют о культе свободы. Но не менее важна для писателя другая тенденция – установка на ограничение свободы, имеющая не только идеологические, но и психологические источники. Целое образуется за счет добровольного самоограничения отдельных элементов (индивидуумов) и подавления индивидуализма. Правда, в подавлении нуждается лишь представитель образованного сословия, так как народ сохраняет в себе способность самопроизвольно восстанавливать единство. Это самопо-давление основано на отношениях любви и потребности индивидуума в «другом» – его признании, оценке, благодаря которым це- лое оказывается способно воспроизводить себя.
THE PERSONALITY CONCEPT OF DOSTOEVSKY IN THE CONTEXT OF HIS NARRATIVE STRATEGIES