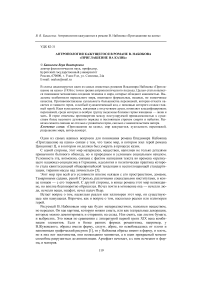Антропология кажущегося в романе В. Набокова "Приглашение на казнь"
Автор: Башкеева Вера Викторовна
Рубрика: Художественный текст как объект филологического исследования
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется один из самых известных романов Владимира Набокова «Приглашение на казнь» (1936) с точки зрения антропологического подхода. Целью статьи является понимание механизмов создания человека и мира, которые обладают кажимостью. Выделены особенности нереального мира, имеющего формальные, вещные, но изменчивые качества. Противопоставлены кукольность большинства персонажей, которая отчасти касается и главного героя, и особый художественный код, с помощью которого создан главный герой. Идея кукольности, связанная с отсутствием души, позволяет классифицировать персонажей, среди которых в особую группу выделены близкие герою женщины - жена и мать. В герое отмечены противоречия между постулируемой принадлежностью к существам более высокого духовного порядка и постоянным страхом смерти и небытия. Развязка сюжета связана не столько с развитием героя, сколько с вмешательством автора.
"приглашение на казнь", мир кажущегося, кукольность персонажей, разрушение мира, автор-демиург
Короткий адрес: https://sciup.org/148316556
IDR: 148316556 | УДК: 82-31
Текст научной статьи Антропология кажущегося в романе В. Набокова "Приглашение на казнь"
Один из самых важных вопросов для понимания романа Владимира Набокова «Приглашение на казнь» связан с тем, что такое мир, в котором жил герой романа Цинциннат Ц. и в котором он должен был умереть в процессе казни.
С одной стороны, этот мир материален, веществен, наполнен не только деталями привычного бытового обихода, но и природным и условным социальным началом. Условность эта, возможно, связана с фактом написания текста во времена «крепнущего национал-социализма в Германии, идеология и политическая практика которого стала квинтэссенцией общеевропейской тенденции к всепоглощающей стандартизации, тирании массы над личностью» [5].
Этот мир при всей его условности вполне осязаем с его пространством, домами, Тамариными садами, рекой Стропью, различными социальными институтами, в конце концов — с его тюрьмой. С другой стороны, в конце романа этот мир неожиданно, но вполне бесповоротно обрушился. Исчез почти в мгновение ока — исчезли люди, исчезли вещи, эшафот, исчез палач Пьер.
Встает вопрос о том, насколько реален или иллюзорен этот мир, он существующее или кажущееся. Впрочем, как и вопрос о том, насколько реален или иллюзорен герой.
Рисуемый В. Набоковым мир как будто материалистичен, наполнен веществом, но нереален. Он как картина, которую можно смыть, или как театральные декорации, которые можно демонтировать и отправить на склад. Или смять, как листок бумаги, и выбросить. Это новая по сравнению с литературой первой трети XIX века комбинация элементов. Если в более ранних формах романтизма, например, у В.Жуковского, образы имели форму, силуэт, абрис, но освобождались от плоти и напоминали графический рисунок [1], то у Набокова образы имеют и форму, и плоть, но в них нет постоянства, они неожиданно меняются, а в один прекрасный момент способны разрушиться до аннигиляции. Артефакт исчезает, а с ним исчезают и форма, и материя.
Изменчивость субъектов, когда директор тюрьмы Родриг Иванович превращается в служителя тюрьмы Родиона или в тюремного врача, а адвокат Роман — в помощника палача, указывает, конечно же, на непостоянство внутреннего мира персонажей или на отсутствие такового.
Антропология человека и мира у В.Набокова отчасти напоминает модель Гоголя, писателя, чтимого автором ХХ века1. У классика значим конфликт между живым и мертвым, причем и потенциально оживающие души, и «мертвые души» показаны как физиологически и субъектно существующие. Главный герой Чичиков относится к первому типу. Приблизительно та же модель у В. Набокова, когда главный герой отличается от остальных персонажей, набоковских «мертвых душ». Более того, он им противопоставлен, в согласии с традициями любого романтизма, как иная, более высокая сущность. Присущая романтикам противопоставленность героя миру достигает у В. Набокова своеобразного апогея — мир настолько безобразен, что его надо уничтожить; герой настолько хорош, что он способен встретиться с подобными ему персонажами. Как субъект Цинциннат личностен и постоянен, хотя и противоречив, другие персонажи изменчивы, низменны, пошловаты, кукольны. Впрочем, элементом кукольности отмечен и главный герой, тело которого возможно разложить на части, снять, как части одежды: «Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух» [7, с. 18].
Кукольность персонажей означает присутствие двух моментов: наличие тела и отсутствие души, а также механистичность, приведение в движение творческим воображением кукловода, в данном случае автора. Автор уже не раз ставил «под сомнение само бытие». Автор у Набокова претендует на то, чтобы быть демиургом, ибо он ответствен не только за движение сюжета и последующие действия персонажей, но и за существование или разрушение этого мира.
Отсутствие души в зависимости от того, что более важно для автора в персонаже — постоянство внутреннего мира или гуманистический фактор, — приводит к тому, что персонажи делятся на две группы. К первой и более многочисленной относятся те персонажи, которые изменчивы, двуличны в прямом смысле этого слова — два и более лиц у них, либо механистичны в своих проявлениях. Таковы представители социума — директор тюрьмы, адвокат, тюремный врач и другие субъекты из социального окружения; таковы родственники Цинцинната по жене, красноречиво показанные в сцене посещения осужденного. Ко второй, немногочисленной, группе относятся жена Марфинька и мать, наиболее близкие герою и в то же время приносящие ему больше всего душевной боли персонажи. В первой усилены физиологичность, женская ветреность, безответственность, она равна своей физиологии и движима ею. В ней телесность сужена до сексуальности. Марфинька относится к типу героинь, которая таит в себе «демоническое начало» и может стать причиной гибели героя [10, с. 124]. Во второй важно то, что она бросила сына, он видел ее в своей жизни один раз, и его изначальная потребность в любви матери не была реализована. При этом мать структурно близка к нему, ее речь по богатству образов и чувств, по стилю близка к тому, как Цинциннат пишет свои записки. Сближает их и звуковая огласовка имени — Цецилия Ц. «Охраняющая точка» в ее взгляде «выражала такую бурю истины, что душа Цинцинната не могла не взыграть» [7, с. 78]. Другое дело, что намек остался намеком, и стремлению души сына к матери, потребности найти близкую душу не удалось воплотиться.
Цинциннат антропологически не похож на остальных. Возможно, это связано с его отцом, о котором мать сообщает сыну уже в тюрьме: «Ах, Цинциннат, он — тоже…», — что надо понимать как принадлежность отца к группе цинциннатов. И хотя автор называет личностную особенность героя «гносеологической гнусностью», гносеология рождается на базе определенной антропологии. Особенностью антропологии Цинцинната является то, что он имеет «плотскую неполноту», что «главная его часть находилась совсем в другом месте, а тут, недоумевая, блуждала лишь незначительная доля его» [7, с. 68]. «Плотская неполнота» — это недовоплощенность героя в этом мире, он явлен как бы с не совсем дорисованными губами, с руками, еще не подтушеванными «мастером из мастеров» [7, с. 69].
В. Набоков соотносит его облик с образом света: усы такие нежные, как «растрепавшийся над губой солнечный свет»; «скользящие, непостоянного оттенка, слегка как бы призрачные глаза» [7, с. 68]; герой так ступит, что «естественно и без усилий проскользнет за кулису воздуха, в какую-то воздушную световую щель» [7, с. 69]. В конечном итоге герой имеет форму, линии и часть плоти, вещества. Он является особым существом, находящимся между неплотским ангелом и плотским человеком. «На земле мы что-то таких существ не встречали, — едва ли встретим» — писал в 1937 г. В. Ходасевич. Современный исследователь сводит проблематику к вопросу о дилемме души и тела: «Его душа, стремящаяся к подлинному бытию и познанию, скована решетками телесной крепости» [9]. В любом случае особый статус героя свидетельствует о том, что он создан — в сравнении с другими персонажами — с помощью другого художественного кода.
Интересен набоковский ход, когда кукольные, плотские персонажи прозрачны, явны, а плотски недовоплощенный герой темен, непрозрачен, непроницаем. Писатель идет против хода вещей, создавая парадоксальную связь между материей, веществом, плотью и душой: чем больше плоти, тем больше просвечиваемости; чем меньше плоти, тем меньше проницаемости. Этот парадокс свидетельствует как раз о том, что В.Набоков незаметно подменяет антропологию гносеологией, ибо антропологически герой вполне прозрачен, а гносеологически непроницаем.
Есть и другой парадокс в изображении Цинцинната — герой, который не должен был бы бояться смерти как небытия, так как по своему иноприродному происхождению должен иметь скрытое знание об инобытии, на самом деле страшно боится смерти. «Мне совестно, что я боюсь, а боюсь я дико, — страх, не останавливаясь ни на минуту, несется с грозным шумом сквозь меня» [7, с. 111], «как все во мне дрожит, и гудит, и мчится» [7, с. 112] — признается он. Собственно, главной психологической линией книги становится страх героя перед смертью и казнью.
Можно в целом полагать, что антропология при всей ее обязательной необходимости в художественном произведении все же вторична у В. Набокова, ибо для него первичной значимостью обладает гносеология. Именно гносеология как изначальные установки автора дает о себе знать в переплетении важных в романе познавательных, ментальных идей/моделей.
Вслед за В.Вейдле, стремившемся «очертить круг гносеологических проблем, которые высвечиваются в произведениях В. Набокова", современные литературоведы обращаются к изучению философско-гносеологических проблем в творчестве писателя [см.: 4].
Если коротко описать авторские ментальные познавательные модели, то они таковы. Первая модель: мир, в котором я живу, полон пошлости, притворства, порока, неопределенности, но я не хочу умирать, я хочу в нем жить, хочу дышать, общаться с близкими людьми, в конце концов, думать, читать, писать, творить. Это привычная романтическая модель, в которой герой не корит себя, а предъявляет претензии миру, и в которой у Набокова актуализирован страх смерти. Вторая модель: плохой мир разрушен, и впереди героя ждет новый, прекрасный мир. Узнаваема модель сказки, а если обратиться к иным, более современным и культивируемым жанрам — модель фэнтези. Для этого чудесного спасения герой не предпринял ничего экстраординарного. Виновник или создатель такого спасения — автор-демиург.
Если в русской сказке герой должен был предпринять определенные шаги — выказать свой героизм, если это мужской персонаж, или свой добрый характер и хозяйственную сноровку, если это женский персонаж, — то в романном мире В. Набокова Цинциннату следует быть только последовательным в своем привычном поведении. В этом смысле герой вновь соположен с романтической традицией раскрытия, а не изменения или развития персонажа. Единственное отступление от правила в сцене второго прихода Марфиньки в тюрьму, когда привычное для него сокрытие своей истинной природы поднимается на уровень принципиального отказа признаться в своей преступности. Герой жертвует желаниями для торжества принципов.
В этой второй модели есть еще один аспект — вольность и «самовольность» в изображении мира. Связь романтизма XIX века с неоромантической, по словам И. Есаулова, эстетикой «серебряного века» привела к тому, что разработанное в XIX веке «европейской романтической эстетикой окончательное «освящение» права «я» на использование «внешнего» мне «безразличного элемента», зависящего лишь от авторской «духовной субъективности», права навязать ему иной «дух» и смысл, для многих писателей русского «серебряного века» являлось уже как бы самоочевидным» [3]. У мира нет онтологической прочности, незыблемости, он плод творящей воли автора.
Это тот хронотоп, который Е. Белоусова, А. Сверчкова называют включением и характеризуют его так: «Мир героя находится внутри мира автора» [2]. Данный хронотоп «свидетельствует об усилении закрытости создаваемого автором образа мира, а также принципиальном сдвиге (эволюции) в мироощущении Набокова — его откровенно возросшем ощущении принципиальной сложности, дисгармоничности жизни и непостижимости ее подлинного смысла» [2].
Разрушение мира, который и в начале романа уже содержал в себе признаки будущей катастрофы, так как был не вполне качественно создан или нарисован, приводит героя к тому, что он среди еще крутящейся пыли и «падших вещей» направляется «в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему» [7, с. 130]. Подобные ему существа также должны иметь душу и недоосуществленную плотскую природу.
Возможны два варианта интерпретации такого финала. Либо эти существа (не люди — sic!) невидимо жили в мире, в котором жил Цинциннат, и с глаз его спала пелена, если он оказался способен почувствовать их явление. Пелена спадает по воле автора, ибо страх не был преодолен героем самостоятельно. Именно автор решает, что герою пора встретиться с себе подобными. И тогда подобный финал романа ведет к двум следствиям. Первое — только общественное наказание и страх смерти способны поднять героя до умения найти себе подобных, до уровня общения и диалога с ними. Другое следствие — мир у Набокова социально и классово антагонистичен, он непреодолимо, враждебно in se делится на нормальных людей (Цинцин-нат) и мелких, порочных существ (все остальные).
Либо — второй вариант — движение героя метафорично, и он по сути отправляется в небесный мир, то есть умирает для земли и возвращается в свою настоящую обитель. Осуществляется акт «вглядывания в вечность» [8]. И тогда это роман о том, что в земном мире нет ничего настоящего, искреннего, умного, доброго и полуво- площенная душа не может найти себе в нем приют. Тогда это роман по сути не о человеке и мире, а роман об авторе, его страхах и надеждах.
Список литературы Антропология кажущегося в романе В. Набокова "Приглашение на казнь"
- Башкеева В. В. От живописного портрета к литературному: Русская поэзия и проза конца XVIII -первой трети XIX века. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1999.
- Белоусова Е. Г., Сверчкова А. В. Принципы организации хронотопа в рассказах В. Набокова 1920-1930-х годов
- Есаулов И. А. Поэтика литературы русского зарубежья//URL: http://esaulov.net/uncategorized/kategorija-glava-11.
- Козлова С.М. Утопия истины и гносеология отрезанной головы в "Приглашении на казнь»//Звезда. 1999. №4.
- Матвеева Ю. В., Шамакова Е. М. Несколько наблюдений над реминисцентной природой творчества Владимира Набокова
- Набоков В. В. Гоголь/В. В. Набоков//Звезда. 1999. № 4. С. 14-19.
- Набоков В. Собрание сочинений в 4 томах. Т.4. М.: Правда. 1990. 480 с.
- Пономарев Е. Р. Прочь от России: парабола В. В. Набокова.
- Радько Е. В. Художественное преломление платоновского учения о душе и истине в романе В.Набокова «Приглашение на казнь». URL: http://www.plato.spbu.ru/conferences/2004/6-15.pdf
- Рудова О.С. В поисках идеала: типология женских образов в русской прозе Владимира Набокова//Вестник Бурятского государственного университета. Серия «Филология». 2017. № 6. С. 117-127.