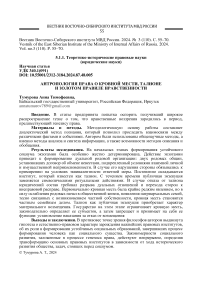Антропология права о кровной мести, талионе и золотом правиле нравственности
Автор: Тумурова А.Т.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 3 (110), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье предпринята попытка оспорить получивший широкое распространение тезис о том, что нравственные воззрения зародились в период, предшествующий генезису права.
Генезис права, происхождение государства, правовой институт, кровная месть, талион, воздаяние, возмещение, композиция, уголовная ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/143183555
IDR: 143183555 | УДК: 340.1(091) | DOI: 10.55001/2312-3184.2024.87.48.005
Текст научной статьи Антропология права о кровной мести, талионе и золотом правиле нравственности
Крайне противоречивое развитие геополитических процессов в современном мире обозначили новые задачи для гуманитарных и обществоведческих наук. Сила и глубина происходящих трансформационных процессов вызывают необходимость обращения к основополагающим идеям и ценностям, сформировавшим современный облик человечества. В различных исследованиях в данном направлении замечено, что неоднократно приходилось обращаться к институту кровной мести. Назовем два обстоятельства, вызвавшие эту необходимость. Первая причина заключается в том, что в последнее время стали много говорить и писать о традиционных ценностях. Именно это повлекло массовый интерес к основным социальным институтам прошлого: семьи, кровнородственных отношений, рода, племени. При рассмотрении сущности родовых отношений всплывает институт кровной мести, который, согласно целому ряду научных взглядов, представляет собой один из важнейших формирующих и скрепляющих кровнородственные отношения феноменов [1, с.155]. Вторая причина кроется в том, что стало распространенным мнение о реальной или ментальной войне цивилизаций [2, с. 660], и отсюда проблема осмысления понятия и истоков инаковости стала актуальной для гуманитарных наук. На повестку дня все более ярко и рельефно выступают вопросы общности правовых и нравственных воззрений, на основе которых можно наладить межцивилизационный диалог.
В русле обозначенных проблем обратимся к выводам одного из наиболее авторитетных российских философов, работающих в областях, непосредственно соприкасающихся с философией права [3, c.186]. Внимание юристов к работам А. А. Гусейнова, российского ученого, философа, вызвано тем, что начиная с 1990-х гг. отечественное правоведение отказалось от марксизма как методологического основания своих важнейших теоретических воззрений [4, с. 528]. Внимание было обращено к философии, философии права, этике, в частности к работам А. А. Гусейнова, посвященным этическим проблемам социальных запретов и негативных поступков [5, с. 272]. Поскольку эти вопросы непосредственно примыкают к правовой и уголовноправовой проблематике, возможность анализа общего и отличного в подходах к этим проблемам с точки зрения данных антропологии права представляет определенный интерес.
Так, например, согласиться с некоторыми утверждениями, касающимися широко известных социальных институтов «талион» и «кровная месть», трудно. Во многом философские взгляды противоречат данным антропологии права. Поскольку предмет спора находится в сфере юриспруденции, позволим себе ряд критических замечаний в адрес философов, изучающих институты талиона и кровной мести.
Первое, с чем трудно согласиться, – это то, что талион и кровная месть являются исключительно категориями истории нравов. Исследования вопросов, связанных с возникновением права и государства, показывают, что данные институты являются базовыми правовыми началами социальных устоев. Иными словами, с точки зрения антропологии права не вызывает принципиального возражения желание видеть в них истоки нравственности. Из всего этого можно постулировать актуальный научный, философский вопрос: могут ли право и его принципы выступать реальными конкретноисторическими истоками нравственных воззрений?
Второе, что следует отметить, талион не является обычаем. Это правовой обычай. Позиция о принципиальном разграничении обычая и обычного права изложена в целом ряде наших работ, в которых аргументировалась критика взглядов, отождествляющих собственно обычай и обычное право [6, С.8-16]. Различия этих разных по своим задачам и сфере действия социальных регуляторов колоссальные. Обычай направлен на регулирование внутриродовых отношений, подчиняющихся принципам, которые в науке принято определять как коммуналистические, то есть распределение общего продукта осуществляется на принципах: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Обычное право – совокупность норм, направленных на регулирование особых внешних отношений родовой общины. Тех отношений, которые подчинены общественному договору, декларирующему правовые принципы равенства, свободы, справедливости. Последняя категория имеет правовое содержание, определяемое как принцип равного участия в общем деле и равной доли в полученном общем продукте [7, С.53-69].
В связи со сказанным нижеприведенный текст содержит два вывода, которые не могут быть приняты без тщательного критического анализа.
ТАЛИОН (лат. talio, talionis, от talis в значении «такой же», наказание, равное по силе преступлению) — категория истории нравов, более известная в общественном сознании и литературе под названием «равное возмездие»; древний обычай, регулировавший взаимоотношения между кровнородственными объединениями на основе равенства в оскорблении и обязывавший ограничиваться в воздаянии ущербом, точно соответствующим повреждению. Классической считается ветхозаветная формула талиона: «душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» (Втор. 19:21).
Что же здесь подлежит переосмыслению? Главное, следует указать, что это категория истории права и является правовым обычаем. Талион первоначально, не регулировал взаимоотношения между кровнородственными объединениями. Талион практиковался между двумя родовыми общинами, заключившими общественный договор о взаимной личной и имущественной неприкосновенности. А кровнородственная связь появлялась как следствие установления общественного договора.
С точки зрения обывателя практически ничего не изменилось. Однако с позиции научного подхода есть принципиальная разница в точном использовании близких по значению категорий и понятий. Это важно для понимания логики развития данных исходных социальных институтов в историческом процессе.
Далее следует утверждение, что «…генетически талион восходит к кровной мести». Глагол «восходит», который соединяет эти два понятия в данном определении, запутывает картину и не способствует пониманию соотношения талиона и кровной мести. Необходимо понимать, что талион и кровная месть самостоятельные феномены, которые действуют солидарно, в своем сочетании представляют единый комплекс социальных институтов. Между ними существует системная связь: изменение в одном из них влечет безусловное изменение в другом, происходит взаимное приспособление относительно друг друга.
Итак, взаимосвязь талиона и кровной мести очень сложна и изменчива на протяжении всей истории человечества. Разграничивая талион и кровную месть, уместно акцентировать цели и назначение каждого из них. В противном случае их совместное действие приводит к ошибочному пониманию их как институтов, которые взаимозаменяемы и в ходе исторического развития переходят друг в друга.
Если кратко, то талион действует между родовыми общинами, которые заключили правовой договор о взаимной личной и имущественной неприкосновенности. В целом он представляет собой способ разрешения неизбежно возникающих в практике социальных конфликтов, представляющих собой нарушение принципов неприкосновенности, которые декларированы общественным договором. Другими словами, договор предусматривал взаимную ответственность за нарушение личной и имущественной неприкосновенности. Мерой ответственности выступало причинение эквивалентного вреда. Механизм, который являлся способом преодоления последствий нарушения условий общественного договора, в ходе социального развития и сложился в виде института талиона. Обобщение всех имеющихся сведений о талионе не позволяет нам однозначно ответить на вопрос о содержании самых древних ритуалов. Тогда закономерно возникает вопрос: какие конкретно задачи возлагались на этот сложный ритуал? Если не детализировать и не вдаваться в подробности, то очевидно, что древний ритуал в основном решал две жизненно важные задачи: поддержание фактического равенства между общинами, заключившими брачный договор об обмене невестами. Также он обеспечивал защиту и неприкосновенность членов общины, отданных в другое сообщество по брачному договору. Уместно предположить, что долгий путь через пробы и ошибки привел к необходимости утвердить только одну форму брачных отношений — обмен. Широкое присутствие признаков, указывающих на распространенность кроскузенного брака, позволяет с уверенностью констатировать наличие в процессе социального генезиса дуальной родовой организации как основы социальной организации, в рамках которой было завершено формирование человека как социального существа.
Единообразие начальных форм социальной организации для всего человечества указывает на эффективность социальных норм и их принципов, формирующих социальные институты первобытного взаимодействия первых субъектов социальной организации. В их числе правила, которые в дальнейшем породили широко известный институт талиона.
Ритуалы талиона складывались постепенно, в течение длительного периода, как было сказано, путем проб и ошибок, в ходе трудного поиска устойчивых форм социальной организации. Публичную процедуру причинения равного вреда, назовем ее «экзекуция», логично отнести к более позднему периоду социального развития, который можно условно обозначить как период перехода от чисто матримониальных отношений к экономическим. Дуальная организация начала реализовывать коллективные акты взаимодействия с целью получения материального блага, которое делилось в равных долях. Например, коллективная охота с участием представителей двух общин приносила значительную материальную выгоду для ее участников. Однако взаимодействие на постоянной основе не только расширяет возможности, прибавляет знания и опыт, но и становится почвой для конфликтов. Именно на этой стадии социального развития начинает складываться в полной мере структура социального института, который мы называем талионом или равным воздаянием. Талион сохраняет некоторые черты предыдущей эпохи, но, несомненно, обретает и новые качества. Это, безусловно, публичное мероприятие с обязательным участием двух общин, в той же мере заинтересованных в продолжении договорных отношений и поддержании установленных договоренностей.
Новые черты этому процессу придает направленность экзекуции на самих субъектов – участников конфликта. Непосредственный причинитель вреда (без относительно вины) становится объектом общественной экзекуции. В отношениях, связанных правовым равенством субъектов, реализуется принцип эквивалентности, в дальнейшем получивший отражение в ветхозаветном принципе: душу за душу, око за око. В случае любого причинения вреда (оскорбления, физического насилия, убийства) реализовались древние ритуалы, направленные, в первую очередь, на поддержание равенства двух общин, выраженного в последовательной реализации эквивалентности.
Только во вторую очередь для решения конфликта двух родовых общин. Для взаимного примирения, без которого невозможно было продолжить договорные отношения, публично, то есть в присутствии всех без исключения членов дуальной организации, можно предположить, осуществлялась зеркальная экзекуция. Все это с точки зрения современных общественных отношений может оцениваться как проявление первобытной дикости. Однако оценка может быть иной, если понимать, что на кону стояла жизнь всех членов дуальной организации. Картина суровых реалий, в которых выковывался человек как социальное существо, показывает, что наши предки проявляли осознанно немыслимую стойкость в последовательном отстаивании социального единства, бескомпромиссно боролись за незыблемость правил, обычаев, ритуалов, за сохранение институтов, рожденных их реализацией. Нет сомнений в том, что современному человечеству досталась дорогой ценой свобода, которая была буквально выстояна и вырвана из жесточайших тисков зависимости.
Отказ стороны от участия в экзекуции являлся основанием для прекращения общественного договора, приводил к распаду дуальной родовой организации. В древности, в период значительной слабости и зависимости от природных сил, разрыв этих отношений приводил к гибели родовых общин. Поскольку навыки, умения, язык, как аккумуляция социального опыта, передавались от человека к человеку непосредственно в практической деятельности, то это предопределяло суровую необходимость начинать социальное развитие с азов. Логично предположить, что родовые общины всеми силами стремились избежать разрыва отношений и не допускали отказов от реализации экзекуции.
Вернемся к ритуальной экзекуции. Ее реализация была направлена на возвращение общественных отношений членов дуальной организации на правовую основу – примирение и полный отказ от причинения вреда, морального, физического и материального всем членам сообщества. С течением времени, с накоплением опыта, развитием языка, навыков, орудий, различных форм социального взаимодействия, неизбежно ослабляется зависимость от давления природы. В связи с этим возникает ситуация, когда родовая община причинителя вреда отказывала выдать виновного для экзекуции. Этот осознанный акт отказа являлся основанием для разрыва договора о взаимной неприкосновенности, стороны переходили на внеправовую расправу – кровную месть. Кровная месть – следствие юридического состава из двух юридических фактов: причинение вреда и отказ от правового разрешения конфликта – талиона.
Если говорить о первобытном человеке, то его зависимость от родового сообщества была значительной. И чем сильнее становился человек, тем более ослабевали его связи с родовой общиной. Случаи разрыва дуальных отношений уже не влекут безусловную гибель бывших субъектов дуальной организации. Момент ослабления родовой общины и большая самостоятельность отдельных личностей, героев, отмечены в истории человечества появлением народных эпосов. Их нарративы отражают грандиозное событие – раскол того, что не может расколоться, например, Неба. Боги разделяются на непримиримых Западных и Восточных хатов, что приносит большие бедствия народу и спасение приносят герои [8, с. 270].
Значительный вклад в развитие этих процессов внесла неолитическая революция – появление доместикатов. Поэтому на этом этапе социального развития следует констатировать завершение предыстории человечества, появление миграции этносов, активность процессов их консолидации, что знаменует начало человеческой истории. Союзы племен под предводительством выборного вождя начинают свое историческое социальное движение.
В связи с этим определять субъектов кровной мести первобытным человеком, а кровную месть признаком рода можно лишь с существенными оговорками. Смысловая дилемма: кровная месть право или обязанность – характерна, строго говоря, не для первобытного человека, это терзания человека исторического.
Следует иметь в виду, что после неолитической революции имущественное положение становится иным, чем те, которые формировали род как единый хозяйствующий субъект, имеющий общее право на продукты. Процесс распада родовой общины на патриархальные семьи начался вместе с процессом приручения домашних животных и практически завершился с появлением скотоводства как формы хозяйствования. С появлением союза племен бывшие члены рода объединены в родовую общину виртуально, уже без коллективной собственности на продукты. Каждая семья имеет стадо и питается уже из собственного котла. Принадлежность к роду носит номинальный характер. Однако долгое время члены рода сохраняют ментально организационное единство, которое требует участия в заключении общественных договоров и актах кровной мести, в случае разрыва правовых связей с бывшими членами дуальной организации.
Необходимо понимать, что талион к этому времени подвергся значительным изменениям. Он уже не представлял собой исключительно публичную экзекуцию. Отношения перешли уже в фазу постепенного формирования системы материального возмещения. При заключении общественного договора стороны предусматривали размер материальной выплаты в случае причинения вреда. Причем материальное возмещение передавали уже семье потерпевшего.
Несколько слов посвятим сложному моменту, когда материальное возмещение, признанное эквивалентным причиненному вреду, не могло быть выплачено виновной стороной. Одна из причин могла быть связана с материальной несостоятельностью виновного лица, его семьи. Чаще всего родственники, бывшие сородичи, оказывали материальную поддержку и коллективно выплачивали возмещение, чтобы избежать последствий невыплаты. Но если связи между членами рода не были сильными или виновный был известен своей неблагонадежностью, то они могли отказаться от оказания материальной поддержки. Тогда несостоятельный виновный передавался вместе с семьей потерпевшему. Трудом всей своей семьи он должен был возместить вред. Однако и вторая сторона не всегда была готова принять виновного в качестве зависимого лица. Ведь за ним должен быть адекватный содержанию зависимых отношений – социальный контроль. При слабости семьи потерпевшего это представляло трудность, которая не могла в полной мере реализовать требование о компенсации причиненного вреда. В том числе и по этой причине люди одной крови, точнее агнаты, держались вместе, дорожили кровнородственными связями.
Также правила устанавливали, что зависимое лицо в некоторых случаях могло быть продано третьим лицам. Полученная от продажи материальная выгода выступала компенсацией. Поскольку проданный зависимый становился рабом, то он уже безвозвратно терял право быть выкупленным родственниками на условиях выплаты его долга. В общем огромное количество социальных институтов так или иначе связаны с институтами кровной мести и талиона.
Однозначно, талион и композиция являются институтами, которые длительное историческое время существовали как альтернативные или смешанные правовые явления. Система возмещения очень сложная и разветвленная сеть норм и институтов, отзывающаяся на всех нормативных уровнях и элементах социальной жизни общества, которые мы можем наблюдать в процессе формирования, различных трансформаций социальных связей и зависимостей, складывающихся как та или иная культура.
Далее рассмотрим случаи осознанных отказов от талиона или возмещения. На этом этапе социального развития разрыв дуальных отношений приобрел массовый характер, начинают складываться племенные и политические союзы, которые объединяли уже несколько или множество различных дуальных организаций, состоявших из родовых общин, представляющих номинальное, виртуальное, ментальное единство патриархальных семей. Например, если сторона в социальном конфликте заявит о своей непричастности, случайности, виновности жертвы в нарушении правил и т. п., в силу чего она отказывалась от возмещения или экзекуции, то есть от правовых способов разрешения конфликта, то перечисленное считалось официальным отказом от выполнения условий общественного договора. Равное возмещение, представлявшее собой трансформированную систему равного воздаяния, получившее в литературе понятие композиции, в конечном счете, обеспечивалось кровной местью, что, в свою очередь, было следствием разрыва общественного договора. Переход сторон социального конфликта, который уже носит персонифицированный характер, к кровной мести вовлекал в себя некий круг людей с той и с другой стороны, которые принято в современной литературе обозначать как роды. В ряде исследований кровной мести уже говорится о кровных родственниках [9, С. 301–307]. Тут мы сталкиваемся с парадоксом, который уже в современной жизни не понятен. Так кто участвовал в кровной мести: род или кровные родственники? Если род, то это так называемые агнаты. В строгом смысле это братья, отец и братья отца, дед и братья деда. Если кровные родственники, то это включает и мать, братьев матери, отца матери и т. д. Перечисленные родственники никак организационно не могут быть одного роду-племени с агнатами, если брак экзогамный. Когда родовые отношения уже находятся в латеральном состоянии, встает проблема определения участников кровной мести с одной и другой стороны. Также встает вопрос о праве или обязанности участия в кровной мести. По этой причине круг кровной мести мог уже устанавливаться законодательно. Примером этого может служить Русская правда или Законы лангобардов [9, 568 с; 10, 286 с.].
В целом, характеризуя данный этап в развитии талиона и кровной мести, следует отметить его измельчавший характер. Что в данном случае имеем в виду? Кровная месть как историческое явление становится уже частным делом. Субъектом кровной мести становится семья, а не род. Можно сказать, что в одежды кровной мести, этого грандиозного социального института, который являлся фундаментом, опорой социального развития на начальных, самых сложных этапах социогенеза, начинают обряжаться участники мелких стычек, затеянных конфликтными, безответственными, терзаемыми низкой самооценкой субъектами общественных связей. C другой стороны, чем ближе к историческому времени, тем чаще обнаруживаем людей, лишенных всяческих социальных связей, которые объединяются в разного рода неустойчивые группы, не имеют постоянного места жительства, живут кражами чужого имущества, промышляют грабежами. С развитием частной собственности свободные люди зависят от решения двух важных для них проблем: защитить имущество и права на нее от посягательств со стороны. В этом деле ключевую роль играют два амбивалентных фактора: фактическую неприкосновенность имущества обеспечивает способность собственника отразить конкретные действия, оцениваемые как посягательство, и если посягательство реализовано, то добиться возмещения. В случае отказа от возмещения собственник должен быть готов к кровной мести. Пока государство еще находилось в зачаточном состоянии или в слабой позиции, солидарность в круге кровнородственных отношений продолжает оставаться единственной гарантией неприкосновенности имущества, а также жизни и здоровья [11, с. 46-86]. Следует указать еще на нередкие случаи регрессного развития права и государства, когда вынужденно реанимируются старые институты [12, С.3-5]. И это доказывает несокрушимую эволюционную связь между разными формами одних и тех же социальных институтов.
Кровная месть категорически исключалась во внутриродовых (позже в семейно- родственных) отношениях и была столь же обязательной по отношению к представителям других общностей. Она закрепляет и упорядоченно воспроизводит разделение людей на «своих» и «чужих».
Приведенная цитата также не может быть принята безоговорочно, поскольку содержит безапелляционное утверждение об обязательности кровной мести по отношению к чужакам. Это неправильное утверждение. Кровная месть была ответом общине, с которой был установлен договор, но она его нарушила тем, что, причинив вред, отказалась от следования установленным правилам.
Полагать, что любые насильственные действия оправданы тем, что они приходились чужаками, глубокое заблуждение. Агрессия, направленная на людей, не была свойственна первобытному человеку. Переход от животного состояния к первым социальным качествам был осуществлен путем подавления животных инстинктов, агрессии, направленной против своего биологического вида [13, 488 с.].
Безусловно, талион как экзекуция не мог сформироваться во внутриродовых отношениях. Род как единый субъект при конфликтах между своими членами не мог прибегать к экзекуции. Это выглядело бы как автоэкзекуция - нанесение такого же вреда самому себе. Однако в условиях, когда род уже становится виртуальным единством, номинально объединяет самостоятельные хозяйства бывших своих членов, проблема наказания за конфликты между агнатами, то есть братьями, встает в полную силу. Ранее действовавшее требование об изгнании, еще раз повторим, уже не выполняет свою функцию [14, с. 340]. В качестве интересного в исторических реалиях отступления от названной закономерности приведем историю Древней Греции и Рима. Островной или полуостровной характер этих образований, возможно, стал основанием того, что изгнание не только продолжало оставаться действенной мерой наказания, но и активно конкурировать с уголовно-правовыми наказаниями [15, С. 10-47]. Иначе обстояли дела, условно в континентальных территориальных поселениях. Возмещение, которое было обычным способом разрешения конфликтов между представителями разных общин, слабо реализовывалось на практике среди родственников. Об этом можно судить даже по проблемам настоящего времени [16, с. 160]. В эпоху становления ранних форм государственности эта проблема приобрела угрожающую социальному благополучию форму. Говоря другими словами, каждое общество, которое в осознаваемом прошлом жило родовым единством, после его распада и перехода к условиям территориального поселения, территориальной, так называемой, соседской общины (совокупности множества экономически самостоятельных семейств) испытывает большие трудности в реализации ответственности своих членов за различные правонарушения. Всякое территориальное поселение фактически объединяет близких родственников, которые в условиях натурального хозяйства практически не соприкасаются с чужаками. Экономическое расслоение, которое неизбежно следует за утверждением частной собственности, актуализирует проблему ответственности за правонарушения. Память о прошлом единстве и невозможность воздаяния порождают проблему меры, формы ответственности за посягательства. Считаем, что данная проблема была решена с привлечением трансцендентных сил. В ранее опубликованной работе мы комментировали этот аспект формирования юридической ответственности [17, С.16-23], где выдвинута гипотеза, что ветхозаветные заповеди не убий, не укради, не возжелай ... возможно, есть обращение пророка к вышеуказанной социальной проблеме. Как быть с братом, совершившим, например, посягательство на собственность родственника? По ранее действовавшим правилам люди, принадлежащие к одному роду, не могут требовать воздаяния сородичу. Из-за недейственности института ответственности за различные противоправные деяния общественная жизнь приходит в упадок. Пророк ввел заповеди, запрещающие посягательства на имущество, личность, честь, ближайших родственников, в случае которых ответственность наступала за нарушение воли пророка, воли бога. Такое нарушение заповеди подлежало возмещению на принципах эквивалентности, которое на всем понятном языке еще звучало как «око за око».
Основой талиона являлось не стимулирование мести, а ее сдерживание. Он возникает как ограничивающий, запрещающий принцип. Можно предположить, что первоначальные (предшествовавшие талиону) отношения между различными сообществами характеризовались бесконечной враждебностью (например, у австралийских аборигенов, находившихся на догосударственной стадии, различались два вида вооруженных столкновений: одни из них велись с соблюдением правил и представляли узаконенную обычаем форму сведения счетов, кровной мести; другие же не были ограничены определенными нормами. — Народы Австралии и Океании. М., 1956. С. 190–191.) Талион ставил предел вражде, требуя строго, по возможности буквально соразмерять возмездие с полученным ущербом. Тем самым он соединял «своих» с «чужими», обозначая дистанцию, позволяющую им сосуществовать и входить в определенные взаимовыгодные отношения в качестве различных, теперь уже умеренновраждебных, общностей.
В приведенном отрывке немало противоречивых суждений.
Талион, безусловно, имел общепредупредительный, профилактический эффект. Он показывал, что расправа с посягателем не решает проблемы, а создает почву для вражды. В этом смысле талион показывал альтернативу расправе, как способ упорядоченного разрешения возникающих социальных конфликтов. Вернемся к периоду возникновения дуальных организаций, когда эквивалентность решала задачу поддержания фактического равенства двух родов и гарантировала личную неприкосновенность, защищала женщин, отданных в другую общину. Далее с развитием общественных связей и выхода за рамки исключительно матримониальных отношений это правовое единство продолжает практиковать во взаимных отношениях принцип эквивалентности. В случае вступления в их союз других общностей на них также распространялся раз установленный принцип личной и имущественной неприкосновенности. Неизбежно возникающие в практике конфликты разрешались на правовых началах, то есть реализацией института талиона. В дальнейшем с развитием государства, появлением территориальной общности режим неприкосновенности личной и имущественной распространяется на всех проживающих на территории одного государства. В литературе для обозначения правового режима используют термин, например, «замиренная среда», «замиренное общество» [18, 152 с.].
До твердого установления «замиренной среды» кровная месть выступала гарантией реализации талиона. В последующем именно кровная месть преобразуется государством в уголовно-правовую ответственность. Государство сначала ограничивает, а затем запрещает кровную месть. Но при этом, трансформировав, берет на себя функцию кровной мести – реализацию ответственности за отказ участников общественных отношений от правовых способов разрешения конфликтов, возникающих из деликтов [19, С.207-215].
Вернемся к тезисам. Деление на своих и чужих несет страшную разрушительную идею того, что за пределами своих нет никаких запретов, сдерживающих агрессию. Это отчетливо видно на примере религиозных войн [20, С.264-298]. Темная сторона деления людей на своих и чужих показывает опасность смешения нормативных регуляторов [17, С. 16-23]. Только право, не ставя преград между своими и чужими, направлено на формирование справедливых отношений. Нет умеренно и сильно враждебных отношений! Отношения или правовые, подчиненные принципам равенства, свободы и справедливости, или неправовые (произвол), нарушающие нормальное взаимодействие людей, живущих на одной планете Земля.
Талион - типичный социорегулятивный механизм первобытной эпохи.
Возможность эволюционного или цивилизационного развития достигнута величайшей концентрацией коллективной воли на пути упорядочения общественных связей. Подчинить поведение людей социальным нормам, создать порядок и тем самым преодолеть жесточайшее давление естественного отбора означало невероятный скачок предчеловека практически с низшей ступени пищевой лестницы животных к ее вершине [13, 488 с.]. Далее концентрация на социальных началах в жизни человека вывела общество из царства необходимости к повсеместному приспособлению к природной среде, и эти же закономерности позволили преодолеть зависимость от природы и перейти к активному освоению окружающей природной среды согласно человеческим потребностям. Малейшее пренебрежение закономерностями формирования культуры ставило человечество на грань экзистенционального краха.
Попытка представить талион социорегулятивной системой первобытности не выдерживает критики. В эту эпоху человек и его неустойчивые социальные группы решают исключительно задачу выживания. Талион, как социальный институт, требует совершенно иной уровень социальной организации общества.
Современное правовое регулирование, несмотря на серьезные проблемы и отсутствие общего правопонимания, каждой своей чертой связано с общественным договором и талионом, с равным воздаянием, - механизмом поддержания правового взаимодействия людей, реализующим правовые принципы равноправия, свободы и справедливости. Жизнь противоречива. Современность не может себя представить без судебной системы. Любой судебный процесс стремится реализовать правовую справедливость в отношениях людей. Каждая эпоха, каждый конкретный случай содержит в себе форму этой справедливости. В современном уголовном праве действует принцип равного воздаяния, которое мы понимаем как соответствие наказания содеянному.
Для его качественной характеристики существенное значение имеют следующие особенности: акт возмездия является ответным действием, он задается внешне, фактом, характером и размером нанесенного роду оскорбления, ущерба; способ переживания в случае талиона полностью совпадает со способом действия, необходимость мести является для древнего человека не налагаемой извне обязанностью, а органической страстью души, требующей безусловного удовлетворения; талион есть выражение коллективной ответственности, субъектом действия здесь выступает род, отдельные индивиды являются всего лишь непосредственными носителями его воли.
Первая из приведенных особенностей особого возражения не вызывает. Для реализации талиона необходим юридический факт - причинение вреда (личного, физического, морального, имущественного) представителем другого рода, с которым заключен общественный договор. Это принципиальное положение для характеристики правового института. Для осуществления талиона важен факт предварительной договоренности о реализации правовых начал в общественной жизни. Что касается способа переживания, то он не понятен. Считаем, в данном случае необходимо говорить о публичном характере осуществления предусмотренного талионом действия — при обязательном присутствии всех участников общественного договора. Нет сомнений, что предки понимали, что институт имеет важное воспитательное значение, направлен на профилактику агрессии, проявляемой по отношению к представителям иной социальной группы. Очевиден факт того, что месть не имеет эти важные качества. Большинство исследователей правильно отмечают, что акт мести, во-первых, не обладает открытым и публичным характером и не ограничен в своем разрушительном воздействии ни характером, ни способом, ни даже субъектом причинения вреда. У кровной мести одна задача — нанести наиболее устрашающий вред, именно в таком сравнении четко проявляются различия в этих институтах.
Что касается эмоциональной составляющей кровной мести, то она объясняется тем, что виновная сторона отказывается от правовых способов разрешения конфликта, несмотря на достигнутые договоренности. Причем договоренности были закреплены, что называется, кровью. В этом смысле каждый общественный договор в древности закреплялся брачными узами. В этом видели то самое кровное закрепление общественного договора.
Продолжая тему символики, нельзя не отметить значимость для древнего человека символических действий, которыми в изобилии также пронизано и правосознание наших предков. Это особенно впечатляет при изучении истории правовых фикций [21, С.17-35]. История права зафиксировала множество артефактов, которые свидетельствуют о большой склонности древних людей заменять конкретные действия их символами. Учитывая это, можно предположить, что талион не стал исключением и при его реализации часто заменяли реальную экзекуцию символическим актом. Например, преломление стрелы над головой, в некоторых культурах лишить мужчину сабли, как известно, символические ритуалы, которые заменяли публичную казнь. В любом случае, символика должна была дать необходимую эмоциональную разрядку, быть направленной на уравновешивание страстей. В родовой организации все осознают зависимость друг от друга, то, что разрыв в отношениях грозил утратой накопленного социального опыта, вместе с которым уходила всякая надежда на благополучие в будущем. С другой стороны, каждый из присутствующих осознает, что нет ничего более худшего, чем необоснованное прощение виновного. Это гарантия того, что он совершит еще большее зло, чем неадекватно прощенное. Поэтому осознавалась жестокая необходимость в реализации талиона. В третьем пункте говорится о коллективной ответственности. Главное, понимать эту коллективную ответственность как коллективную заинтересованность в точном и неукоснительном следовании установленным договором правилам.
Талион вошел в историю нравов и оставил глубокий след в культуре, во-первых, как воплощение уравнительной справедливости (он собственно и представляет собой распространение внутриобщинного принципа уравнительной справедливости на отношения между общинами), во-вторых, как исторически первая форма легитимного насилия (талион уравнивает родовые общины в их праве защищать себя и свои интересы силой, нравственную легитимность ему придает то, что он санкционирует насилие в качестве ограниченного насилия).
Что касается внутриобщинного принципа уравнительной справедливости, то с этим тезисом нельзя согласиться. Внутри общины родовой нет равноправия и эквивалентности. Внутри рода действует поло-возрастная иерархия. Младший подчиняется во всем своему старшему брату. Только такая безусловная иерархичность давала согласованность в общих действиях, тем самым предоставляя роду шанс коллективно выжить в агрессивной среде, преодолеть многочисленные вызовы изменчивой природы. Ясное понимание, кто и кому подчиняется в бытовых отношениях, позволяет исключить борьбу за власть внутри рода. Если этого понимания нет, то борьба за право распоряжаться общим продуктом неизбежно приведет к победе самого агрессивного члена семьи. В таких условиях нельзя сформировать язык, обычай, культуру и передать его своим потомкам.
В общении с представителями других общин каждый желает видеть себя равным вне зависимости от пола, возраста и других своих качеств. Участвуя в общем деле, стороны заранее договариваются о том, чтобы коллективные действия были подчинены правовым принципам. В любом деле есть риск причинения вреда. Они хотят ответственных отношений. И выбор таких отношений добровольный. Никто не может принудить родовую организацию к заключению общественного договора. И только эквивалентность может являться естественно-правовой основой ответственности. Для осуществления кровной мести необходим был юридический состав: факт причинения вреда и официальный отказ от экзекуции (в историческое время – от возмещения).
Талион не просто оставил глубокий след в культуре человечества, но и сейчас функционирует, но уже в иной форме [22, С.123-134].
Этическая структура талиона получила отражение в представлениях ранних философов о справедливости как равном воздаянии (Анаксимандр, пифагорейцы и др.). Она же стала точкой отсчета первых законодательств.
Все верно, начиная с древности, справедливость представляет собой правовую категорию, имеющую правовое содержание, которое отражено в законодательных актах. В каждом конкретном случае вопрос о справедливом воздаянии предмет судебного разбирательства.
Талион воплощает исторически первый синкретический тип регуляции; по мере того, как возникают расхождения между коллективной волей и индивидуальным выбором, внешними действиями и внутренними намерениями, появляется возможность заменять месть выкупом, осуществляется переход от общинно-варварских форм организации жизни к государственно-цивилизованным, он расщепляется и трансформируется, с одной стороны, в принцип уголовной ответственности, исходящий из того, что наказание является справедливым в качестве равного возмездия, а с другой стороны, в золотое правило нравственности.
Нет ни одного аргумента, который бы доказывал синкретичный характер талиона как типа регуляции. Можно привести много аргументов, но остановимся на одном: можно ли утверждать, что талион регулировал отношения между женщиной и мужчиной, между ребенком и взрослым человеком? Право регулирует отношения между равными людьми. Тогда почему мы должны считать талион моральным требованием? Право требует от всех без исключения людей ответственного поведения.
Замена экзекуции, воплощенной в понятии «око за око», выкупом, то есть материальным возмещением, связана не с мифическим «расхождением между коллективной волей…», а с неолитической революцией, приведшей к доместикации и на этой основе к частной собственности и появлению семьи. Поэтому в случае убийства кормильца ответное убийство виновного лица не решит проблему потери кормильца. Семья экономически самостоятельна, род такой семье помогает, но не обязан это делать. Поэтому повсеместно талион заменяется материальным возмещением, который, кстати, первоначально выплачивался потерпевшей семье доместикатами.
Более подробно о рождении уголовной ответственности и обретении институтами талиона и кровной мести знакомых нам очертаний написано в другой нашей работе [19, С.207-215].
Как специфический обычай кровная месть в пережиточном виде сохранилась до нашего времени у народов с сильно выраженными следами патриархального быта, например, у северокавказских горцев. Необычайной живучестью отличается также идея равного возмездия, которая остается элементом культурно-генетического кода справедливости, представленным в разных культурах и у разных народов с разной степенью интенсивности.
Патриархальный быт, как показывает история права, не всегда является причиной сохранения кровной мести. Почему специфический обычай кровной мести в пережиточном виде сохранился до нашего времени, например, у народов Северного Кавказа, имеет далеко неоднозначный ответ.
Таким образом, талион и кровная месть являются правовыми институтами, сыгравшими решающую роль в формировании устойчивых социальных образований, в рамках которых завершился процесс формирования человека как социального существа. Закономерности функционирования этих институтов носят на протяжении всего эволюционного процесса непрерывный и всеобъемлющий характер. Изменения, происходящие в обществе, в природе и в их соотношении влияют на трансформацию форм социальных институтов. Однако содержание талиона как экзекуции, затем возмещения, далее уголовно-правовой ответственности реализует правовые принципы равенства, свободы и справедливости. Талион и кровная месть как единый правовой комплекс социальных институтов является конкретно-историческим основанием нравственных воззрений, практическим фундаментом золотого правила нравственности.
Список литературы Антропология права о кровной мести, талионе и золотом правиле нравственности
- Алиханов С. А. Криминологическая характеристика преступности в городах и сельской местности: по материалам Республики Дагестан: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2003.
- Ансари Т. Разрушенная судьба: история мира глазами мусульман. – Москва: Эксмо, 2021. – 448 с.
- Виватенко С. В., Сиволап Т. Е., Ларичева О. А. Между Францией и Италией. Антропология и этнология корсиканского этноса. URL: https://phsreda.com/e-articles/10292/Action10292-99013.pdf
- Греков Б. Д. Киевская Русь. Москва: Госполитиздат, 1953. 568 с.
- Гусейнов А. А. Язык и совесть. Избранная социально-философская публицистика. Москва: Изд-во ИФ РАН, 1996. 186 с.
- Гусейнов А. А. Золотое правило нравственности. Москва: Молодая гвардия, 1979. 208 с. Изд. 2 —1982; изд. 3, перераб., доп. — 1988, 272 с.
- Гусейнов А. А. Проблема происхождения нравственности (на материале развития института кровной мести) // Философские науки. 1964. № 3. С. 57–67.
- Дворецкая И. А., Залюбовина Г. Т., Шервуд Е. А. Кровная месть у древних греков и германцев. Москва, 1995. С. 46–86.
- Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства. Лекции, прочитанные в Высшей школе социальных наук в Париже: перевод с французского. Изд. 2, ротопринтное. Москва, 2015. 152 с.
- Зюков А. М. Кровная месть: внеправовой обычай и государственно-правовая политика: учебное пособие. Владимир: ИП Журавлева, 2009. С. 155.
- Лапаева В. В., Тумурова А. Т. Процессы генезиса права с позиций принципа формального равенства (по материалам юридико-антропологического исследования) // История государства и права. 2009. № 17. С. 8–16.
- Меликишвили Г. А. Основные этапы этносоциального развития грузинского народа в древности и средневековье. Москва, 1973.
- Мэйн Г. Древнее право: его связь с ранней историей общества и его отношение к новейшим идеям: перевод с английского. Санкт-Петербург, 1898. Вып. 98. С.17–35.
- Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник для юридических вузов и факультетов. Москва: Норма-инфра, 2001. С. 53–69.
- Платон. Диалоги: перевод с древнегреческого // Апология Сократа. Москва: Эксмо. 2022.С. 10–47.
- Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). Москва: Мысль, 1974. 488 с.
- Сырых В. М. Логические основания общей теории права: в двух томах. Т. 1. Элементный состав. Москва: Юстицинформ, 2000. 528 с.
- Тумурова А. Т. Религия и право (проблема разграничения) // Сибирский юридический вестник. 2024. № 2 (105). С. 16–23. – DOIhttps://doi.org/10.26516/2071-8136.2024.2.16.
- Тумурова А. Т. Социально-антропологические выводы исследования генезиса института кровной мести // Социология уголовного права: проблемы и тенденции развития: материалы I Международной научно-практической конференции / под общей редакцией Е. Н. Салыгина, С. А. Маркунцова, Э. Л. Раднаевой. Москва: Юриспруденция, 2013. С. 123–134.
- Тумурова А.Т. Сравнительное правовое исследование правовых систем (вопросы методологии) / А.Т. Тумурова. – DOIhttps://doi.org/10.17150/1819-0928.2024.25(2).207-215. – EDN PEYITM // Академический юридический журнал. – 2024. – Т. 25, № 2. – С. 207–215.
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / перевод с английского Т. Велимеева. Москва: АСТ, 2022. 660 с.
- Чагдуров С. Ш. Происхождение Гэсэриады. Опыт сравнительно-исторического исследования древнего словарного фонда. Новосибирск: Наука, 1980. С. 270 с.
- Шервуд Е. А. Законы лангобардов. Обычное право древнегерманского племени: к раннему этногенезу итальянцев / ответственный редактор М. В. Крюков. Москва: Наука, 1992. 286 с.