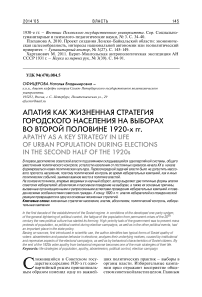Апатия как жизненная стратегия городского населения на выборах второй половины 1920-х гг
Автор: Офицерова Наталья Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Первая мировая
Статья в выпуске: 5, 2014 года.
Бесплатный доступ
В первое десятилетие советской власти под влиянием складывавшейся однопартийной системы, общего ужесточения политического контроля, усталости населения от постоянных кризисов начала XX в. начала формироваться новая политическая культура. Первоочередной задачей власти было не допустить массового протеста населения, поэтому политический контроль во время избирательных кампаний, как и иных политических событий, занимал важное место в политике властей. На основе источников, впервые вводимых в научный оборот, автор выделяет две типичные формы апатии советских избирателей: абсентеизм и пассивное поведение на выборах, а также их основные причины, вызванные организационными и репрессивными аспектами проведения избирательных кампаний и поведенческими особенностями советских граждан. К концу 1920-х гг. апатия избирателей из поведенческой реакции превращается в одну из основных жизненных стратегий.
Жизненные стратегии населения, апатия, абсентеизм, политический контроль, избирательные кампании
Короткий адрес: https://sciup.org/170167456
IDR: 170167456
Текст научной статьи Апатия как жизненная стратегия городского населения на выборах второй половины 1920-х гг
Сложившийся в Советском государстве к середине 1920-х гг. однопартийный режим принципиальным образом изменил одну из важней- ших политических практик – выборы в органы власти. Избирательные кампании ярко отражают восприятие обществом советской власти в целом. Главным инструментом регулирования избирательного процесса были многочисленные выборные собрания. Протоколы собраний, а также документы политического контроля, статистические материалы и пр. — высокоинформативный источник для изучения советской политической повседневности.
Объектом нашего изучения стала апатия как жизненная стратегия населения. В психологической науке принято следующее определение жизненной стратегии: «принципиальная, реализуемая в различных жизненных условиях, обстоятельствах способность личности к соединению своей индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию». В узком смысле слова — это разработка определенного жизненного решения для преодоления жизненных противоречий [Абульханова- Славская 1991: 245]. Ядром выбранной стратегии являются ценностные реакции личности.
Нам ближе понимание жизненной стратегии как определенной поведенческой реакции человека на кризисные ситуации, впоследствии превращающейся в норму поведения. Французский социолог Ги Бажуа выявил 4 типа поведенческих реакций человека на кризисные ситуации: уход (эскапизм), протест, лояльность и апатия [Чуйкина 2000: 154-156].
Апатия стала одной из важных поведенческих реакций городского сообщества при проведении избирательных кампаний во второй половине 1920-х гг. В информационных документах этого времени апатию определяли как «пассивность <...> где главную роль играет нежелание брать на себя ответственность»1. Такая пассив -ность, с одной стороны, была даже выгодна большевикам, т.к. не создавала препятствий к внедрению новых, социалистических выборных практик и приводила к упрочению партийного влияния в городах, особенно на производстве. С другой стороны, всегда существовала опасность перехода населения от апатии к активным формам проте- ста, поэтому «пассивность» отмечалась в документах политического контроля в негативном ключе.
В первую очередь обращает на себя внимание форма апатии, которая проявляется в отсутствии избирателей на выборах. В политической науке эта форма получила название «абсентеизм» — уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах [Миронов 2012: 11]. Абсентеизм второй половины 1920-х гг. имел ряд объективных и субъективных причин. Частой причиной апатии в форме абсентеизма являлась организация выборов по производственному принципу. Дело в том, что избирательные собрания (как отчетные, так и перевыборные) проводились по месту работы. Отдаленность мест проведения собраний влекла за собой отсутствие на них как семей избирателей (до 25—30%), так и самих работников, особенно если время проведения собрания не совпадало с рабочей сменой 2 .
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) СССР в качестве причин абсентеизма называла:
-
— отсутствие необходимого числа помещений с достаточной вместимостью, что влекло за собой «механическое снижение процента избирателей на выборах»;
-
— плохую организацию собраний (неявка докладчиков, обилие вопросов в повестке дня, отсутствие четкого расписания собраний, несвоевременное и нечеткое оповещение избирателей);
-
— назначение собраний на выходные и праздничные дни 3 .
Стоит отметить, что увеличение числа «лишенцев» (лиц, по различным, прежде всего политическим, причинам лишенных избирательных прав) в избирательной кампании 1926/27 гг. повлекло за собой снижение явки на перевыборные собрания1. По данным ОГПУ, во время избирательной кампании 1926/27 гг. число «лишенцев» выросло не менее чем в 1,5–2 раза по стране, включая массовые ошибки в лишении избирательных прав (в отношении городской и сельской интеллигенции, членов рабочих профсоюзов, рядовых и офицеров белого движения, призванных по мобилизации, резервного командирского состава Красной армии). На наш взгляд, такое положение дел было связано с общим ужесточением политического контроля в стране, отсутствием активной жизненной позиции, ощущением бесперспективности политической борьбы2.
Абсентеизм второй половины 1920-х гг. имел ярко выраженные гендерные различия. Число женщин – избираемых и избирателей – было намного меньше числа мужчин. Причины явления лежат преимущественно в бытовой (большая занятость женщин в домашнем хозяйстве) и материальной («зачем зря ходить на собрания, если жалования не получают и материальной помощи не дают») плоскости 3 .
Формой апатии становится и пассивное поведение на выборах, нередко отмечаемое в информационных сводках, эго-документах и в прессе. Так, собрания делегаток на Вышневолоцкой мануфактуре (Тверская губерния) прошли безмолвно4. Между тем, на предприятии были отмечены неоднократные «нарушения проведения избирательной кампании». Гротескные «выборы» прошли и на красильной фабрике мануфактуры. Старый фабком самоустранился от выборов, поэтому выборы проводили все, кому вздумается, вопреки правилам и инструкциям: «Составит кто-нибудь подписной лист и бегать по фабрике: “Товарищ, подпишитесь. Верные, дельные люди намечены. Жалеть не придется. Право слово…” И многие ставили, уж больно назойливо упрашивали. Прошли многие, кому там не место»5 (эти выборы были опротестованы).
Политическая пассивность была свойственна не только основной массе избирателей, но и коммунистам на производстве и в учреждениях. Заведующий информационным отделом ЦК ВКП(б) Богомолов подчеркивал: «…партийцы играют в молчанку, не дают отпора демагогии и антисоветским настроениям, поддакивают» 6 . Слабое участие и пассивность были свойственны и членам профсоюзов в различных регионах страны (Урал, Нижнее Поволжье, Сталинградская и Ленинградская губернии).
Пассивное поведение могло быть следствием страха. Например, на предприятиях в 1920-х гг. складывался так называемый «треугольник» (партийные комитеты – администрация – профсоюзы) [Ульянова 2013:]. Рабочие опасались проявлять излишнюю активность на любых открытых собраниях, в т.ч. и перевыборных, испытывая страх как перед администрацией, так и перед партийными комитетами, а также перед сотрудниками ОГПУ 7 .
Несмотря на бодрые рапорты Центральной избирательной комиссии СССР и местных ЦИК о постоянном увеличении качественного и количественного состава избирателей (с 48,9% явки в кампанию 1924/25 гг. до 59,2% в кампанию 1927 г.)8, секретные информационные сводки фиксируют сохра- нение высокого уровня абсентеизма и рост пассивности в ходе избирательных кампаний. Реакция власти на массовый абсентеизм была двойственной – от отмены результатов выборов и демократизации избирательной системы до использования административного ресурса [Саламатова 2013: 223].
Расширение проявлений апатии как жизненной стратегии мы относим ко второй половине 20-х гг., что связано с рядом причин. Во-первых, к середине 1920-х гг. в стране складывается однопартийная система и происходит ужесточение политического контроля, проникновение чекистов и их осведомителей в пространство предприятий, учреждений и др. Протестные проявления подлежат обязательной фиксации, большинству населения сложнее проявлять политическую активность. Население осознает опасность открытого выражения своего мнения.
Во-вторых, любое проявление недовольства могло быть зафиксировано навешиванием ярлыка «эсер», «оппозиционер», что влекло за собой разно- образные последствия вплоть до увольнения.
В-третьих, с 1925 г. официально вводится открытое голосование. Нередким случаем становится голосование «списком», что в силу указанных выше причин влечет за собой рост политической пассивности.
Далеко не всегда «пассивность», отмечаемая в документах, означала «апатию». На протяжении 1920-х гг. избирательные кампании постоянно пробуждали интерес граждан к государственной политике, и «пассивное отношение» нередко означало провал партийных списков на выборах (или, как минимум, провал некоторых кандидатур из списка).
И наконец, информация о повсеместных и частых нарушениях демократических советских избирательных норм не только снижала политическую активность рабочих, но и формировала в «низах» представление о Советах как о второстепенной по сравнению с партией детали политического механизма [Булюлина 2009: 190], что также влекло за собой рост проявлений апатии.