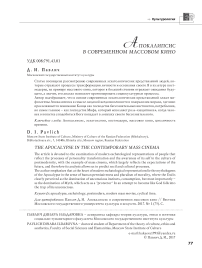Апокалипсис в современном массовом кино
Автор: Павлич Динара Ильдаровна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 1 (75), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению современных эсхатологических представлений людей, которые отражают процессы трансформации личности и осознания своего Я в культуре постмодерна, на примере массового кино, которое в большой степени отражает ожидания будущего, а значит, его анализ позволяет прогнозировать социокультурные процессы. Автор подчёркивает, что в основе современных эсхатологических представлений лежат мифологемы Апокалипсиса в смысле людской вседозволенности и плюрализма морали, где явно прослеживается понимание Конца как господства бессознательных инстинктов, потребления, но самое главное - как господства Мифа, который исполняет роль «защитника», когда человек в попытке уподобиться Богу попадает в ловушку своего бессознательного.
Апокалипсис, эсхатология, постмодерн, массовое кино, цикличность времени
Короткий адрес: https://sciup.org/144160676
IDR: 144160676 | УДК: 008:791.43.01
Текст научной статьи Апокалипсис в современном массовом кино
ПАВЛИЧ ДИНАРА ИЛЬДАРОВНА – аспирантка кафедры теории культуры, этики и эстетики социально-гуманитарного факультета Московского государственного института культуры
PAVLICH DINARA ILDAROVNA – doctoral student of Department of the theory of culture, ethics and aesthetics, Faculty of Social Sciences and Humanities, Moscow State Institute of Culture
В современном культурфилософском знании такая тема, как современные эсхатологические манифестации в массовой культуре, является актуальной и вызывает большой интерес, в первую очередь из-за того, что многочисленные передачи, фильмы, шоу на тему Апокалипсиса транслируют отнюдь не исторический опыт в этой области культуры христианства, а нечто совсем иное. Они отражают процессы трансформации личности и осознания ею своего Я в культуре постмодерна.
Это представляется крайне интересным, так как эсхатология – это религиозное учение о конечных судьбах мира и человека, то есть благодаря подробному рассмотрению таких явлений культуры можно анализировать основные факторы формирования современной социокультурной среды. В рамках данного определения в статье эсхатологическая манифестация будет пониматься как проявление различных (вербальных, невербальных) апокалиптических представлений в культуре.
Рассмотрим эту тему на примере киноискусства. «Киноискусство включает драматургические, языковые, музыкальные, живописно-пластические элементы, игру актёров. Киноискусство не дублирует и не заменяет театр, литературу, живопись, а перерабатывает их опыт в соответствии с особенностями экранного творчества [4, с. 25–29]». Многие предметы современного киноискусства включают в себя элементы массовой культуры, отражая реалии общества потребления. Ж. Бодрийяр рассматривает потребление как цепную психологическую реакцию, которая направляется современной магией, природа которой бессознательна. Потребление предметов больше не связано с их сущностью – речь идёт, скорее, об отчуждённых знаках предметов, которые существуют лишь в связи друг с другом. Ж. Бодрийяр считает, что общество потребления – это общество самообмана, где невозможны ни подлинные чувства, ни культура и где даже изобилие является следствием тщательно маскируемого и защищаемого дефицита [1, с. 15–17].
Хотелось бы остановиться и провести культурологический анализ фильмов, связанных с темой Апокалипсиса. Давайте рассмотрим «Судную ночь-2» (режиссёр – Джеймс ДеМонако). Фильм повествует об идеальном мире, где нет убийств и насилия, поскольку одну ночь в году власти позволяют людям безнаказанно убивать, грабить, насиловать и т.д. В этом фильме весьма интересно отношение к христианской морали и библейским текстам. Например, интересен образ типичной американской женщины средних лет, которая читает проповедь, находясь в полном экстазе, а внизу мы видим множество убитых ею людей. Получается, что обычный обыватель общества потребления выступает в роли проповедника, возлагая на себя миссию, скажем, апостола Павла. При этом режиссёр намеренно одевает её в типичную повседневную одежду современного американца и ставит её на крышу супермаркета – как одного из символов культуры потребления. Если разложить семиотическую структуру указанного выше сюжета по технологии «фрейм-набора» Ван Горпа, то в данном случае лексика женщины не несёт каких-либо культурных кодов, связанных с христианством, однако латентно речь выстроена в форме проповеди, что можно определить как ар-хеобраз христианства, задающий фрейм, то есть механизм восприятия. В данном случае центральной темой скрытого куль- турного феномена является мифический сюжет, но одновременно с этим визуальными средствами зритель сразу отсылается к симулякрам культуры потребления, таким как, например, супермаркет типичного американского города.
Также любопытно обратить внимание на то, как сдвигаются ценностные ориентации в сторону возвышения отдельного человека не по принципу личных достижений, как, например, в христианской картине мира, а по принципу «общество позволяет». Не последнюю роль здесь играет миф. Можно говорить об «анархии мифа»1. Миф не помогает установлению культурной парадигмы личности и общества, а порождает их множество, в связи с чем бессознательное, как инструмент в борьбе с неявным и непонятным, выходит на первый план, «защищая» нас.
Поведение женщины из фильма проецируется на религию Спасения, в данном случае христианство, но оно не заложено в рамках это культурной картины мира, оно лишь проводит с ней аналогии, а значит, эта культурная картина мира не существует в рамках общества из фильма «Судная ночь-2», она порождена множеством разных мифом, а не мифом о приходе небиблейского Апокалипсиса.
С точки зрения формирования культурной картины мира и эклектического мировоззрения представляется необходимым разобрать ещё одну сцену, в которой манифестируется ветхозаветное братоубийство, совершенное двумя родными сёстрами. Убийство оправдывается героиней, так как это право ей дано государ-
-
1 Здесь и далее миф будем понимать как систему мифотворчества, которая выступает за ликвидацию любой иерархической системы социокультурного устройства.
ством, то есть опять можно говорить об отсылке к библейскому сюжету в качестве фрейма, но содержание данной сцены говорит о совершенно ином смысле, заключённом в восприятии симулякра о вседозволенности как основы мировоззрения героини. Ценностные установки отсутствуют, субъект находится в мире симуляции ценностей, с чем и связана возможность убийства. Данный кинотекст передаёт мифологемы Апокалипсиса в смысле людской вседозволенности и плюрализма морали, где явно прослеживается понимание Конца как господства бессознательных инстинктов, потребления, но самое главное – как господства Мифа. Мифа о справедливости подобной Судной ночи, полезности, мифа о том, что люди вправе вершить чужие судьбы и определять начало и конец той самой Судной ночи.
Продолжение темы находим в фильме Терри Гиллиама «Теорема Зеро». В первую очередь нужно сказать, что мы видим футуристическую картину мира, в котором живёт одинокий гений. Следовательно, мы наблюдаем циклическую картину времени в этом фильме. Она проявляется в том, что главный герой решает теорему зеро, которая доказывает, что рано или поздно мир сожмётся до сверхплотной материальной точки, где нет ни времени, ни пространства, ни материи, ничего. В центре внимания вновь Человек, а не Бог, способный доказать всё, что угодно, а также упорядочить Хаос, доказав теорему, как и в архаике, мы наблюдаем Миф как основу общества и его открытий, а также субъективное начало в понимании исторического времени. Финал также интересен – герой вместо упорядоченного Хаоса, который он в своих мечтах видел всё время, видит субъективное бессознательное, пребывая в грёзах о несостоявшейся любви. Хочется как возможность изучить квантовую фи- подчеркнуть, что основная линия по заявленной теме связана с финалом, наполненным мифами о теореме зеро, упорядоченном хаосе, где человек выступает в роли наблюдателя и, как бы он ни старался изменить существенно ход событий, это заканчивается провалом. Также интересно понимание виртуальной реальности как неотъемлемой части жизни главного героя, ведь только в пространстве виртуальной реальности он смог найти женщину по сердцу. Если посмотреть, например, на эсхатологию некоторых племён, то мы увидим, что вера, например, в способность вождя изменить ход вещей так же безусловна, как и вера миллионера из фильма в этого одинокого гения, а все сторонние люди – просто наблюдатели.
Эсхатологической теме посвящён и фильм «Люси» Люка Бессона. Основной сюжет – девушке вводят вещество, активизирующее способности мозга, в результате чего она должна раскрыть остальному человечеству тайны мироздания. Но за это она платит жизнью, ведь человек не способен раскрыть вселенские законы и остаться при этом невредимым. Одновременно с развитием умственных способностей на героиню фильма с огромной силой начинает давить бессознательная часть психики, что и сводит её с ума. На мой взгляд, это прямая аллегория на всё современное общество постмодерна в смысле постулирования эгоценризма и нарциссизма. В центре сюжета находится миф о сверхчеловеке, который способен уподобиться Богу. Опять же, по основному фрейму, зрителя отсылают к христианскому сюжету о Сыне Божием, но дальнейшие события раскрывают лишь ценности общества потребления, такие зику на основе чтения заголовков ссылок в Интернете, изучение китайского языка по губам говорящих в течение одной минуты, что делала главная героиня. Такой подход к осмыслению сложных явлений раскрывает зависимость современного индивида от медиапространства. Вспоминается «Золотая ветвь» Дж. Фрейзера, в которой он описал, как, например, женщины во время охоты своих мужей не должны были выходить из дома, а если они выйдут, то охота не состоится, и никому и в голову не приходило это проверить, этому просто свято верили и исполняли [8].
Стоит подчеркнуть, что ни один из вышеперечисленных кинотекстов не привязан жёстко к эсхатологическому сюжету – вследствие того, что отсутствует ссылка от одного явления к другому, то есть можно сказать, что данные тексты представлены в виде дискурсов, наполненных множеством сюжетов, но сюжеты не находятся в иерархической, смысловой или иной связи. Апокалиптическая мифологема в данном случае не является одним из факторов формирования целостного мировоззрения, а представляет собой программу с произвольным наполнением. Как говорилось выше, серийность эсхатологических сюжетов меняет мифологический хронотоп, где апокалиптический сюжет более не финальная часть временного континуума, а лишь привычный сюжет, тиражируемый медиапространством, не имеющий смысловой нагрузки. Здесь можно говорить о «тотальном» времени, по терминологии Левинаса, то есть о бесконечном времени, которое в любой точке может отменить или исказить предыдущие события, делая актуальным только время «здесь и сейчас». Эсхатологический сюжет в таком контексте находится вне связи с предыдущими и лишается финальной точки, благодаря которой он сохранял целостную структуру.
Таким образом, апокалиптические сюжеты в основном раскрываются в пространстве массовой коммуникации с коммерческими целями, а не с целью формирования единой культурной парадигмы. Например: предсказание племени Майя о конце света, который должен был наступить в декабре 2012 года, наступление после 2012 года непродолжительного ледникового периода, вспышки на Солнце, столкновение Земли с каким-либо небесным телом или те же локальные катаклизмы могут перерасти в глобальные. Тем более что в мире и так происходит достаточ- ное количество различных катастроф локального характера. Все эти мифы активно поддерживаются в СМИ, что также способствует их развитию. Притягательность конца света – в мгновенном мощном и бесповоротном разрушении однообразного существования, это реализация желания глобальных перемен, желания начать жизнь заново. Ведь многие воспринимают конец света оптимистично, в современном мире это скорее надежда, чем трагедия. Кроме того, возможно, это способ избавиться от технократизма, вернуться к идиллии с природой. Рассмотрев сюжеты описанных выше фильмов, можно сделать вывод о том, что в современном массовом кинематографе, так же как и в архаике, стираются границы реальности и вымысла.
Список литературы Апокалипсис в современном массовом кино
- Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифы и структуры / [пер. с фр., послесл. и примеч. Е.А. Самарской]. Москва: Республика: Культурная революция, 2006. 269 с.
- Воеводина Л.Н. Философия культуры в эпоху постсовременности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 3 (59). С. 29-35.
- Зайцева А.Ф. Эстетические ожидания потребителей в системе рекламных коммуникаций // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 2 (64). С. 265-270.
- Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти раамат, 1973. 135 с.
- Ремизов В.А., Коробкина А.Н. Сущность и структура современного медиакультурного пространства // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 2 (64). С. 83-86.
- Тихонова В.А. Глобализация и геополитика: духовно-ценностные основы противоречий // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 1 (63). С. 45-50.
- Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. Москва: Гардарики, 2004. 1072 с.
- Фрейзер Дж. Золотая ветвь: исследования магии и религии / пер. [с англ.] М.К. Рыклина. Москва: Академический Проект, 2012. 854 с.
- Чижиков В.В. Пространство потребления - от объективного к субъективному // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 3 (65). С. 52-57.
- Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии: пер. с англ. Москва: REFL-book, Киев: Ваклер, 1996. 288 с.