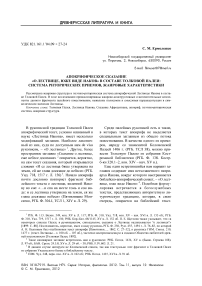Апокрифическое сказание «О Лествице, Юже виде Иаков» в составе Толковой Палеи: система риторических приемов, жанровые характеристики
Автор: Ермоленко Станислав Маркович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусская литература и книга
Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрена жанровая структура и поэтико-риторическая система апокрифической Лествицы Иакова в составе Толковой Палеи. В ходе исследования проанализированы жанрово-конструктивные и вспомогательные компоненты данного фрагмента палейного повествования, выявлены полисемия и смысловая переакцентуация в сим-волическом значении Лествицы.
Толковая палея, лествица иакова, сказание афродитиана, апокриф, поэтико-риторическая система, жанровая структура
Короткий адрес: https://sciup.org/14737705
IDR: 14737705 | УДК: 821.161.1’04.09
Текст научной статьи Апокрифическое сказание «О Лествице, Юже виде Иаков» в составе Толковой Палеи: система риторических приемов, жанровые характеристики
В рукописной традиции Толковой Палеи апокрифический текст, условно названный в науке «Лествица Иакова», имеет несколько модификаций заглавия. Наиболее лаконичный из них, судя по доступным нам de visu рукописям, – «О лествице» 1. Другое, более пространное заглавие «Сказание о лествице, еже небесе досязаше» 2 опирается, вероятно, на сам текст сказания, который открывается словами «И се лествица бяше утвержена на земли, ей же глава досязаше до небеси» (РГБ. Унд. 718, 1517 г. Л. 156) 3. Начало апокрифа почти дословно повторяет фрагмент библейского текста о лествице, явленной Иакову во сне: «…и спа на месте томь и сон виде: и се лествица утвержена на земли, ея же глава досязаше небеси» (Пятикнижие Моисеево, РГБ. Ф. 304.I, ТСЛ 1, XIV в. Л. 29).
Среди палейных рукописей есть и такие, в которых текст апокрифа не выделяется специальным заглавием из общего потока повествования. В качестве одного из примеров, наряду со знаменитой Коломенской Палеей 1406 г. (РГБ. ТСЛ 38), можно привести Толковую Палею из собрания Костромской библиотеки (РГБ. Ф. 138. Костр. б-ки 320.1–2, кон. XIV – нач. XV в.).
Еще один встретившийся нам вариант заглавия содержит имя ветхозаветного патриарха Иакова, вокруг которого выстраивается библейско-апокрифический сюжет, – «О лест-вице, юже виде Иаков» 4. Подобная формулировка встречается в богослужебных текстах, представляющих авторитетную литургическую традицию, которая, в свою очередь, опирается на библейский текст.
В тексте стихиры на «Господи воззвах» службы Благовещения в качестве одного из символов Богоматери, наряду с такими, как «земле ненасеянная», «купино неопалимая», «глубино неудобь видимая» и «ручко боже-ственыя манны», выбран символ моста, «к небесем преводяй», и высокой лествицы, «юже Ияков виде» 5. В общей службе богородичным праздникам на утрени в тексте стихиры на хвалитех восьмого гласа «Богородицу Марию вси воспоем…» находим такое обращение к Богородительнице: «…радуйся, лествице одушевленная и разумная» 6. На утрени в икосе «К Богородицы вопием любовию…» Богородичного Канона также встречаем этот символ: «…радуйся, лествице и дверь небесная» 7. Паримийное чтение на вечерне того же богородичного типа службы включает в себя библейский текст о лествице Иакова из книги Бытие 8, поэтому неслучайно в цитированной выше рукописи Пятикнижия из собрания Троице-Сергиевой Лавры на верхнем поле листа, содержащего этот эпизод священной истории, есть краткая запись киноварью: «Месяца септевриа въ 8» (л. 29). Эта запись указывает на использование бытийного текста о лествице в качестве паримийного чтения на вечерне праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Киноварным знаком креста обозначено в этой рукописи окончание па-римийного текста.
Постоянное упоминание лествицы в богослужебных текстах, посвященных Богородице, конечно неслучайно. Лествица как символ Богоматери нашла широкое распространение в литургическом песнотворчестве и богословии, особенно в гомилетике.
Как отмечает Т. С. Борисова, лествица в качестве символа Богоматери была использована в Словах Андрея Критского на Рождество и Успение Богородицы, Иоанна Дамаскина на Рождество Богородицы, Успение и Благовещение, в Слове Тарасия Константинопольского на Введение во храм Пресвятой Богородицы, в Слове на хульники Божия Матери, сочиненном Максимом Греком в синтетическом жанре полемической гомилии, а также в Богородичном Акафисте. Бытование лествицы как символа Богоматери из богослужебной практики и рукописной традиции перешло в традицию печатную: «Огородок Богородицы Марии» (Киев, 1672) одного из виднейших гомилетов XVII столетия Антония Радзивиловского, «Руно Орошенное» (Чернигов, 1691) святителя Димитрия Ростовского, «Богородице Дево» (Черингов, 1707) черниговского епископа Иоанна Максимовича [Борисова, 2001. С. 35, 74–75, 87, 104].
Лествица, наряду с символами врата / дверь и клеща , в монографии Т. С. Борисовой отнесена к группе символов со значением «связь земного и небесного». Именно дихотомия земное – небесное в Толковой Палее особым образом преломляется в теме идеального правителя, соединяющего божественное избранничество и земную власть. Эта тема проходит через все палейное повествование.
Лествица относится к числу традиционных христианских символов, имеющих экзегетическую природу, порожденных путем типологического, пророчески-прообразова-тельного сопоставления ветхозаветных лиц и событий с новозаветными. Именно этот принцип типологической экзегезы использован как основное средство обеспечения поэтико-риторического единства текста Толковой Палеи.
В палейном тексте рассматриваемого апокрифа есть два прямых указания на истолкование сакрально-прообразовательного значения лествицы, причем толкования эти отличаются по своему содержанию.
Мы попытались представить палейное сказание «О лествице…» схематически, условно разделив его на эпизоды в соответствии с жанрово-конструктивными и вспомогательными характеристиками 9, с учетом имеющихся в настоящий момент основных текстологических данных (см. таблицу). Для
Жанровая структура апокрифического сказания «О лествице, юже виде Иаков» в составе Толковой Палеи
Во втором эпизоде, прерывающем видé-ние экзегетическими и антииудейскими вы- кладками, ветхозаветная лествица Иакова трактуется как прообраз Креста Христова – главного новозаветного символа земных страданий Спасителя: «водружися древо крестное на земьли в страсти Владычню, якоже беяше древле утвержена бысть лест-вица при Иякове» (ТСЛ 38. Л. 77 об., стб. 307).
Тема Креста вызывает в тексте цепную реакцию: все народы разделяются на крещеные и некрещеные, обратившиеся к распятому Христу и нехристианские. Тут же обнаруживается аналогия в описании лест-вицы: поднимающиеся по ней ангелы символизируют духовное восхождение христианизированных народов («языкы всхо-дяще»), а спускающиеся по лествице ангелы, напротив, обозначают удаление от Бога, духовное нисхождение народа. Противопоставление верх – низ рассматривается как аналогичное антонимическим парам христианский – нехристианский , крещеный – некрещеный . Отсюда следует антииудей-ский выпад: «Приимашеть крещаяся языкы Господь и всхожахуть на небо, а еже низъ-ходяще, непокоривый, развращеный род жи-довьскый прообразова» (ТСЛ 38. Л. 77 об., стб. 307). Иначе говоря, противопоставление христианский – нехристианский конкретизируется и становится более однозначным: христианский – иудейский .
Иное объяснение лествицы содержит четвертый эпизод апокрифического сказания, в котором архангел является Иакову с истолкованием лествицы и предсказанием будущего потомков Израиля. Здесь лествица представлена как символ «безаконьнаго века», а двенадцать ее ступеней – «времена века того суть» (ТСЛ 38. Л. 78, стб. 309). Беззаконный век, видимо, следует понимать буквально, как период беззакония, безвременья в истории еврейского народа, его угнетения и скитаний. Интересно, что в целом предсказание, переданное ветхозаветному патриарху через архангела, все-таки можно считать жизнеутверждающим, несмотря на то, что именно в этом эпизоде Иаков узнает о будущих страданиях своих потомков: об их многолетнем рабстве под гнетом инородцев, об отступлении народа Божия от веры в Единого Бога и служении языческим капищам, об исходе из страны народа-поработителя и последующих за исходом скитаниях колен Израилевых. Завершается пророчество обетованием, согласно которому бесплотные силы вместе с еврейским народом будут молить всемилостивого Владыку о благополучии. Мольбы потомков Иакова-Израиля и прошения за них ангельских сил, сообщается в тексте, будут услышаны: «Въпиють же и услышит я Господь, и умолен будет, и раскает бо ся Крепкый и о страдании их, понеже ангели и архангели излеют молениа своя пред Нимь избавлениа ради племени твоему, и смилитеся Вышнему. Тогда жены их родят помногу, и потом поборет Господь по племени твоем» (ТСЛ 38. Л. 78, стб. 310).
Жанровая структура палейного сказания о лествице довольно сложна. Исходным пунктом повествования в апокрифическом сказании является эпизод видéния лествицы во сне Иакову во время остановки на ночлег по пути «к Лавану, ую своему». Интересно, что палейное видéние лествицы разбито на две части (см. таблицу, эпизод 1а–1б), примерно равные по объему и очень сходные по типу повествования. Первая часть эпизода представляет собой последовательное детальное описание лествицы. Текстуально этот фрагмент отталкивается от книги Бытия, изобилуя при этом разнообразными подробностями, отсутствующими в библейском тексте и относящимися к описанию самой лествицы и изображению находящихся на ней бесплотных сил. Если в Бытии о лествице сказано лишь то, что «ангели божии въсхожаху и низхожаху по ней, Господь же утвержаашеся на ней» (Пятикнижие, ТСЛ 1. Л. 29), то апокриф, почти дословно повторяя эту формулировку в новом контексте, уточняет, что Лицо, находившееся на вершине лествицы, было «превыше всех» (Чуд. 348. Л. 102 об.), «акы человече из огня исечено», «из огня до раму и до руку, излиха страшно» (ТСЛ 38. Л. 77 – 77 об., стб. 306–307). Как и во многих других эпизодах палейного повествования, в сказании о лествице поставлен акцент на символико-нумерологической составляющей описания: лествица состоит из двенадцати ступеней; помимо огненного лика, находящегося наверху, на каждой ступени справа и слева человеческие лица, число которых, как подчеркивает составитель, двадцать четыре.
Вторая часть эпизода 1 (в таблице – 1б) содержит обетование Бога Иакову о его потомках. Действия как такового здесь тоже нет, речь идет, скорее, о событийности в будущем, которая отчетливо проглядывает в этом обетовании: «Землю, на ней же спиши, тебе дам ю», «всточная же и западныя вся полна будуть племенемь твоим» (ТСЛ 38. Л. 77 об., стб. 307–308). Этот фрагмент также опирается на библейский текст, а дополнения к нему усложняют синтаксис, служат витиеватости стиля и делают повествование повышено экспрессивным за счет ярких риторических приемов: «и умножю племя твое, яко звезды небесныя и яко песок мор-скый, и благословятся семенемь твоим вся земля и живущии на ней в последняя времена лет скончание» (Чуд. 348. Л. 103). Кстати, это поэтизированное апокрифическое дополнение к библейской цитате не нашло места в Коломенском списке, но обнаруживается в рукописях, содержащих Полную Хронографическую Палею.
Эпизод 1 разделен на две части текстом небольшого объема, по форме являющимся толкованием описания лествицы. Однако по характеру толкований, по своему содержанию и идеологическому настрою этот фрагмент представляет антииудейскую инвективу.
Описанные эпизоды, по сути являющиеся завязкой, «сюжетной» сердцевиной апокрифа, обладают несколькими жанровыми характеристиками. Базовым, конструктивным для первого комплекса эпизодов является жанр видéния, включающий два существенных повествовательных элемента: описание и пророчески-прообразовательное начало. Особую жанровую характеристику палейному видéнию лествицы придает экзегетико-обличительный компонент, в котором пока только просвечивает полемическая составляющая.
Завершается сон Иакова словами: «И яко услышах се с высоты, трепет и ужас нападе на мя. Встав же, рече, Ияков от сна своего…» (ТСЛ 38. Л. 77 об., стб. 308). В Чу-довской Палее окончание фразы от первого лица: «…и въстах от сна моего» (Чуд. 348. Л. 103). Наличие словоформ с грамматическим значением первого лица единственного числа П. Е. Щеголев, например, связывает с принадлежностью эпизода 1а–1б древнему тексту апокрифа о лествице, при этом отказывая в древности происхождения антииу-дейской инвективе, разрывающей повествование [1899. С. 80] (в таблице – эпизод 2). Текстологическая гипотеза В. М. Истрина в отношении толковой редакции согласует- ся с позицией П. Е. Щеголева: «Автор Коломенской Палеи имел под руками апокриф в отдельном виде, откуда он брал, что ему было нужно, и снабжал толкованиями» [Ис-трин, 1905. С. 150]. По нашим наблюдениям, выделенные П. Е. Щеголевым текстологические границы совпадают в данном эпизоде с жанровыми контрастами, т. е. со сменой одной жанрово-конструктивной характеристики на другую. Кроме того, именно в эпизоде 2 находится христианизированное истолкование лествицы как прообраза Креста, совершенно не являющееся идейным и идеологическим продолжением самого видéния. Согласимся со словами исследователя: «…при чтении отрывка вам ни разу не придет в голову мысль, что автор его – христианин» [Щеголев, 1899. С. 82], в то время как толкование этого отрывка не просто христианизировано, а тенденциозно антииудейское.
После видéния лествицы и божественного обетования Иаков, исполненный трепета и благоговения, обращается к Богу в молитве, которая открывается словами традиционной формулы: «Господи Боже Адамль, твари Твоея, и Господи Боже Аврама, Исака – отцю моею, и всех, ходивших правдою пред Тобою» (Чуд. 348. Л. 103). Некоторые жанровые характеристики этого молитво-словия мы находим в тексте апокрифа, причем дает эти жанровые определения сам Иаков: «и встах, и въспех , и рех » (здесь и далее курсив наш. – С. Е. ) (Чуд. 348. Л. 103), «Услыши пение мое, имже воспех Тя», «И еще мне глаголющу молитву свою» (Чуд. 348. Л. 103 об.), т. е. речь идет, видимо, о молитвенном песнословии, судя по форме и содержанию, хвалебном.
Интересно, что Иаков обращается к Богу именно как к Царю и Вседержителю, славному Владыке бесплотных сил. Хвалебный, гимнический характер торжественной песни Иакова в Полной Хронографической Палее подчеркивается длинными рядами однородных членов, в частности восторженных эпитетов, указывающих на абсолютное всесилие Владыки: «12-верховне, 12-личне, многоименне, огнене, млънозрачне свете» (Чуд. 348. Л. 103). Охваченный восторгом, Иаков трижды восклицает: «Святе, Святе, Святе!» (Чуд. 348. Л. 103), затем перечисляет еврейские имена двенадцатиликого Бога и продолжает бесконечный ряд эпитетов: «вечный царю, крепче, силне, превеличе, трьпеливе, благословенне, наплъняй небеса и землю, и море, и бездны, и вся векы Твоея славы <…> Ты еси Бог крепок и Господь мой и отец моих» (Чуд. 348. Л. 103 об.). Хвалебная песнь Иакова завершает первый комплекс эпизодов в составе палейного апокрифа.
Жанровая структура второго комплекса явно создавалась по образцу первого. Повествование вновь открывается жанром ви-дéния: Иакову является архангел Сарииль (имя указано в Полной Хронографической Палее) с пророчеством о будущем еврейского народа, правда, эмоциональное напряжение в повествовании постепенно угасает. Сам Иаков, вновь от первого лица, сообщает, что при появлении архангела не испытал такого трепета, как перед Вседержителем: «Аз же не ужасохся взора его <…> и видениа ангелова не възбояхся» (Чуд. 348. Л. 103 об.).
Если в эпизоде 1 жанр видéния конструктивен, а обличение и экзегеза – вспомогательные компоненты, то в данном случае явление архангела Иакову – лишь сюжетный ход, при помощи которого в повествование вводится толкование лествицы с мощным пророчески-прообразовательным началом. Никакого намека на религиозную полемику, а тем более обличительного пафоса в эпизоде явления архангела нет.
Значительная часть риторических приемов в палейной Лествице Иакова приходится на интерполированные экзегетические и полемически-обличительные эпизоды. Риторика выступает здесь и как поэтика, делая повествование более насыщенным и соответствующим содержанию, и как система собственно риторических средств для усиления аргументации против иудаизма и в защиту христианской догматики.
Одним из основных средств достижения идейной ясности и художественной выразительности в палейном тексте апокрифа является использование системы риторических приемов, в основе которой – единый принцип параллелизма. Употребляя термин «параллелизм», имеем в виду, прежде всего, его литературоведческое (риторическое) понимание.
Наиболее очевидным в тексте является, конечно, параллелизм синтаксических конструкций. В данном тексте он чаще всего реализуется в приеме единоначалия. Одинаковые или сходные начала соответствую- щих синтаксических единиц, «музыкально»-ритмически организуя текст, безусловно, подчеркивают заложенные в нем основные идеи. Так, в первой части эпизода 5 при описании даров, принесенных волхвами новорожденному Христу, при помощи анафорически организованных синтаксических конструкций нарочито подчеркнута идея царственной власти Бога как Идеального Правителя: «злато же яко Царскы дар и яко Царю приносим, Сь бо Царь небу и земли, реша, Сь бо есть Царь видимым и невидимым, реша, Сь Царь царьствующим и Господь господьствующим, реша, Симь царьст-вують и властели власть держать, реша, Сему цари поклоняться и всяк земный» (ТСЛ 38. Л. 82, стб. 325).
Принцип параллелизма может базироваться не только на соположении, сопоставлении, но и на противопоставлении. В таком ракурсе антонимия, систематически прослеживаемая в нашем тексте именно как поэтико-риторический прием, может быть рассмотрена в качестве частного случая параллелизма. Тем более что прием противопоставления зачастую соединяется здесь именно с анафорой: «То бо Младьньць ост-рыя вся притупи и серхъкая гладъка створи, То бо Младьньць ввьрьже вся неправды в глубину морьскую, То бо Младьньць створи чюдеса на небеси и днесь на земли обрето-ша, Того убо уязвиша среде дому взлюблена-го, рекше Израилева…» (ТСЛ 38. Л. 82 об., стб. 327).
Особенно эффективным соединение двух этих литературных приемов является в полемически-обличительных выпадах, обращенных к гипотетическому иудею и сталкивающих христианство с иудаизмом в фундаментальном христологическом догмате признания Христа Сыном Божиим и Его крестной смерти как искупительной жертвы за людей: «…разумей, кому спасение, кому ли пагуба, кто ли есть уязвивый Спаса, кто ли есть веруяй к Нему» (ТСЛ 38. Л. 82 об., стб. 328).
В заочном прении с предполагаемым «жидовином» повествователь усиливает эффект, производимый одинаково начинающимися конструкциями, добавляя к ним риторические вопросы: «…аз ти реку, оканьне, вспомяни дни древняя от пьрвоз-данаго Адама до потопа, кто обешеному злодееви поклонися? Помяни же от потопа до здания столпу, кто ли в томь роду во обешенаго злодея верова? Помяни же от столпотворения до Авраама, помяни же от Авраама до Моисея, помяни же от Моисея до Давида, а от Давида до Иоана Крестителя, сына Захариина, кто во обешенаго злодея верова?!» (ТСЛ 38. Л. 83, стб. 330).
Типологическая экзегеза, сополагающая события ветхо- и новозаветной «истории» и активно используемая в Толковой Палее, будучи рассмотренной в качестве риторического приема, также представляет частный случай параллелизма, особенно если типологические пары выстраиваются в многочленные ряды, например Адам - Каин -Авель - Неврот - Христос и Ева - Богородица: «...на древе пригвождается за Адама, соблазнившася древом, еже родися от Девице, извед из Адама жену девицею, иже кровь свою пролья на кресте за пролившюю кровь Авелеву от Каина брата своего <...> тот и в камени положен бысть за Невротово здание столпу» (ТСЛ 38. Л. 82 об., стб. 328).
Особенно интересен случай реализации такого параллелизма в исследуемом тексте, когда ветхо- и новозаветные события объединены не только в пары как экзегетический тип и его антитип, но и связаны между собой одним мотивом, например, присутствия в сюжете водной стихии: «Иже древле от камене нам воду источи, Тот нам днесь в Кана Галелеи воду в вино створи; Иже древле вам повеле проити сквозе Чермьное море по суху, Тот днесь повелеваеть Петро-ви поверху вод ходити» (ТСЛ 38. Л. 83 об., стб. 332).
Завершает палейную Лествицу Иакова эпизод 5а-5б. Его жанрово-стилистическую основу составляет пространное полемиче-ски-обличительное толкование обетования, переданного Иакову через Сарииля, со встроенной в него покаянной молитвой. Интересно, что исходит молитва не из уст «жидовина». Повествователь-христианин предлагает своему оппоненту слова сокрушения и раскаяния, признания неправоты иудейского вероучения: «Въспомянися, оканне, и възпи к Нему, глаголя: Съгреших, съгреших, Господи, последовавь отечьскому ми безаконию...» (Чуд. 348. Л. 108).
П. Е. Щеголев и В. М. Истрин в целом описали основные отличия текстов апокрифа, включенных в Толковую и Полную Хронографическую Палею [Щеголев, 1899. С. 80. Примеч. 1; Истрин, 1902. С. 419-420; 1905. С. 150-151]. Особое внимание обра- тим на отсутствие в доступных нам рукописях Хронографической Палеи текста, соответствующего фрагменту ТСЛ 38. Л. 78-79, стб. 310-314 в Коломенской Палее. Этот текст содержит фрагмент, тесно связанный с апокрифическим сказанием Афродитиана, на что указывал еще И. Я. Порфирьев [1877. С. 59]. П. Е. Щеголев охарактеризовал основные литературные приемы, использованные для введения указанного фрагмента в толковательную часть палейного апокрифа: «Автор, воспользовавшийся сказанием Афродитиана, не переписал его целиком; напротив, он ввел в свое изложение лишь отдельные частички, разместил их по своему усмотрению, а не по тому порядку, в каком они шли в повести Афродитиана, и вставил много своего. <...> Иногда даже является мысль о том, что он писал по памяти» [1899. С. 85].
На этот же фрагмент в Киевской рукописи 10, содержащей текст Толковой Палеи, обратила внимание В. П. Адрианова-Перетц в одном из своих ранних исследований [Адрианова, 1910]. Среди сделанных рукой самого писца редакторских заметок на полях присутствует текст, кратко пересказывающий основные события апокрифического сказания Афродитиана: «гудение» идолов в языческом святилище и путешествие волхвов за путеводной звездой к месту рождения Христа. Эта запись в Киевской Палее, по свидетельству В. П. Адриановой-Перетц, находится как раз напротив сказания о лест-вице, содержащего фрагменты из повести Афродитиана [Там же. С. 52-53].
Появление такой приписки-комментария рядом с текстом апокрифа в Киевской Палее, на наш взгляд, связано с идеей божественной природы земной власти, являющейся ключевой для понимания повествовательной логики Толковой Палеи и апокрифического сказания «О лествице...» в ее составе. В Толковой Палее представлен особый тип «историософии», утверждающий концепцию идеального правителя: от самого Бога-Вседержителя, начальника бесплотных сил, «ни начала имея ни конца», до царственных пророков Давида и Соломона, соединивших божественное избранничество и земную власть. В записи Киевской Палеи тема божественной власти на земле проявилась через сюжетный ход утраты идолами своего влияния после рождения Христа.
Жанровой основой палейного сказания о лествице является видéние. Жанровое самоопределение этого текста, реализуемое в киноварном заглавии «О лествице, юже виде Иаков», в целом совпадает с жанрово-конструктивными характеристиками, выявленными посредством анализа поэтико-риторической системы сказания.
Центральное положение в образно-символической системе палейного апокрифа «О лествице, юже виде Иаков» занимает подробное описание и истолкование самой лествицы. В составе Толковой Палеи лест-вица как древний христианский символ подвергается семантической переакцентуа-ции: традиционная принадлежность этого символа к атрибутике Богородицы отодвигается на второй план, в толковании лествицы подчеркивается значимость хри-стологической составляющей. В качестве символа-синонима лествицы в тексте появляется Крест. При этом связь земного и небесного как семантическое ядро символического значения лествицы, общее и для богородичного, и для христологического истолкования, сохраняется. Символы лест-вицы и Креста, концептуально связанные идеей установления связи небесного и земного, божественного и человеческого, на экзегетическом уровне образуют типологическую пару, которая в идеологическом плане дает повествователю повод для полемики и обличения.
Анализ жанровой структуры текста и поддерживающей ее системы поэтико-риторических средств, на наш взгляд, подтверждает ранее высказанную исследователями текстологическую гипотезу о полемически-обличительных интерполяциях в текст апокрифа. Вероятно, для более плотного сцепления эпизодов, различных по происхождению, жанровым характеристикам и идейно-тематическому наполнению, составитель организовал повествование, ориентируясь на принцип параллелизма в изложении материала, с точки зрения текстологии довольно дробного.
По этому же принципу построения параллельных рядов организована жанровая структура палейного апокрифа. Оба комплекса выделенных нами эпизодов скон- струированы как трехчленные ряды: видé-ние – экзегеза (с полемически-обличитель-ной составляющей) – молитвословие. При этом наблюдается определенная жанровостилистическая динамика от первого комплекса эпизодов ко второму: «чистый» жанр видéния, определяющий содержательное наполнение первого комплекса, становится формальным обрамлением для экзегетикополемического текста антииудейской направленности во втором комплексе, торжественно-хвалебное молитвословие Иакова сменяется покаянной молитвой иудея, в экзегетических фрагментах наблюдается усиление антииудейских настроений.
В отношении палейного сказания о лест-вице и всего текста Толковой Палеи приходится признать необходимость расширенного понимания параллелизма не только как литературного (поэтико-риторического) и языкового явления. Наблюдается также жанровый и идейно-тематический параллелизм. Наиболее часто встречающейся здесь является тема идеального правителя, в основе которой – идея Бога как Царя и Вседержителя. В палейном апокрифе тема идеального правителя настойчиво акцентируется в целом ряде фрагментов: в завершающем первый комплекс эпизодов хвалебном молитвословии Иакова к Богу; в сюжетном вкраплении о событиях Рождества Христова при описании золота как царского дара новорожденному Младенцу; в интерполяциях из апокрифического сказания Афродитиана, повествующих о крушении идольского могущества и утверждении Христовой власти; в поддерживающей эту мысль приписке в Киевской Палее.
Через такую идейную парадигму иначе воспринимается и палейный текст в целом, прежде всего, его толковая редакция. В исследовательской литературе утвердились две основные точки зрения на устройство Толковой Палеи: относительная идейная целостность текста при несоразмерности его частей [Тихонравов, 1898. С. 157–159] и изначальная или редакторская незавершенность и непропорциональность повествования [Успенский, 1876. С. 10, 117, 125; Ист-рин, 1906. С. 150; Шахматов, 1904. С. 271– 272; Водолазкин, 2008. С. 135–139].
У нас есть предположение, пока предварительного характера, что непропорциональность формы связана не с незавершенностью текста Толковой Палеи, а именно с принципом параллелизма, последовательно проводимым от начала текста до его завершения. Типологическая разновидность богословской экзегезы была выбрана книжни-ком-палеистом не только для того, чтобы сгладить текстологические границы между эпизодами, как в палейном сказании «О ле-ствице…», но и для того, чтобы выстроить две параллельные линии «исторического» повествования – ветхо- и новозаветную.
Конечно, описание новозаветных событий в Толковой Палее не столь хроноло-гизировано, как изложение начальных ветхозаветных книг. В частности поэтому палейное повествование завершается пророчествами ветхозаветных царей Давида и Соломона о новозаветных событиях. Причем пророчества Давида выстроены хронологически: от непосредственно связанных с Богородицей (введение во храм, благовест-вование Гавриила, встреча с Елисаветой) до крестных страданий, воскресения и вознесения Христа, а также сошествия Святого Духа на апостолов.
В пророчествах Давида и Соломона преобладает именно иносказательно-аллегорический метод истолкования, традиционно противопоставляемый типологическому. Например, в палейных пророчествах Давида «гора Божия – гора тучна, гора усырена, гора, юже благоволи Бог жити на ней» (ТСЛ 38. Л. 195 об., стб. 780) из 67-го псалма – аллегория Богородицы. Метод прорицаний царя Соломона охарактеризован следующим образом: «по даней ему от Бога мудрости, створи притчами и гадании, и су-домь меру положи и число, хытростью не-раздрешимыя потаеныя уведати створи на ясньство; привлеча стезями глубины неудобь изъследимыя, о всячьскых глагола» (ТСЛ 38. Л. 206, стб. 822). В этой характеристике явно преобладает иносказательнопритчевая методология истолкования «утаенных» смыслов. В палейных пророчествах Давида есть даже целый раздел под названием «потаеныя вещи укрывая» (ТСЛ 38. Л. 195, стб. 777). Можно сказать, динамика развития палейной экзегезы направлена от типологии к аллегорезе. Одна толковательная система замещается другой, в итоге – единство двух методов и двух повествовательно-содержательных уровней.
Ветхозаветная и новозаветная «история» излагается не последовательно, а как две параллельные повествовательные конструкции. Скрепляют их типологическая экзегеза и тема идеального правителя – от Вседержителя к Давиду и Соломону, а от них к самому Христу – Устроителю нового миропорядка.