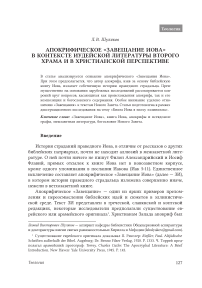Апокрифическое «Завещание Иова» в контексте иудейской литературы второго храма и в христианской перспективе
Автор: Шуляков Леонид Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 2 (73), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется описание апокрифического «Завещания Иова». При этом предполагается, что автор апокрифа, взяв за основу библейскую книгу Иова, излагает собственную историю праведного страдальца. Преимущественно на основании зарубежных исследований рассматривается широкий круг вопросов, касающихся как происхождения апокрифа, так и его композиции и богословского содержания. Особое внимание уделено отношению «Завещания» к текстам Нового Завета. Статья подготовлена в рамках диссертационного исследования на тему «Книга Иова в эпоху эллинизма»
"завещание иова", книга иова, апокрифы и псевдоэпи- графы, межзаветная литература, богословие нового завета
Короткий адрес: https://sciup.org/140190278
IDR: 140190278
Текст научной статьи Апокрифическое «Завещание Иова» в контексте иудейской литературы второго храма и в христианской перспективе
История страданий праведного Иова, в отличие от рассказов о других библейских патриархах, почти не находит аллюзий в межзаветной литературе. О ней почти ничего не пишут Филон Александрийский и Иосиф Флавий, прямых отсылок к книге Иова нет в новозаветном корпусе, кроме одного упоминания в послании Иакова (Иак 5:11). Единственное исключение составляет апокрифическое «Завещание Иова» (далее — ЗИ), в котором история праведного страдальца изложена совершенно иначе, нежели в ветхозаветной книге.
Апокрифическое «Завещание» — один из ярких примеров преломления и переосмысления библейских идей и сюжетов в эллинистической среде. Текст ЗИ представлен в греческой, славянской и коптской редакциях, некоторые исследователи предполагали существование еврейского или арамейского оригинала1. Христианам Запада апокриф был
практически неизвестен, тогда как на Востоке, в славянских рукописных сборниках, текст бытовал вплоть до XVIII в. Этот самобытный памятник ставит перед исследователем иудеохристианской литературы и Нового Завета множество вопросов. В данной статье уделяется внимание некоторым из них.
Книга Иова и «Завещание Иова»
ЗИ можно назвать своего рода мидрашом Септуагинты книги Иова. Композиция ЗИ противоположна библейской: вместо сочетания лаконичного прозаического пролога (Д. Клайнз метко назвал его faux naïf )2 и долгих поэтических диалогов, в наивный нарратив апокрифа включены краткие диалоги, гимны и молитвы. Автор предлагает собственное развитие сюжета, цель его экзегезы — дать однозначный ответ на вопрос о причине страданий праведника.
В ЗИ3 рассказано о том, как Иов, которого прежде звали Иовавом (так он отождествляется с потомком Исава, упомянутым в Быт 36), царь всего Египта, однажды пожелал узнать истинного Бога. После того как он усомнился в законности языческих жертвоприношений, ему явился свет, поведавший, что эти жертвы приносятся не Богу, но дьяволу. Иов, предупрежденный о мести, которую обрушит на него дьявол, разрушает языческий храм. Этой местью и объясняются все бедствия Иова, которые тот в будущем мужественно выдержит. На втором плане разворачивается история злоключений первой жены Иова по имени Ситида, которую также искушает сатана. Терпение помогает Иову одержать победу в борьбе с дьяволом. В награду он получает магические пояса, исцелившие его от болезни, и передает их своим дочерям. Надев пояса, дочери обретают ангельские свойства и дар глоссолалии. В финале «Завещания» Иов умирает. Его тело погребают с почестями, а душу возносит на небо посланник на лучезарной колеснице.
Обращение к канонической книге не сводится к ее цитированию. Септуагинта для автора ЗИ — своего рода палитра: он берет из нее фрагменты текста и, свободно смешивая их между собой, дополняет собственную историю. В качестве примера можно рассмотреть описание дома и богатства Иова времен его благополучия. Автор совмещает рассказ об имуществе патриарха (семь тысяч овец, три тысячи верблюдов, пятьсот быков и пятьсот ослов (Иов 1:3) с его речью о времени былого благополучия (Иов 29–31, состоящей из ряда риторических вопросов4:
Немощные не были лишены того, в чем нуждались, очами вдовиц я не пренебрегал.
Разве я съедал свой кусок один и не делился им с сиротой? <…>
Разве я оставил без внимания погибающего нагим и не одевал его?
Разве немощные не благословили меня, когда плечи их были согреты от пострижения моих агнцев? (LXX Иов 31:16–20)
В ЗИ мы читаем следующий текст:
У меня было сто тридцать тысяч овец, и я отделил от них семь тысяч, чтобы стричь для одевания сирот, и вдов, и бедных, и немощных, была у меня свора из восьмисот собак5, стороживших мой дом. У меня было девять тысяч верблюдов, из которых я выбрал три тысячи, чтобы работали по всем городам, навьючив их добром, я послал их в города и селения, приказывая им удалиться и раздавать немощным, и нуждающимся, и всем вдовам. И было у меня сто сорок тысяч ослов пасущихся, я выбрал от них пять сотен и приказал продавать потомство от них и раздавать бедным и нуждающимся.
Мы видим, что автор не только преувеличивает состояние Иова, но и подчеркивает, что богатства используются для помощи нищим. Слово «немощный» (ἀδύνατος), являясь одним из ключевых в построении греческого текста LXX Иов 29–31, становится также лейтмотивом апокрифического рассказа6.
Ярким примером экзегетического метода автора служит история исцеления Иова. Слова Бога, обращенные к Иову: «Препояшь, как муж, бедра твои; спрошу тебя, а ты отвечай мне» (Иов 38:3), интерпретированы следующим образом в сцене распределения Иовом наследства между дочерями:
И сказал им отец: «Не только на них будете жить, но пояса приведут вас в лучший век, чтобы жить на небесах. Знаете ли вы, дети, цену этих поясов? Ими меня наградил Господь в тот день, когда захотел сделать мне милость и освободить тело мое от язв и червей. Позвав меня, Он подал мне эти три пояса, говоря мне: «Восстань, препояшь бедра твои, как муж. Я спрошу тебя, ты же — отвечай мне». Я же, взяв, препоясался, и тотчас невидимы стали с тех пор черви на теле моем, так же как и язвы. И наконец тело мое укрепилось от Господа, будто и вовсе никогда не страдало (ЗИ 47:2–7).»
Датировка и происхождение
Первоначальный греческий перевод книги Иова ( Old Greek) , выполненный, вероятно, во ΙΙ в. до Р. Х., можно рассматривать как terminus post quem для ЗИ. Вторичность апокрифа по отношению к тексту Септуагин-ты не вызывает сомнений7. При этом границы верхней датировки ЗИ сильно различаются. Большинство ученых предполагают, что основной текст был создан не позднее ΙΙ в. по Р. Х., допуская возможность позднейших редакций. При этом в недавно изданной монографии о происхождении псевдоэпиграфов Д. Давила предположил, что ЗИ могло появиться в христианском Египте V в.8 Столь сильные расхождения в датировке объясняются нерешенностью вопроса о том, в какой среде был написан апокриф, иудейской или христианской?
Большинство исследователей разделяют мнение об иудейском происхождении. Весомыми аргументами для этого являются некоторые ключевые пассажи текста, такие как отнесение потомства Иова к «избранному и чтимому роду от семени Иакова» (ЗИ 1:5), запрет смешанных браков (ЗИ 45:3) и очевидное отсутствие исповедания Христа. Трактат Авот, комментируя книгу Иова, практически буквально передает некоторые детали ЗИ, что свидетельствует, по замечанию М. Чимозы, о существовании
«общего поля экзегетических размышлений над текстом (книги Иова) в среде раввинов в межзаветный период»9. Еще одним аргументом может служить обрамление текста в форму «завещания», имеющую основой предсмертные благословения и прощальные беседы праотцев, пророков и праведников (Быт 47–50 (благословение Иакова) и Втор 31–34 (прощальная беседа, пророчества и рассказ о погребении Моисея))10.
Высказывались разные точки зрения о том, в каком регионе могло быть написано ЗИ. Палестинское происхождение отстаивал М. Делькор, проводивший параллели между ЗИ и фрагментом молитвы вавилонского царя Набонида, дошедшей до нас в одном из кумранских свитков (4QPrNab). Он предположил, что изображение сатаны как царя персов в 17-й главе связано с завоеванием Палестины парфянским царем Пако-ром I в 40 г. до Р. Х11. Впоследствии Д. Коллинз назвал это сопоставление крайне неубедительным, указывая, что персы являлись традиционными врагами египтян. Он полагал более вероятным мотивом написания ЗИ, восхваляющего долготерпение, жестокие притеснения иудеев в Египте в I в. по Р. Х.12. Похожую гипотезу выдвинул недавно В. Груэн, предположивший, что автора апокрифа вдохновило восстание иудейской диаспоры во время правления императора Траяна (98–113). По его мнению, рассказ о разрушении Иовом языческого храма, нетипичный для иудейской литературы этого периода, может быть связан с событиями иудейских антиримских восстаний рубежа I–II вв.13
Таким образом, отсутствие каких-либо явных исторических аллюзий в ЗИ делает любые предположения о точном времени и месте его написания в той или иной степени спекулятивными. Упоминание приношения Иовом тельца «на жертвенник Бога» (ЗИ 15:9) и жертвы Иова за друзей (ЗИ 42:8) не может служить убедительным свидетельством того, что апокриф был написан в Палестине до 70 г. по Р. Х. (года разрушения Иерусалимского храма)14. Также очевидно, что восхваление долготерпения и мученичества за веру становится важным мотивом многих произведений, написанных с начала Маккавейских войн.
Однако гипотеза о египетском происхождении ЗИ представляется наиболее вероятной. Убедительными доводами служит то, что Иов назван «царствующим над всем Египтом» (ЗИ 28:7), и существование древнейшего коптского перевода IV в., свидетельствующее о популярности апокрифа в Египте. Более спорным представляется аргумент Р. Шпиттлера, сравнившего собирание Иовом драгоценных камней, упомянутое в апокрифе (ЗИ 28:4, 32:5), с рассказом Феофраста ( De lapidibus 24:55 ) о подобном обычае египетских царей15.
Возможно, апокриф был написан в среде одной из многочисленных иудейских мистических групп. К. Кохлер полагал, что это могли быть ессеи16, М. Филоненко предлагал искать Sitz im Leben ЗИ в кругу терапевтов17. Описание богослужений терапевтов в трактате «О созерцательной жизни» Филона Александрийского действительно напоминает экстатические гимны дочерей Иова в заключительных главах. По мнению П. Ван дер Хорста, то место, которое занимают жены и дочери Иова в повествовании (из 388 стихов ЗИ женщины фигурируют в 107), «в высшей степени необычно для ранней иудейской литературы» 18. Это дает основание предположить, что в среде религиозной группы, из которой произошло ЗИ, женщины играли особую харизматическую роль19. Интересные подтверждения этой гипотезе находит Д. Цильм, сравнивающая апокриф с некоторыми кумранскими текстами, в первую очередь с «Песнью субботнего жертвоприношения» и списком «Дамасского документа» (4Q270). Она приходит к выводу о схожести богословских воззрений авторов этих текстов, придающих особое значение харизматической молитве, в результате которой человек обретает ангельские свойства. Подобное молитвенное состояние достигается лишь при облачении в особые одежды, важнейшая характеристика которых — многоцветность20. Близость идей апокрифа к кумранским текстам, позднебиблейским сочинениям (книга Товита и книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова) представляется перспективной для дальнейшего изучения.
«Завещание Иова» и Новый Завет
Несмотря на приведенные выше аргументы в пользу иудейского происхождения, очевидно сходство некоторых богословских терминов и идей ЗИ и текстов Нового Завета. Наглядным примером служит изображение дьявола. Череду испытаний, которым сатана подвергает Иова, можно сравнить со сценой искушения Христа в пустыне. Искушая Господа, дьявол предлагает Ему все царства и всю славу мира, если Он поклонится ему и, получая отказ, отходит то него «до времени» (Лук 4:13; ср. Мф 4:1–11). В апокрифе Иов, лишенный своего царства, неоднократно говорит, что ни во что не ставит славу этого мира, «которая погибнет, а посвятившие себя ему пребудут с ним в гибели его» (ЗИ 33:4). После победы, которую он одерживает в 27-й главе, сатана отступает от него «на три года» (ЗИ 27:6).
Цель дьявола, которым, как сказано, «вводится в заблуждение человеческая природа» (ЗИ 3:3), — обманом отвратить Иова от Бога и сделать своим служителем. Для этого он, до того как лишить Иова имущества, семьи и здоровья, переодевается нищим и приходит просить у него хлеба (ЗИ 7:1–2). Эту сцену можно рассматривать как символическое жертвоприношение или теоксению, гостем которой становится дьявол. Просьба о хлебе имеет скрытой целью получить, пусть и нечестным путем, жертвенное приношение. Но Иов разгадывает замысел и предлагает сатане сожженный хлеб — знак презрения и отвержения21.
Превращение в нищего — не единственная уловка дьявола, который постоянно меняет свой облик (использован глагол μετασχηματίζω ), становясь то королем Персии, то вихрем, то продавцом хлеба. О том же свойстве мы узнаем из Послания к Коринфянам, в котором сказано, что дьявол может принимать вид (μετασχηματίζεται) Ангела света (2 Кор 11:14). Но дьявол не в силах обмануть Иова, который разгадывает его замыслы и предупреждает жену о том, что «сатана стоит позади нее и смущает ее мысли». Эту сцену можно сопоставить со вхождением сатаны в Иуду Искариота (Лк 22:3) и обращением Христа к прекословящему Ему Петру: «Отойди от Меня, сатана!» (Мф 16:23; Мк 8:33). Сравнение дьявола со змеей и драконом в гимне, проклинающим Елиуя (ЗИ 43), находит многочисленные аллюзии в Апокалипсисе (Откр 12:3; 12:8). В том же гимне Елиуй, отожествляемый с сатаной, назван, как и в Евангелии от Матфея (Мф 13:19, ср. Мф 6:13), «злодеем» (πονηρός). Еще одна возможная тема сопоставления — понятие о власти (ἐξουσία) сатаны и власти человека над ним. Сатана, прежде чем поразить имущество и тело Иова, получает на то власть от Бога (ср. Деян 26:18). Иов также просит у Бога власть, чтобы разрушить языческое капище. В Евангелиях неоднократно подчеркивается, что Христос и Его ученики имеют власть над злыми духами (Мф 10:1; Мк 1:27; 3:15; 6:7; Лк 7:8; 9:1; 10:19)22.
Интересные параллели между ЗИ и Новым Заветом мы также находим во внеевангельском свидетельстве о глоссолалии (ЗИ 48–50)23 и сцене поставления ангелом печати на Иова (символика и семантика глагола σφραγίζω, часто употребляемого в Апокалипсисе (Откр 7:3–8; 9:4)). Есть и лексические сходства: например, часто употребляемый апостолом Павлом оборот μὴ γένοιτο (см. ЗИ 38:1), крайне редок для Септуагинты и не встречается в других межзаветных текстах, за исключением «Повести об Иосифе и Асенефе». Подробный анализ некоторых сходных с языком Нового Завета оборотов и богословских формул, а также эсхатологии, был выполнен Д. Раненфюрером24.
Учитывая вышеизложенное, легко объяснить сомнения М. Джеймса в иудейском происхождении текста. Он пишет, что «поначалу он считал текст бесспорно иудейским и дохристианским, но потом поменял свое мнение». Джеймс предполагает, что автор был евреем по рождению, но после, обратившись в христианство, перевел и переработал иудейское предание об Иове25. Эта гипотеза, высказанная на заре изучения ЗИ, нашла отголосок у Д. Давилы26.
Заслуживает внимание позиция Ф. Шпитты. Исследователь доказывал существование единой модели для описания страданий Иова и Христа27, считая апокриф произведением дохристианским. Он указывал на следующие параллели: Христос и Иов — оба царского рода (1), помогают нищим (2), борются с сатаной (3), их страдание — позор в глазах окружающих (4), они прощают своих врагов (5), верят в воскресение мертвых (6), по смерти погребаются (7), а после прославляются Богом (8)28. Шпитта предполагает, что апокрифическая история Иова могла служить, наряду со страдающим Рабом Яхве (Ис 53) и героем 21-го (22-го по масоретской нумерации) псалма, прообразом страдания и искупительной жертвы Спасителя.
Восприятие книги Иова как прообраза страданий Христа встречается в большинстве святоотеческих толкований, а паремии Иова читаются на службах Страстной седмицы. Апокрифическая история оказала несомненное влияние на восприятие праведного Иова в позднейшем христианском искусстве29 и, возможно, повлияла на текст службы Иову.
Тенденция к «санктификации» Иова, представлению его более терпеливым в сравнении с древнееврейским текстом, прослеживается уже в Септуагинте. Апокрифическое ЗИ, в свою очередь, начинает восприниматься в христианской традиции в качестве своего рода житийного текста. Вероятно, среди преследуемых за веру христиан апокрифическая история Иова становится одним из первых примером мученичества. Страдания за веру, представленные как поединок с дьяволом, былое богатство Иова и его презрение к нему ради Небесного Царства, а также идеал благотворения имеют параллели в коптских мученических актах30. Восприятие апокрифа как житийного текста находит продолжение также в славянской перспективе31. Популярность текста, по мнению М. Хараламбакис, объясняется его адаптацией в монашеской среде к нуждам и интересам различных эпох в качестве «поучительной, назидательной и увлекательной истории о персонаже, который почитается среди святых»32.
Заключение
Вопросы происхождения ЗИ и природы упомянутых выше сходств с новозаветным корпусом остаются открытыми. Гипотеза о том, что автор был христианином, создавшим рассказ, строго следующий ветхозаветным реалиям, не дает убедительного объяснения синтезу иудеоэллини-стической экзегезы и отдельных новозаветных богословских воззрений. Этот синтез роднит ЗИ с другим сочинением той же эпохи — «Повестью об Иосифе и Асенефе». Исследователи отмечали схожесть текстов на уровне лексики и терминов, но эти апокрифы похожи также на уровне жанра, содержания и богословских идей. Их главные герои — Иов и Асе-нефа — не причисляются в еврейской Библии к народу Израиля. Апокрифические истории рассказывают об их обращении, которое начинается с разрушения языческих идолов и дарования нового имени, а завершается соединением в браке с представителем иудейского народа: Иов берет себе новой женой дочь Иакова Дину, а Асенефа выходит замуж за Иосифа.
Их обращения, которым предшествует Богоявление, сопровождаются добровольным принятием скорбей и отказом от земных благ. За обращением следует восстание на героев враждебных сил, над которыми Иов и Асенефа одерживают победу. Оба памятника прославляют добродетели героев: целомудрие и покаяние Асенефы и благотворение и терпение Иова. В них повествуется об их личном мистическом опыте и небесном воздаянии. Возможно, более детальное исследование типологического сходства двух апокрифов поможет больше узнать об их происхождении.
Повесть об Иове, о его обращении к истинному Богу, терпении страданий и вознесении на небо, изложенная в ЗИ, была создана в совершенно иную эпоху, чем библейская книга, и разительно отличается от нее. Тем не менее, апокриф несомненно повлиял на формирование у будущих поколений христиан образа праведного Иова.