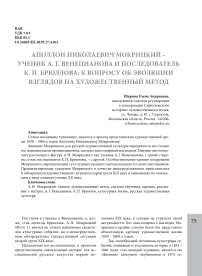Аполлон Николаевич Мокрицкий - ученик А.Г. Венецианова и последователь К.П. Брюллова: к вопросу об эволюции взглядов на художественный метод
Автор: Шарова Елена Андреевна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Имена и события прошлого
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена художнику, педагогу и яркому представителю художественной среды 1830-1860-х годов Аполлону Николаевичу Мокрицкому. Значение Мокрицкого для русской художественной культуры определяется не столько его живописными произведениями, сколько эпистолярным наследием. Именно оно позволяет рассмотреть фигуру А.Н. Мокрицкого как ученика А.Г. Венецианова, с одной стороны, и как последователя К.П. Брюллова, - с другой. Особое внимание уделено воззрениям Мокрицкого, определяющим суть художественного метода каждого из своих наставников. Проанализированы суждения Мокрицкого в качестве непосредственного представителя и обозревателя художественной ситуации второй трети XIX века и занимаемая по отношению к нему позиция ученых XX века.
А.н. мокрицкий, педагог, художественный метод, система обучения, картина, рисование с натуры, а.г. венецианов, к.п. брюллов, культурная жизнь, русская художественная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/170174203
IDR: 170174203 | УДК: 7.01 | DOI: 10.34685/HI.2019.27.4.011
Текст научной статьи Аполлон Николаевич Мокрицкий - ученик А.Г. Венецианова и последователь К.П. Брюллова: к вопросу об эволюции взглядов на художественный метод
Поступив в ученики к Венецианову, а, позже, став адептом Брюллова, А.Н. Мокрицкий (Фото 1.) явился не только невольным свидетелем культурных событий, но и непосредственным обозревателем художественной ситуации второй трети XIX века.
Написанные им воспоминания, в прошлом представлявшие значительный интерес для исследователей русского искусства первой по- ловины XIX века, и сегодня не утратили своей актуальности. Без эпистолярного наследия Мокрицкого крайне сложно было бы представить объективную картину художественной жизни 1830 – 1860-х годов.
Так, своеобразной летописью культурных событий, очевидцем и участником которых в 1834 – 1840 годах стал молодой художник, является его «Дневник» (документ опубликован в 1975 го-

Фото 1. Автопортрет. 1830-е гг. Х.м. (ГТГ).
ду в книге «Дневник художника А.Н. Мокрицкого» со вступительной статьей и примечаниями Н. Л. Приймак). Созданные им позднее мемуары – основанная на записях «Дневника» статья «Воспоминание о Брюллове» (1855) и очерк «Воспоминания об А.Г. Венецианове и учениках его» (1857) – содержат в себе ценнейшую информацию о педагогических взглядах, способах преподавания и художественном методе обоих его наставников.
Как Венецианов, не прошедший систематического обучения и отличавшийся независимостью взглядов, которые сформировались вне русла академических традиций, так и блестяще окончивший Академию художеств Брюллов, говорили о важности натуры, являющей основу искусства. При этом отношение к натуре, подход к её познанию были разными.
Изучение натуры легло в основу созданной Венециановым системы подготовки художника. Работе с натуры придавалось большое значение и в академической системе обучения XVIII – начала XIX века, однако этот процесс признавался только как средство формирования и закрепления определенных художественных навыков, зрительному восприятию при этом отводилась второстепенная роль. В системе Венецианова процесс познания действительности был принципиально иным. Здесь натура и её восприятие чело- веком были неразрывно связаны, при этом первая целиком обусловливала второе. Именно законы зрительного восприятия давали возможность воссоздать точную картину того, что предстает перед художником в натуре. Для первой половины XIX века такое предпочтение, отдаваемое «глазу», а не предмету как таковому, по словам исследователей русской художественной школы, имело глубоко прогрессивный смысл1. Однако этот принцип имел и свои минусы: научившийся хорошо работать с натуры, но при этом не изучивший предмет как таковой, ученик Венецианова сталкивался с серьезными трудностями при создании картины. В академической же системе основу обучения составляло изучение основных качеств натуры, каждого предмета и составляющих его частей в отдельности. Впоследствии это существенно облегчало задачу изображения без натуры любого предмета и в любом положении. Он овладевал изобразительным языком, на котором мог свободно «говорить» в последующем.
В «Воспоминании об А. Г. Венецианове и учениках его» Мокрицкий повествует не только о пе-дагогической деятельности своего наставника и созданной им системы обучения, но и о целом явлении в русском искусстве первой половины XIX века, получившем название «школа Венецианова».
Возникшая как художественно-образовательный центр в начале 1820-х годов, она просуществовала более четверти века. Как исторически локальное явление «школа» пережила свой пик, пришедший на начало 1830-х годов (именно в это время Мокрицкий стал учеником Венецианова) и неизбежно последовавшее за ним угасание. Она растворилась, ушла на второй план, уступив место адептам Брюллова (что, однако, не означает бесперспективность данного явления в целом).
Обучавшийся сначала у Венецианова, а впоследствии ставший учеником и поклонником таланта Брюллова, Мокрицкий явился личностью внутри художественного процесса. В очерке, посвященном Венецианову, подробно описывая систему, по которой Венецианов обучал своих учеников, Мокрицкий определяет и суть его художественного метода. Отвергавший первоначальное рисование с так называемых оригиналов Венецианов начинал обучение сразу с гипсов, а так же с простых предметов обихода: коробочки, стул, фуражка, яйцо, корзинка. Рисуя эти вещи, ученик должен был вместе с линиями привыкнуть и к осязанию форм, их трёхмерности.
Особенность венециановской системы заключалась и в технике рисунка. Венецианов, по словам Мокрицкого, не гонялся за красивым штрихом. В процессе длительного рисования с оригиналов ученик привыкал к «красивым рогожкам», которые, однако, оказывались бессмысленными для понимания формы предмета и последующей передачи его объема. Таким образом, копирование, рисование с образцов для Венецианова, как пишет Мокрицкий, это «бесполезная трата времени». Обучение в его «школе» основывалось на изучении натуры и антиков, так как именно в процессе изображения объемной формы приобретается мастерство.
К слову, рисование с оригиналов, в котором Венецианов видел бесполезную трату времени, являлось начальным (по сути – основополагающим) этапом обучения в Академии художеств: рисование в классе оригиналов предшествовало занятиям в гипсовом классе, после которого следовал класс натурный. Сам Мокрицкий, чьи педагогические взгляды в целом были ориентированы на академические принципы, говорил: «Ученик, прежде чем пользоваться натурой, должен изучить рисунок и живопись по образцам великих маэстро…»2.
«Когда ученик Венецианова приступал к писанию красками, – продолжает Мокрицкий, – то те же самые несложные предметы служили ему образцами: гипсовые головы, ленты, фрукты, стеклянные и металлические вещи – до тех пор, пока он не ознакомится с употреблением красок и кистей. Для большей занимательности составлялись небольшие группы из разных мелочей: кабинетных вещиц, дамского туалета или цветов и фруктов»3. Изображая подобные предметы, воспитанник Венецианова учился видеть и передавать не только их цвет, но материальное раз-
2 Перов В. Г. Рассказы художника / Сост., вступ. ст. и при-меч. А. Леонова. М., 1960. С. 103.
личие, бархата, к примеру, от атласной ленты. По сути именно Венецианов первым в России ввел натюрморт в систему обучения живописи. После написания небольших этюдов с различных вещей, следовало изображение интерьера с «множеством предметов разных форм, родов и материальной сущности». «Ученика, – пишет Мокрицкий, – ознакомившегося таким образом с красками, сажал Алексей Гаврилович в Эрмитаже или во дворце для написания перспективы»4. Предварительно под живопись выполнялся точный рисунок дворцового интерьера или «внутренность» комнаты. Стремясь быть верным натуре, он передавал материальное различие предметов, пространство и перспективу. Таким образом, Мокрицкий не только определяет суть художественного метода Венецианова, но и его результативность: картинка, выполненная учеником с натуры в процессе обучения, становится произведением искусства.
Несмотря на единую методу, обучение и воспитание в школе Венецианова осуществлялись дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей учеников: каждый из них видел по-своему и имел свою собственную манеру письма. Благодаря такому подходу, среди учеников, по словам Мокрицкого, царило равенство. Наставник бережно и с большим уважением относился к дарованию ученика и предоставлял свободу для развития его таланта.
Этот венециановский принцип обучения – уважение самобытности ученика, – оказался крайне важен для формирования Мокрицкого-педагога. Когда он преподавал в Московском училище живописи и ваяния, в 1857 – 1858 годах в стенах этого учебного заведения разгорелась дискуссия, вызванная «Мнением» С.К. Зарянко о методе преподавания. Мокрицкий, ставший в этом споре главным оппонентом Зарянко, отстаивал академическую систему обучения, но считал при этом недопустимым со стороны преподавателя подавлять самобытность ученика навязываемой методой. Кроме того, в своих занятиях с Шишкиным (И. И. Шишкин учился в Московском училище живописи и ваяния с 1852 по январь 1856 года), по мнению исследователей жизни и творчества известного пейзажиста, он в первую очередь использовал педагогические принципы Венецианова5. Культ Брюллова, как полагают некоторые искусствоведы, не заглушил в Мокрицком основ, усвоенных в «венециановской школе» и в своей преподавательской деятельности он во многом отталкивался от художественного метода Венецианова. Это заметно по некоторым работам Шишкина, выполненным во время обучения в Московском училище. Этюд «Комнаты в квартире Мокрицкого» может служить примером учебной задачи по овладению интерьерным жанром, игравшим у венецианов-цев большую роль, а его пейзажи во многом свидетельствуют о том самом следовании натуре, на котором базировалась созданная Венециановым система обучения6.
«Воспоминание об А.Г. Венецианове и учениках его», опубликованное к десятилетию со дня смерти художника в 1857 году, написано непосредственным представителем художественной среды второй трети XIX века. При этом изложенные в статье суждения Мокрицкого в качестве критика и обозревателя событий современной ему культурной жизни существенно отличаются от позиции, занимаемой учеными XX века.
Так, в начале 1980-х годов Т. В. Алексеева в своей работе «Художники школы Венецианова» указывает на то, что воспоминания Мокрицкого, написанные в разгар споров, которые возникли в Московском училище живописи и ваяния вокруг предлагавшихся там нововведений, должны были доказать преимущества старых академических традиций и отвести деятельности Венецианова положенное ей скромное место7. Более того, по словам Т.В. Алексеевой, в своём очерке, повествуя о делах своего первого наставника, Мокрицкий невольно, а в ряде случаев и сознательно, искажал смысл его деятельности и сущность понимания им искусства. Обнаруженное искажение, скрытое «за внешне благожелательным тоном», является не явным и тонким. Кроме того, как замечено Т.В. Алексеевой, на двусмысленный характер статьи Мокрицкого, указывал
-
5 Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике / Сост., вступ. ст. и примеч. И. Н.Шуваловой. – 2-е изд., доп. Л., 1984. С. 5.
-
6 Пикулев И. И. Иван Иванович Шишкин. 1832 – 1898. М., 1955. С. 27-28.
-
7 Алексеева Т. В. Художники школы Венецианова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1982. С. 12.
еще А.М. Эфрос, ярчайший представитель отечественной художественной критики 20 – 30-х годов XX века.
А.М. Эфросом и А.П. Мюллер составлена книга «Венецианов в письмах художника и воспоминаниях современников»8, вышедшая в свет в 1931 году, в которой был собран богатый историко-документальный материал, связанный с жизнью и творчеством живописца, в том числе и «Воспоминание об А.Г. Венецианове и учениках его» Аполлона Мокрицкого. В статье «Венецианов в оценке бывшего ученика», послужившей предисловием к «Воспоминанию», А.М. Эфрос обнаруживает, что, повествуя о школе Венецианова, Мокрицкий подводит итоги отжившему явлению. Как замечает ученый, суждения академика Мокрицкого – лица, самым прямым образом связанного с теми, о ком он говорил, имели авторитет. Так, именно очерк Аполлона Мокрицкого, напечатанный в руководящем журнале «Отечественные записки», получил определяющий характер и на протяжении полувека (с 1840-х по 1890-е годы) являлся единственным художественно-критический документом, который можно считать выразителем отношения второй половины XIX века к Венецианову и его школе.
«Воспоминание», по мнению А.М. Эфроса, меньше всего имеет вид нападения. Скорее наоборот, кажущееся похвальным словом и возданием за заслуги, оно «как будто ласково и признательно», «как будто преемственно, объективно и исторично». «Однако, – продолжает критик, – это только видимость. По существу «Воспоминание» есть акт отрицания. Приветливая, почти задушевная словесная вязь Мокрицкого начинает для внимательного читателя казаться сначала двусмысленной и затем негативной»9. Он хвалит Венецианова, но похвала, по сути, уничижительна.
Действительно, при прочтении «Воспоминания», находим, что «старичок» Венецианов «был слишком слаб и добр», а ученик его, представитель «этой маленькой школы», «не отличавший- ся особенным образованием», «рабски копируя натуру» «с небольшим трудом» выполнял «приятную картинку», где «правдоподобие предметов достигалось через слепое подражание».
Мокрицкий, по мнению А.М. Эфроса, – «брюлловец, изменивший венециановской семье». Он сделал то, что сделали все, когда «Последний день Помпеи» ввел Карла Брюллова триумфатором в русское искусство, принял свет истины в обновленном академизме. Как считает искусствовед, венециановские годы для Мокрицкого – лишь школьная пора, обучавшая первым шагам в искусстве. Тот, кто сумел подняться над нею, тот вышел на большой путь. Тот, кто остановился в рамках венециановской школы, тот устранен из развития отечественной живописи и лишен будущего.
С мнением критика нельзя не согласиться, ведь, по словам самого Мокрицкого, ученики Алексея Гавриловича, тихо и скромно ушедшие «со сцены художественной деятельности» и удалившиеся «в мирные уголки России», подобны звездочкам, сошедшим с небесного свода «при блеске великолепного солнца» – Карла Брюллова.
В исторической перспективе развития искусства «школа» Венецианова, действительно, представляет собой яркое вневременное явление. Непосредственным очевидцем ее расцвета и неизбежного угасания стал Мокрицкий. Учеба у Венецианова явилась для него (как и для многих других воспитанников «школы») лишь начальным этапом в профессиональном становлении. Этот факт подтверждает сама метода обучения венециановской школы. «Ученики у Венецианова, – свидетельствует Мокрицкий, – знакомились со всеми предметами, потому что не знал он, какой кому придется избрать род живописи; знал только, что для каждого рода живописи нужно уметь написать то и другое, и третье»10.
Обозревая события культурной жизни, Мокрицкий, отнюдь не ставил себе цель уничижение заслуг Венецианова и значения его «школы». Мокрицкий – «свидетель», выразивший свой взгляд на творческий метод, а не «обвиняемый», каким он предстает нам в суждениях ученых XX века.
Как известно, уже обучаясь в Академии художеств, он продолжал занятия с Венециановым, как и прежде, пользовался его советами11. Со временем, однако, как отмечает Н.Л. Приймак, проанализировав записи «Дневника», терпимость и деликатность Венецианова вызвали в Мокрицком некоторую небрежность и даже пренебрежение к мнению учителя12. Именно в это время «восходило на горизонте искусства новое светило».
Мокрицкий стал учеником Брюллова (т. е. одним из «потерянных людей», как Венецианов называл тех своих воспитанников, которые, попав под обаяние славы и таланта Брюллова, изменили принципам пройденной «школы») и на протяжении всей своей жизни не переставал испытывать влияния его легендарной личности (в большей степени, как считают некоторые исследователи, именно личности, а не художественного метода Брюллова).
Деятельность Брюллова в качестве педагога, профессора класса портретной и исторической живописи, стала этапом в истории Академии художеств. В основе его творческого метода, помимо полученной академической школы, лежал принцип изучения натуры. Он настойчиво рекомендовал своим ученикам приобщаться к действительности, а картины, написанные без натуры, презрительно называл «отсебятиной»13. В своих взглядах Брюллов не был одинок, принцип следования натуре разделяли и другие педагоги Академии художеств. Его художественный метод не выходил за рамки доминирующей художественной системы. Однако понимание Брюлловым искусства существенно разнилось с официальными академическими установками. Он стремился обучать не столько профессиональному мастерству, сколько искусству как отклик на окружающую действительность. Отделение ремесла от творчества являлось основным принципом художественного метода Брюллова.
В статье «Воспоминание о Брюллове» Мокрицкий повествует о личностных качествах, творческих и педагогических установках своего учителя, которые во многом сформировали его не только как художника, но и как педагога.
Так, обучение рисунку – «азбуке искусства», играли у Брюллова первостепенную роль. Именно свободное владение рисунком позволяет художнику без затруднений передавать задуманное. «Не упускайте ни одного дня, не приучая руку к послушанию. – Наставлял Брюллов. – Делайте с карандашом то же, что делают настоящие артисты со смычком, с голосом – тогда только можно сделаться вполне художником…»14.
В последствии сам Мокрицкий, став преподавателем Московского училища живописи и ваяния (обучение в стенах которого основывалось на классических принципах и идеалах Академии художеств), будет уверен: рисунок – «важнейший принцип изобразительных искусств»15, а раньше времени предоставить ученику краски, не упрочив в нем рисунка, значит, вместо художника сделать из него маляра16.
От своих учеников Брюллов требовал, чтобы те как можно больше рисовали слепки с античной скульптуры. На изучении антиков, кстати, так же основывалось и обучение в «школе» Венецианова. Творчество в дальнейшем предполагало «слепое подражание», следование натуре. Академией художеств, напротив, утверждалось превосходство искусства над натурой. Эстетика объективной красоты оставалась незыблемой. Брюллов же считал, что, научившись передавать тело, нужно обращаться не к его идеализации, не к поправкам модели, а к попыткам более живо и правдоподобно его изображать. Знание человеческого тела, его строения было для Брюллова основополагающим.
Позже, Мокрицкий-педагог, сам убежденный в необходимости изучать строение человека, напишет: «Без знания анатомии, нельзя ни понять правильного рисунка и красот антиков в гипсовом классе, ни ступить шагу в натуре»17.
Большое значение имело и то, что ученик, посещавший мастерскую Брюллова, своими глазами мог видеть, как работает учитель. Некоторые произведения создавались буквально на глазах Мокрицкого. Кроме того, Брюллов систематиче- ски просматривал и даже изредка поправлял ученические работы. Этот живой показ много давал начинающим живописцам. Так же и Мокрицкий (очевидно, для большей наглядности), взяв палитру в руки, садился поправлять этюды учеников. Вслед за Брюлловым он обращал их внимание и на столь важную сторону художественного образования как овладение культурой прошлого. Образованный и начитанный он всегда был открыт для общения и, подобно Брюллову, стремился расширить кругозор своих учеников.
Мокрицкий, хотя и применял в своей педагогической практике принципы художественного метода Венецианова, был твёрдо убежден, что стремление следовать натуре непременно должно «сопровождаться чувством составить картину»18. Картина при этом – не просто учебная работа, выполненная в процессе овладения художественным ремеслом, не «продукт» изучения натуры, не её точная копия. Картина для Мокрицкого – это произведение искусства, логически завершенное целое, интеллектуальный и живописный труд художника, который прошел крепкую академическую школу. Изученная за время учебы натура является инструментом для её создания.
Не случайно и то, что именно словами Брюллова завершается «Автобиография» Мокрицкого: «Душа художника как зеркало, должна отражать в себе всю природу; образованный вкус его выберет из неё прекрасное, а талант передаст ее в картине»19.
В воззрениях Мокрицкого, как художника, а в большей степени как педагога, соединились принципы обучения и Брюллова, и Венецианова. Формирование его педагогических взглядов происходило пусть и в неравной степени, но под воздействием личности и творческого метода каждого из учителей.
Список литературы Аполлон Николаевич Мокрицкий - ученик А.Г. Венецианова и последователь К.П. Брюллова: к вопросу об эволюции взглядов на художественный метод
- Алексеева Т. В. Художники школы Венецианова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1982.
- Венецианов в письмах художника и воспоминаниях современников / Вступ. ст., редак-
- 18 Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике / Сост., вступ. ст. и примеч. И. Н.Шуваловой. - 2-е изд., доп. Л., 1984. С. 69.
- 19 Мокрицкий А. Автобиография // Художественный журнал. 1882. Т. 3. С. 158.
- ция и примеч. Абрама Эфроса и А. П. Мюллер. М.; Л., 1931.
- Государственный Русский музей. Генеральный каталог музейного собрания. Живопись. Т. 3. Первая половина XIX века (К-Я). СПб., 2008.
- Дневник художника А. Н. Мокрицкого / Вступ. статья и примечания. Н. Л. Приймак. М., 1975.
- Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике / Сост., вступ. ст. и примеч. И. Н.Шуваловой. 2-е изд., доп. Л., 1984.
- Мокрицкий А. Автобиография // Художественный журнал. 1882. Т. 3. С.147-158;
- Молева Н. Т., Белютин Э. Н. Русская художественная школа первой половины XIX века. М., 1963.
- ОР ГТГ, ф. 4, ед. хр. 89, л. 37.
- ОР ГТГ, ф. 33, ед.хр. 30, л. 2 - 2 об.
- ОР ГТГ, ф. 33, ед.хр. 30, л. 4 об.
- Перов В. Г. Рассказы художника / Сост., вступ. ст. и примеч. А. Леонова. М., 1960.
- Пикулев И. И. Иван Иванович Шишкин. 1832 - 1898. М., 1955.
- Рамазанов Н. А. Материалы для истории художеств в России. М., 1863. Кн. 1.
- Степанова С. С. Московское училище живописи и ваяния. Годы становления. СПб., 2005.