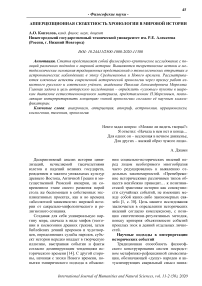Апперцепционная сюжетность хронологии в мировой истории
Автор: Коптелов А.О.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 11-2 (50), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой философско-критическое исследование с позиций различных подходов к мировой истории. Выявляются теоретические истоки и методологические основания традиционных представлений о технологических открытиях и астрономических наблюдениях в эпоху Средневековья и Нового времени. Рассматриваются ключевые аспекты современной исторической хронологии через призму работ известного русского и советского учёного, академика Николая Александровича Морозова. Главная задача и цель авторского исследования - определить «узловые» пункты в широком диапазоне естесственнонаучного материала, представленном Н.Морозовым, позволяющие интерпретировать концепцию «новой хронологии» согласно её научным классификаторам.
Анахронизм, апперцепция, апокриф, астрономия, иррационализм, космогония, теогония, хронология
Короткий адрес: https://sciup.org/170190695
IDR: 170190695 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11380
Текст научной статьи Апперцепционная сюжетность хронологии в мировой истории
Некто задал вопрос: «Можно ли видеть творца?» Я ответил: «Начала в нем нет и конца…
Для одних он - вселенная в вечном движенье, Для других - жалкий образ чужого лица».
Дескриптивный анализ истории цивилизаций, исчисляемой тысячелетиями взлетов и падений великих государств, рождением и закатом уникальных культур древнего Востока, Античной Греции и могущественной Римской империи, на современном этапе своего развития порой столь же беспомощен в собственных экс-пликативных проектах, как и во времена «абсолютной зависимости» мировой истории от сакрально-мифологического и религиозного сознания.
Создавая для себя универсальную картину мира, сначала в виде мифов (теогонии и космогонии древних греков), затем библейских деяний пророков и чудотворцев, определяющих судьбы народов, субъект истории нередко впадает в творческую иллюзию, выстраивая события и факты согласно доминирующим тенденциям исторического времени [14]. С другой стороны, начиная с эпохи Нового времени, попытки эмпирического подхода в объясне-
А. Джами нии социально-исторических явлений перед лицом необозримого многообразия часто редуцировались к выявлению отдельных закономерностей. «Пренебрежение историческими различиями типов обществ неизбежно приводит… к позитивистской трактовке истории как совокупности случайных событий, не имеющих между собой каких-либо закономерных связей» [1, с. 30]. Цель нашего исследования заключается в определении исторических явлений согласно комплексному, с позиции синтетически-регулятивных методик, поиску критерия объективности событий прошлых эпох и деяний отдельных личностей.
Научные подходы в интерпретации исторических событий
Традиционная способность философского конструирования систем посредством метафизико-рефлексивной символизации, обозначающей «душу» народов и актуализирующих сакральный смысл назна- чения истории (О. Шпенглер, А. Тойнби, К. Ясперс и др.), не всегда предполагает способы реализации фактического и дискурсивного в научном исследовании. С философско-мировоззренческой позиции история как наука, если она «претендует» на известную значимость, должна быть «освобождена» от трансформированных в неё спекуляций: мифов, религиозной символики, персонифицирующих и фетишизирующих элементов. Наличие их в исторической идентификации возможно только в диалектически «снятом» виде. Факты – объекты реального свойства, положенные в основание общественной практики, которая, в свою очередь, и формирует критерий научной ценности, являются единственными источниками эвристических возможностей в процессе познания явлений природы и общества. И, напротив, современная западная философия, выдвигая на первый план мировоззренческую проблематику, требует переосмысления «скучной и трезвой» истории, которая игнорирует все «высокое», все этическое и эстетическое. Иначе говоря, дискурсивному мышлению противопоставляется некое иррациональное созерцание, интуиция и т.д. Подобные взгляды в своё время уже отстаивали романтики и Шеллинг. В частности, последний, критикуя ограниченность метафизического метода, оперирующего формально-логическими средствами, утверждал, что подлинное знание должно быть абсолютно «свободным», что это такое «знание, к которому не ведут ни доказательства, ни умозаключения, ни вообще какое-либо понятийное опосредование, но только созерцание»! [3, с. 6]. Впоследствии, обосновывая и защищая иррационализм, Ф. Ницше утверждал, что без мистической интуиции человек и человечество обойтись не могут. «Мышление для нас средство не познавать, но обозначать, упорядочивать происходящее, делать его доступным для нашего употребления: так мыслим мы сегодня о мышлении; завтра, возможно, иначе» [12, с. 299].
Усиление иррационалистических тенденций во второй половине ХХ века, находит свое воплощение в искусстве, политике, религии, литературе и т.д. По этому поводу М. Хайдеггер заявляет о возвращении к метанаучному, метатехническому мышлению, что философия и наука не могут быть совместимыми. «Философия гонима страхом потерять престиж и уважение, если она не будет наукой. Бытие как стихия мысли приносится в жертву технической интерпретации мышления. «Логика» возникла со времен софистики и Платона как санкция на такую интерпретацию. Уместно ли тогда называть попытки снова вернуть мысль её стихии «иррационализмом»?» [13, с. 316]. В той же степени это относится и к проблеме понимания исторического процесса. А. Дильтей полагал, что для понимания истории главное – проникнуть в субъективно-чувственный мир исторических персонажей. Что касается самих исторических событий, то они, по Дильтею, «чтобы быть «интересными» для историка, должны стать «мертвыми». Только тогда можно будет исключить субъективное участие исследователя [1, c. 13]. Другими словами, требуется постоянный учет исторической дистанции между интерпретатором и текстом, всех значимых их обстоятельств. Это не только не затрудняет, а, напротив, способствует процессу понимания истории. Иначе рассматривал эту проблему Гегель, который неоднократно отмечал в своих произведениях, что сущность исторического духа заключается не в воспроизведении прошедшего как такового, а в мыслящем опосредовании с современной жизнью. «Подобного рода априорным способом исследования в наши дни грешат главным образом такие историки, которые выдают себя за чистых историков и в то же время при случае решительно высказываются против философствования – частично вообще, частично против философствования в истории» [4, с. 366].
Историк, изучая произведения того или иного автора, те или иные исторические события, должен учитывать, что авторская рефлексия, размышления, свидетельства участников событий не всегда соответствуют содержанию произведения, духу самого явления. Как писал О. Бальзак в своем предисловии к «Человеческой комедии»; «Я пишу при свете двух вечных ис- тин: религии и монархии, – необходимость той и другой подтверждается современными событиями, и каждый писатель, обладающий здравым смыслом, должен пытаться увести нашу страну по направлению к ней» [8, с. 13]. Однако, если обратиться к реальной стороне содержания произведений Бальзака, то он отнюдь не выступает в них как защитник католицизма и монархии. В «Человеческой комедии», – подчеркивал Ф. Энгельс, – Бальзак даёт нам самую замечательную реалистическую историю французского «общества», особенно «парижского света», описывая в виде хроники, почти год за годом, с 1816 по 1848 год, усиливающееся проникновение поднимающейся буржуазии в дворянское общество, которое после 1815 года перестроило свои ряды и снова, насколько это возможно, показало образец старинной французской изысканности. Он описывает, как последние остатки этого образцового, для него, общества либо постепенно уступали натиску вульгарного богача – выскочки, либо были им развращены… Вокруг этой центральной картины Бальзак сосредоточивает всю историю французского общества… Но при всем этом его сатира никогда не была более острой, его ирония – более горькой, чем тогда, когда он заставлял действовать именно тех мужчин и женщин, которым он больше всего симпатизировал, – дворян» [8, с. 11-12].
Сегодня представители исторической науки должны использовать по прямому назначению не только современный инструментарий, посредством которого они препарируют наличествующий материал – факты, но и активно привлекать ученых смежных областей знаний. Только коллективные исследования на стыке междисциплинарных отраслей науки способствуют правильной интерпретации исторических событий. Мы с особым вниманием отнеслись к исследованиям Н. Морозова, учитывая, вместе с тем, и научный скепсис, который не лишен оснований в ряде отдельных положений русского ученого. Но наша осторожность вызвана не сомнениями в «окончательном резюме» Н.Морозова, подведенном под хронологию И. Скалигера, а в отношении самой проблемы, которая содержит в своем теоретическом арсенале идеологические и религиозные аспекты конъюнктурного характера.
Главной задачей при систематическом научном анализе древних культур Н. Морозов считал согласование исторических фактов с данными естествозназна-ния, а основными методами, положенными в центр обширной культурологической и хронологической проблематики, стали:
-
1. Метод соответствия способа производства с материально-культурным развитием древних государств; этот метод характеризует экспликативность вероятностной идентификации исторических событий современной хронологии (грандиозные постройки в Египте, Греции, Риме и т.д., сложные товарно-денежные отношения, финансово-олигархические связи, развитая банковская система).
-
2. Географический метод, сущность которого заключается в исследовании гиперфактов историко-культурного значения при существующих географических, климатических и геологических условиях.
-
3. Этно-психологический метод, позволяющий обнаруживать хронологические лакуны в античной литературе, искусстве, архитектуре, инженерном деле и т.д.
-
4. Астрономический метод: включает приемы и способы определения времени памятников древних культур Востока и Запада, содержащих строгие астрономические указания в виде планетных сочетаний, солнечных и лунных затмений. Отметим, что результаты исследований, охватывающих более двухсот документов соответствуют научной гипотезе Н.Морозова: подтверждаются все исторические даты греческих и латинских авторов, описывающих события в прямом соответствии тем или иным астрономическим явлениям после 402 г.н.э. И, напротив, все, относимые к более раннему периоду записи о затмениях, планетных сочетаниях и кометах, не подтвердились и привели к более поздним датам.
-
5. Статистический метод: включает генеральную выборку часто повторяющихся явлений политической и культурной жиз-
- ни народов стран Месопотамии, Египта, Греции и Рима.
-
6. Лингвистический метод: заключается в выявлении смысла и соответствующих значений в именах собственных, которые отчетливо эксплицируют литературные гиперболы, аллегории и мифологемы в исторических и библейских повествованиях [9].
Наука использует и интерпретирует факты как материал особого рода. История в её описательной форме не являлась ещё собственно наукой в XV-XVI веках, а служила лишь информативной базой данных для последующего затем тенденциозного концептуального оформления. Только в XIX веке К. Маркс и Ф. Энгельс, а также известный английский историк Г. Бокль впервые увидели в генезисе человеческой культуры определенные законы общественного развития. Безусловно, всемирный исторический процесс как социальная форма движения материи не является простым поступательным течением времени, а представляет собой сложную, диалектически противоречивую тенденцию развития. Вместе с тем, детальный научный анализ этапов исторического развития человечества показывает, что разного рода смены длительных декадансов и внезапных ре-нессансов – не более чем хронологические миражи (аберрации) событий. Возникают они вследствие того, что те же самые античные культуры, вариативно описанные историками на разных языках, дифференцировались по причине отсутствия общей хронологии и единой номенклатуры географических местоположений. Соответственно политические деятели и военнона-чальники (полководцы) были методично разнесены на последовательные параллели разновременных и разноместных культур.
Астрономическая верификация старой хронологии также выявила, что все несоответствия из числа зафиксированных в летописях наблюдаемых явлений и датируемых событий являются прямым следствием ошибок в летоисчислениях, а также апперцепционных представлений, различающихся по этническому признаку летописцев. Имеющиеся анахронизмы и литературные курьёзы, на протяжении дли- тельного времени переписываемые историками, философами, социологами и т.д., носят открытый характер. Ряд статей и монографий, посвященных данной проблеме, характеризуется как критическим анализом исторической литературы, подтверждающим выводы Н. Морозова, так и, напротив, соответствующим пафосом замечаний его оппонентов.
В этом ключе известны замечания профессора философии Мареева Н.Н. о том, что Аристотель был известен в Средние века в большей степени как логик, и только благодаря арабам европейцы узнали его работы по метафизике [7, с. 210-215].
Не имея достаточных оснований отвергать подложность большинства классических произведений, оппоненты чаще всего ссылаются на недоказуемость апокрифи-рования остальных, дошедших до нас исторических документов, аргументируя, например, тем, что Колизей не упоминается в средние века точно так же, как и остров Рюген на севере Германии. Но этот факт отнюдь не означает, что последнего не существовало в природе. Нет особой необходимости подробно останавливаться на столь «изысканных» логических подменах, лишь отметим, что на острове Рюген не было ничего достойного взору его современников, в отличие от Колизея – грандиозного сооружения, который, как полагал Н. Морозов, был построен на папский юбилей в 1000-ом году [9]. Также исследуя отдельные разделы Ветхого и Нового Заветов Библии, мы не ограничиваемся только их критикой, обнаруживая анахронизмы, логические противоречия или же их морально-нравственные несоответствия, на что обращают внимание известные религиоведы И.А. Крывелев, Д.М. Угринович [6; 11], а, прежде всего, пытаемся обозначить библейские сюжетные экспозиции детерминированные астрологией, которая в тот период была одной из важнейших дисциплин, регулирующих жизнь древних.
Нельзя однозначно согласиться с мнением астронома Н.И. Идельсона, что «астроном должен подходить к общим проблемам истории с тем, чтобы учиться, а не чтобы учить» [9, с. 6]. Обе науки должны идти вместе к общей цели всех наук: открытию истины, и в этом смысле астрономия, обладая точными математическими методами, может оказать значительные услуги истории, когда наши первоисточники оказываются не всегда надежными благодаря огромному количеству уже доказанных исторической критикой апокрифов, написанных в конце средних веков и в эпоху Возрождения. С другой стороны, мы солидарны с Н.И. Идельсоном, что когда астроном «всё-таки берется решать общие исторические проблемы, он должен держать в уме, прежде всего, историю своей науки, историю наблюдений, историю родных ему идей: в них заложена основная часть развития человеческой мысли, и пренебрегать всем этим… мы ни в коем случае не можем и не должны» [9, с.6]. Вот почему для того, чтобы вывести древнюю историю из области веры в область знания, особенно важно обращать внимание прежде всего на описываемые во многих древних манускриптах сочетания планет и включать именно их в основу хронологии. «В последнее время, – говорит П.В. Нейгебауэр в предисловии к своим «Астрономическим таблицам», – в Берлинском вычислительном Институте значительно увеличились случаи обращения историков и хронологов к астрономам – вычислителям с просьбой указать приблизительные места Солнца и больших планет в давно минувшие времена» [9, с. 36]. Н. Морозов представил таблицы, определяющие гелиоцентрические места планет с точностью, превосходящей десятые доли градуса, а для перехода к геоцентрическим положениям предложил самому историку перечислять получающиеся по нему гелиоцентрические числа на геоцентрические. Сущность проблемы в том, что астрономические таблицы приспособлены к решению вопроса о том, какое было в определенный день означенного года сочетание планет по созвездиям. Иначе, день и год уже заранее известны, а неизвестным является соответствующее им положение планет. А в гороскопических документах известно именно положение планет, и требуется верифицировать дату исторического события.
Н. Морозов занимался этими вопросами ещё будучи узником Шлиссельбургской крепости, а окончательно разрешил их, уже став директором Научного Института имени Лесгафта, составив полный перечень астрономических таблиц для всех планет в двенадцати созвездиях Зодиака. И только с этого момента для любого желающего появилась возможность быстрой и правильной астрономической разведки при решении древнеисторических вопросов, содержащих гороскопические указания. Следует отметить, что логическим основанием для введения нулевого года в астрономическое хронологирование небесных событий послужило следующее обстоятельство. При всяком переходе от последнего года любого столетия к первому году следующего мы сталкиваемся с нулевым годом (например, 1900, располагающийся между 1899 и 1901 или 1900 до н.э. между 1899 и 1901 до н.э.). Пересмотрев каталог в Птолемеевском Альмагесте, как латинского издания 1537 года, выпущенного Гергием Трапезундским в Кёльне, так и греческого варианта, выпущенного им же в Базеле в 1538 году, Н. Морозов отметил, что все звёзды там обозначены по Дюреровским чертежам. Таким образом, становится понятным, что весь текст «птолемеева» каталога был составлен в 16 веке, т.е. это творение Георгия Трапезундского и Альбрехта Дюрера. Это подтверждается более современной классификацией звезд. Во времена Птолемея не было ещё обозначения греческими буквами – Альфой, Бетой, Гаммой и т.д. – по мере уменьшения их яркости в данном созвездии, которое ввел лишь Иоганн Байер в начале 16 века. Автор же Альмагеста определял положение звезд по разным сегментам зодиакальных животных.
В «Истории астрономии» мы находим, что «в Византии, в этом книжном центре, за всё его более чем тысячелетнее существование (395-1453 гг.) неизвестно ни одного астрономического открытия» [5, с. 20]. И это в государстве, которое было на тот период самым развитым в материальном и культурном отношении! Ссылки на особую роль христианства в научном познании природы и человека в данную эпоху, характеризующуюся лишь комментированием классиков античности, для нас малоубедительны. Авторы учебника допускают явное несоответствие, когда повествуют о величайших астрономических открытиях, соверщенных на обширных территориях Арабского халифата. Как это могло произойти, когда выросшие на ассимилированной культуре завоёванных народов, прежде всего колонии Византии, арабы за двухвековой период совершают целую вереницу новых научных астрономических достижений как технического, так и теоретического характера?
Повторим, что сегменты животных были изображены на звездных картах только у знаменитого художника Альбрехта Дюрера, умершего в 1528 году. Каталог, изданный Георгием Трапезундским, по своему содержанию является непосредственным предшественником работ Тихо Брагге и по научно-эволюционным критериям никак не может быть отнесен ко 2 веку нашей эры. С этой точки зрения никаких каталогов и древних карт, делает вывод Н. Морозов, не было до открытия гравюры и печатного станка. Именно Г. Трапезундский, под псевдонимом Птолемея около 1520 г. отмечает по широтам и долготам 1022 звезды. В 1590 году Тихо Брагге в Дании продолжает исследования в прекрасно оборудованной обсерватории. Лаланд в 1800 г. в Париже доводит число каталогизированных звёзд до 47390, и т.д. [9, с. 217-219]. А в наше время катало-гировано и определено фотографиями более полутора миллиона звёзд [2].
В этой поистине гигантской преемственной работе астрономов каталог Птолемея соответствует тому времени, в которое он и был издан Георгием Трапезундским. Иначе, Альмагест – это компендиум всех астрономических знаний и наблюдений, накопившихся с I по XVI век включительно. При этом вошедшие в него отдельные сведения принадлежат и более ранним векам. Задача научного исследования заключается именно в том, чтобы определить, какие из сообщений принадлежат тому или другому историческому периоду.
Заключение. Несмотря на дань уважения к Скалигеру как к творцу существую- щей теперь исторической хронологии мы должны подвергнуть критическому анализу все древнеисторические факты, т.к. ни одно затмение с позиций современной астрономии не подтверждается. Соответственно все события ранее V века н.э. – это или апокрифы, или искажения более поздних событий. Выводы астрономических исследований весьма неутешительны для старых исторических хронологий, а с точки зрения новой, установленной И. Скалигером, лишь подтверждает научную гипотезу о хронологическом сдвиге на три столетия всех исторических событий, начиная от старой даты рождества Христова. При изучении историкопсихологических апперцепций во многом вителями арабского мира на Востоке в IXX веках; легендарность царей, императоров, пророков и их аналогий в истории античной Греции, Рима, Палестины, Египта и т.д. Нет ни одного подтверждения знаменательных исторических дат до IV в.н.э. включительно солнечными или лунными затмениями, указанными в «старинных» летописях историков: Геродота, Фукидида, Тита Ливия, Тацита и др. Так что же остается от «золотого века» древних культур? По нашему мнению – реальные исторические события средневековья и так называемой эпохи Возрождения, являющиеся основой для последующего затем сюжетно-аллегорического заполнения пустот в скалигеровской исторической хронологии.
доказывается несостоятельность многих научных открытий в астрономии предста-
Список литературы Апперцепционная сюжетность хронологии в мировой истории
- Бессонов Б.Н. Предисловие к книге Х.-Г. Гадамера "Истина и метод". - М.: Прогресс, 1988. - 17 с.
- Брюнье С. Большой атлас созвездий: пер. с фр. - М.: ЗАО "БММ", 2007. - 112 с.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод. - М.: Прогресс, 1988. - 699 с.
- Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. Т. 3; АН СССР; Ин-т философии. - М.: Мысль, 1977. - 471 с. - (Филос. наследие).
- Еремеева А.И. История астрономии / А.И. Еремеева, Ф.А. Цицин. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 350 с.