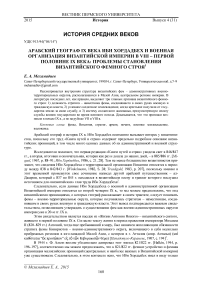Арабский географ IX века Ибн Хордадбех и военная организация Византийской империи в VIII - первой половине IX века: проблемы становления византийского фемного строя
Автор: Мехамадиев Е.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История средних веков
Статья в выпуске: 4 (31), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается внутренняя структура византийских фем - административных военно-территориальных округов, располагавшихся в Малой Азии, центральном регионе империи. В литературе последних лет, как правило, выделяют три главных признака византийского фемно-го строя: 1) должность стратига - наместника фемы, соединявшего в своих руках военную и гражданскую власти, 2) условное солдатское землевладение, когда крестьяне получали от государства землю за свою службу, и 3) систему солдатского жалованья, предусмотренную оплату службы воинов государством во время военного похода. Доказывается, что эти признаки возникли в начале IX в., а не на рубеже VII и VIII в.
Фемы, византия, стратиг, армия, печати, военное землевладение, жалованье
Короткий адрес: https://sciup.org/147203679
IDR: 147203679 | УДК: 913:94("04/14")
Текст научной статьи Арабский географ IX века Ибн Хордадбех и военная организация Византийской империи в VIII - первой половине IX века: проблемы становления византийского фемного строя
Арабский географ и историк IX в. Ибн Хордадбех неизменно вызывает интерес у византинистов, поскольку его труд «Книга путей и стран» содержит предельно подробное описание византийских провинций, в том числе много ценных данных об их административной и военной структуре.
Исследователи полагают, что первая редакция «Книги путей и стран» увидела свет в 846/847 гг., а вторая, итоговая и окончательная, которая как раз и дошла до наших дней, – в 885/886 гг. [ Miquel , 1967, p. 88–91; Ибн Хордадбех , 1986, с. 21, 28]. Тем не менее большинство византинистов признают, что сведения Ибн Хордадбеха о территориальной организации Византии относятся к периоду между 838 и 842/843 г. [ Winkelmann , 1982, S. 28; Treadgold , 1983, p. 207], поскольку именно в этот временной промежуток свое сочинение написал другой арабский путешественник – ал-Джарми, который с 837 по 845 г. находился в византийском плену и трактат которого послужил источником для «византийских» глав труда Ибн Хордадбеха2.
Следовательно, если данные Ибн Хордадбеха о военной и административной организации Византийской империи относятся ко второй четверти IX в., то мы можем предположить, что под византийскими провинциями, о которых географ рассказывает в своем трактате, следует понимать фемы – военно-территориальные округа, которые подчинялись стратигам – наместникам, соединявшим в своих руках военную и гражданскую власти. Этот вывод подтверждается важным свидетельством, позволяющим утверждать о существовании фем как военно-административных округов империи уже к 20-м гг. IX в.
Этим свидетельством является пассаж из «Жизни Антония Нового» – византийского святого, жившего в первой половине IX в. Согласно тексту жития в период правления императора Михаила II (820–829 гг.) Антоний, тогда еще пребывавший в миру, был назначен исполняющим обязанности стратига фемы Кивириотов – военно-административного округа, включавшего в себя несколько прибрежных регионов в юго-западной Малой Азии, с центром в г. Атталия (совр. Анталья) (κα ὶ καθ ί σταται “ ἐ κ προσ ώ που” ε ἰ ς τ ὸ τ ῶ ν Κιβυραιωτ ῶ ν θέμα) [ Пападопуло-Керамевс , 1907, с. 194]3.
В 1944 г. Ф. Алкэн вполне убедительно датировал этот эпизод 821/822 гг. [Halkin, 1944, p. 196–197], соответственно мы можем предположить, что к 821/822 гг. фемное устройство и фемная организация малоазийских провинций (центральных и наиболее важных в Византийской империи) уже существовали. Следовательно, в этом контексте ясно, что Ибн Хордадбех имел в виду только
фемы, поскольку его труд, как уже говорилось раньше, был издан в 885/886 гг., когда фемы в качестве военно-территориальных округов давно были созданы.
С учетом представленных сведений мы должны обратиться к достаточно известной главе из «Книги путей и стран» Ибн Хордадбеха, в которой он отмечает, что «[В ар-Руме] 12 батриков. [Их число никогда] не увеличивается и не уменьшается. Шестеро из них находятся в Константинополе при дворе деспота, а шестеро – в провинциях Аммурийя, Анкира, ал-Арминийяк, Таракийя – эта местность находится близ Константинополя по направлению к Бурджану, Сикиллийя – это огромный остров и обширное владение напротив Ифрикийи, и Сардинийа – здешний батрик – владетель всех островов моря» [ Ибн Хордадбех , 1986, с. 100].
В контексте этой главы мы хотели бы более подробно рассмотреть вопрос о фемах, образованных в Малой Азии – центральном по степени важности регионе империи. Под фемами Малой Азии мы имеем в виду три территории, перечисленные в процитированном пассаже Ибн Хордад-беха, – Аммурийя, Анкира и ал-Арминийяк. При этом данные регионы определенно можно идентифицировать с византийскими фемами Армениак, Анатолик и Букелларий, поскольку в своем трактате Ибн Хордадбех упоминает все названные территории в качестве провинций Византийской империи, а город Аммурийя = Аморий, как известно, был столицей фемы Анатолик [ Ибн Хордад-бех , 1986, с. 99–100].
Соответственно, если ко времени издания первой редакции труда Ибн Хордадбеха (846/847 гг.), а также в период, предшествующий этому времени (т.е. в 821/822 гг. по данным «Жития Антония Нового»), фемы Малой Азии уже существовали, то мы должны выяснить, когда именно эти фемы были созданы, в какой период они были учреждены как военно-административные округа.
Что касается вопроса о возникновении фемных округов, то в работах последних лет проявляется тенденция датировать их возникновение рубежом VII и VIII в. Мы имеем в виду главным образом статью К. Цукермана, которая была опубликована в 2005 г. и в которой он отмечает, что термин «фема» в значении военно-административного округа абсолютно неприменим к реалиям VII в. и сами фемы как военные округа были созданы только в первой или второй четверти уже VIII в. [ Zuckerman , 2005, p. 128, 132, 134].
В 1995 г. Дж. Хэлдон подчеркнул, что до конца VIII в. в распоряжении исследователей находится крайне мало сведений о фемах как военно-административных округах и только с рубежа VIII и IX в. можно примерно выявить механизм фемной администрации и внутреннюю организацию фемных округов в целом [ Haldon , 1995, p. 384, 421].
С учетом указанных новых тенденций в исследовательской литературе цель нашей статьи состоит в том, чтобы ответить на три вопроса: 1) действовал ли механизм фемной администрации, внутренней организации фемы в VIII в. и в первые два десятилетия IX в. на основе тех же принципов, что и в эпоху после 821/822 гг. и особенно в период жизни самого Ибн Хордадбеха; 2) прослеживается ли какая-либо эволюция структуры внутреннего фемного управления в период до и после 821/822 гг., т.е. оставались ли основные черты фемного строя неизменными вплоть до 821/822 гг., либо мы можем обнаружить изменения во внутреннем устройстве фем в течение VIII – начала IX в.; 3) наконец, существовали ли сами фемы как военно-административные округа до 821/822 гг., т.е. в VIII и в два первых десятилетия IX в.
Ответ на поставленные вопросы позволит определить, из каких элементов состояла внутренняя организация византийских фем к тому времени, когда ал-Джарми, главный источник Ибн Хор-дадбеха, написал свой географический трактат, какие черты фемного строя сохранились неизменными с VIII в., а какие возникли в первые два десятилетия IX в., изменилось ли их содержание к моменту выхода в свет первой редакции «Книги путей и стран» Ибн Хордадбеха (846/847 гг.). С учетом изложенных сведений отметим, что условной хронологической границей нашего исследования будут служить 821/822 гг., поскольку к этому времени фемы Малой Азии уже функционировали в качестве военно-территориальных округов.
Основные признаки фемного строя: позиции в историографии
В своей статье, напечатанной в 1984 г., Р.-И. Лили предельно четко сформулировал два основополагающих признака фемной военной организации: 1) каждую фему как военноадминистративный округ возглавлял стратиг, соединявший в своих руках военную и гражданскую власти; 2) военные силы каждой фемы состояли из крестьянского ополчения – так называемых стратиотов, т.е. крестьян, получавших от государства за свою службу условный земельный надел, который находился в их пользовании, но не в юридической собственности [Lilie, 1984а, S. 27; Lilie, 1984b, S. 190].
Помимо двух приведенных признаков мы можем выделить еще один, важный в плане социальной организации фем, – выдачу государством и распределение солдатского жалованья воинам во время военной кампании. В распоряжении исследователей есть источник, содержащий сведения о периоде после 821/822 гг., т.е. во времени, когда фемный строй уже существовал, в частности, о том, что крестьянам-стратиотам, служившим в фемном ополчении, в период военных кампаний выплачивалось денежное жалованье. Эту денежную выплату – рогу – упоминает византийский император Константин X Багрянородный в своем трактате «О церемониях византийского двора», где он утверждает, что «ранее был обычай выплачивать деньги фемам каждые 4 года, когда в определенное время (получали) Анатолик, Армениак и Фракисий, в другое время – Опсикий, Букелларий, Каппадокия, в иное время – Харсиан, Колония и Пафлагония, и вновь в другое время – Фракия, Македония, Халдия» (τ ὸ παλαι ὸ ν τ ύ πος ἦ ν, τ ὰ θ έ ματα ῥ ογε ύ εσθαι κατ ὰ τ έ σσαρα ἔ τη, ο ἱ ονε ὶ τ ῷ καιρ ῷ το ύ τ ῷ ὁ Ἀ νατολικ ὸ ς, ὁ Ἀ ρμενιακ ὸ ς, ὁ Θρ ᾳ κ ή σιος· τ ῷ δ ὲ ἑ τ έ ρ ῳ χρ ό ν ῳ ὁ Ὀ ψικιαν ὸ ς, ὁ Βουκελλ ά ριος, ὁ Καππ ά δοξ· τ ῷ δ ὲ ἄ λλ ῳ χρ ό ν ῳ ὁ Χαρσιαν ί της, ὁ Κολωνε ί ας, ὁ Παφλαγων ί ας· κα ὶ π ά λιν τ ῷ ἑ τ έ ρ ῳ ὁ τ ῆ ς Θρ ᾳ κης, ὁ Μακεδον ί ας, ὁ Χαλδ ί ας [Constantini…, 1829, p. 493–494]).
Греческий византинист П. Яннопулос пришел к выводу о том, что приведенные сведения Константина Багрянородного относятся к периоду между 863/873 и 912 гг. [ Yannopoulos , 1983, p. 240, 243]. Следовательно, во второй половине IX в. солдаты-стратиоты, служившие в фемных войсках, получали денежное жалованье (рогу) от государства, и в этом смысле, как нам кажется, прав Н. Икономидис, подчеркнувший, что солдаты получали рогу только во время военных кампаний и ее сумма выплачивалась в период мобилизации войск, перед началом того похода, в котором предстояло участвовать стратиотам [ Oikonomidès , 1988, p. 125, 128, 135].
Все перечисленные признаки фемного строя предполагают признание того, что в период, когда эти признаки существовали, территория Византии делилась на фемы как военноадминистративные округа. Соответственно, мы считаем, что для ответа на вопрос, были ли подобные округа в VIII в., необходимо обратиться к сведениям официальных документов – печатей, датированных VIII в. и принадлежащих чиновникам таможенного ведомства империи – коммеркиа-риям. Этот материал позволит определить, можем ли мы говорить о механизме фемной администрации применительно к VIII в.
Печати коммеркиариев и вопрос о фемах: проблемы интерпретации
Исследователи византийской таможенной службы, публиковавшие печати ее чиновников – коммеркиариев, считают, что их функции заключались в сборе таможенных пошлин на границах империи, вблизи крупных городов или в районе пересечения важных торговых путей, а также в сборе любых финансовых или натуральных платежей в провинциях империи [ Millet , 1924, p. 304, 318, 325–326; Oikonomidès , 1986, p. 42–44, 49; Лихачев , 1924, с. 154; Seibt, Morrison , 1982, p. 223]. Е. Антониадис-Бибику предположила, что в функции коммеркиариев мог входить не только сбор таможенных пошлин и иных налогов, но и непосредственное проведение торговых операций, прямое участие в покупке и продаже товаров [ Antoniadis-Bibicou , 1963, p. 159–160, 162, 164, 186, 188, 197]. Наконец, в 2002 г. В. Брандес, рассмотревший все известные к тому времени печати коммеркиари-ев, пришел к выводу о том, что служба коммеркиариев не имела никакого отношения к таможенному ведомству, что их задачи были более узкими – они занимались сбором натуральных налогов и из этих средств снабжали армию необходимым продовольствием во время той или иной военной кампании [ Brandes , 2002, S. 419, 421–422, 425].
С учетом этого небольшого историографического обзора обратимся к нескольким печатям коммеркиариев из коллекции Г. Закоса и А. Веглери, непосредственно связанным с вопросами военной организации империи в VIII в. Первая из них была опубликована еще в 1934 г. В. Турнером, она содержит упоминание коммеркиариев области под названием «нижний Гекзаполис» и датируется 711/12 гг. (Τ ῶ ν βασιλικ ῶ ν κομμερκ ί ων τ ῆ ς κ ά του Ἑ ξαπ ό λεως ἰ νδ. ι ´ ) [ Tourneur , 1934, p. 951 = Za-cos. Veglery, 1972, p.338, no. 260]. Для ответа на вопрос, какой регион скрывался под именем «Гекзаполис», В. Турнер обратился к географическому трактату Евстафия Фессалоникийского – малоизвестного византийского писателя и ученого, жившего в XII в.
В этом трактате Евстафий отмечает, что император Юстин (Евстафий путает его с Юстинианом I, 527–565 гг., о котором на самом деле идет речь. – Е.М.) учредил четыре армянские провин- ции и одной из них была провинция Вторая Армения с центром в городе Мелитена – Евстафий предельно четко пишет, что другим названием Второй Армении было «Гекзаполис» (Τρίτην δὲ Ἀρμενίαν κατέστησεν Ἑξάπολιν, τήν ποτε καλουμένην δευτέραν Ἀρμενίαν, ἧς ἡγεῖται ἡ Μελιτηνή [Ge-ographi Graeci minores, 1861, Vol. 2, p. 342, стр. 6–8]). Сопоставив пассаж Евстафия с процитированной печатью, В. Турнер справедливо подчеркнул, что даже в начале VIII в. (711/712 гг.) старая провинция Армения Вторая, созданная еще в эпоху императора Юстиниана I (527–565 гг.), продолжала существовать и входила в состав Византийской империи [Tourneur, 1934, p. 952].
На наш взгляд, приведенная печать коммеркиариев Гекзаполиса опровергает предположение о существовании фемного строя в Малой Азии в VIII в., поскольку в начале VIII в. в составе Византии мы находим не фему Армениак, а старую провинцию Армению Вторую, которая существовала еще в эпоху Юстиниана I и им же была создана. Другие печати коммеркиариев в равной мере подтверждают наш вывод.
В печати, датированной 717/718 гг., упоминаются коммеркиарии «всех провинций преданного Христу Армениака» ( Ἰ (νδικτι ὼ ν) α ´ ... γενικ( ῶ )ν κομμερκιαρ ί ων ἀ ποθ ή κης Κολ(ω)ν(ε ί )ας κα ὶ ἁ παντ ῶ ν τ ῶ [ν] ἐ παρχι ῶ ν τ[ο ῦ φι]λοχρ ί στ(ου) Ἀ [ρμε]νιακ(ο ῦ )) [ Zacos, Veglery, 1972, p. 299, no. 222a-b]). Уже само упоминание «провинций» ( ἐ παρχι ῶ ν) свидетельствует против предположения о существовании фемы Армениак в это время. Мы можем утверждать только о войске Армениака, подразделения которого размещались в разных провинциях, но в провинциях старых, гражданских, известных еще со времен поздней Античности, в частности, со времен императора Юстиниана I.
То же самое можно сказать и о так называемой феме Анатолик в 732/733 гг., о которой, нам сообщает важные данные не менее интересная печать: [Τ] ῶ [ν β]ασιλ(ι)κ ῶ ν κομμερκ ί ων τ ῶ ν ἐ παρχι ῶ ν τ ῶ ν Ἀ νατολικ ῶ (ν) Ἰ (νδικτι ὼ ν) γ ´ [Zacos. Veglery, [ Zacos. Veglery, 1972, p. 325, no. 245]. И вновь та же ситуация, что и с армией Армениака, возникает относительно «фемы» Опсикий в 745/746 гг.: в печати фигурируют коммеркиарии «провинций богохранимого царского Опсикия»: (τ ῶ ν) ἐ πα]ρχι ῶ ν [το ῦ θεο]φυλ ά κ[του βασιλ]ικ(ο ῦ ) Ὀ ψ[ικ ί ου] Ἰ (νδικτι ὼ ν) ιδ ´ [ Zacos, Veglery, 1972, p. 341, no. 263].
Иными словами, во всех указанных печатях упоминаются вместо фем провинции, т.е. старые гражданские округа, существовавшие еще в эпоху Юстиниана I, поэтому можно заключить, что под названиями «Армениак», «Анатолик» и «Опсикий» в печатях подразумевались региональные армии, размещавшиеся в Малой Азии, а не фемы как военно-административные округа. Более того, на наш взгляд, каждая из указанных армий дислоцировалась сразу в нескольких провинциях, а из этого следует, что пунктами размещения каждой армии были военные крепости, в которых располагались группы войсковых подразделений, входившие в состав той или иной армии. Данные крепости были разбросаны по разным провинциям, граничившим друг с другом.
Подтверждением нашему выводу служат еще несколько печатей, в которых упоминается слово στρατηγία, крайне важное для характеристики внутренней структуры византийских региональных армий в VIII в . Каждая печать принадлежит коммеркиариям, служившим в так называемых стратигии Фракисианов и стратигии Эллады ([Τ ῶ ν β]ασιλικ ῶ ν κομμερκ ί ων στρατ(η)γ ί ας Ἑ λλ ά δος Ἰ (νδικτι ὼ ν) ζ ´ [ Zacos. Veglery , 1972, p. 332, no. 254], дата – 738/39 гг.; Τ ῶ ν βασιλικ ῶ ν κομμερκ ί ων τ ῆ ς στρατ(η)γ ί ας τ ῶ ν Θρ ᾳ κησ ί ων Ἰ (νδικτι ὼ ν) ι ´ – [Ibid, 1972, p. 339, no. 261], дата – 741/42 гг.; Τ ῶ ν βασιλικ ῶ ν κομμερκ ί ων τ( ῆ ς) στρατ(η)γ ί ας τ ῶ ν Θρ ᾳ κ(η)σ ί ων Ἰ (νδικτι ῶ νος) ιδ ´ [ Brandes , 2002, App. I, S. 558, no. 240], дата – 745/46 гг.).
Само слово «стратигия» в средневизантийский период обозначало армию [Sophocles, 1900, p. 1014, sv. στρατηγ ί α], но мы полагаем, что под «стратигией» в печатях подразумевали резиденцию стратига – офицера, возглавлявшего региональную армию. К. Цукерман же отождествил слова στρατηγ ί α и θ έ μα («фема»), поскольку, по его мнению, в VIII в. слово στρατηγία обозначало то же самое, что θ έ μα в IX в., а именно военно-административный округ, находящийся под властью стра-тига [Zuckerman, 2005, p. 129]. Мы не согласны с такой трактовкой, поскольку термин στρατηγ ί α обладал, на наш взгляд, узким значением, связанным с личностью стратига – командующего войском, поэтому, например, «стратигия» Фракисианов – это военный пункт, крепость, где размещалась ставка (штаб-квартира) стратига и где под его командованием находилась особая группа войск, нескольких военных отрядов, входивших в состав армии Фракисий. Следовательно, армия Фракисий состояла из нескольких таких групп войск, каждая из которых размещалась в обособленной крепости, и эти крепости были разбросаны по нескольким соседним провинциям.
Исходя из содержания цитированных печатей подчеркнем, что мы можем согласиться с В. Брандесом в том, что коммеркиарии могли заниматься торговой деятельностью и собирать таможенные пошлины, но, безусловно, одной из главных функций этих чиновников было снабжение региональных войск продовольствием.
В этом смысле мы можем предположить, что коммеркиарии так называемых стратигий (т.е. резиденций, где размещались стратиги – командующие отдельными региональными армиями) как раз и были теми чиновниками, которые доставляли продовольствие подчиненным стратигу войскам, причем и в других крепостях, входивших в состав региональной армии.
Таким образом, печати коммеркиариев, на наш взгляд, не свидетельствуют о наличии в VIII в. такого важного признака фемного строя, как соединение военной и гражданской власти в руках стратига. Помимо того, вместо фем как единых административно-территориальных округов мы обнаруживаем только старые провинции эпохи Юстиниана I, которые продолжали существовать и в середине VIII в. Все же функции, связанные с продовольственным снабжением армии, выполняли исключительно гражданские чиновники – служба коммеркиариев. Они не подчинялись стратигу, принадлежали только к гражданской администрации4 и в других пунктах (не в крепостях) занимались сбором таможенных пошлин.
Возникает вопрос, можем ли говорить применительно к VIII в. о других признаках фемного строя, а именно о системе денежных выплат государства и об условной земельной собственности, которую воины («стратиоты») из крестьянского ополчения получали от государства?
«Жизнь Филарета Милостивого» и правовые источники VIII в.: социальная организация региональных армий
Одна из глав «Эклоги» – византийского законодательного свода, изданного, по оценкам одних исследователей [ Ginis , 1923–1924, S. 356; Grumel , 1963, p. 273], в 726 г., по оценкам других – в 741 г. [ Ecloga , 1983, S. 12] императорами Львом III Исавром и его сыном Константином (V), содержит сведения, проливающие свет на проблему солдатского условного землевладения в Византии в данный период. В XVI главе «Эклоги» законодатель подробно рассматривает проблему так называемого военного пекулия, т.е. имущества, которое человек приобретал, поступая на военную службу и проходя ее. Согласно тексту «Эклоги» «военный пекулий есть то, что воины, находящиеся под властью отца или деда, приобретут из своей военной службы» ((Στρατιωτικ ὰ πεκο ύ λι ά ε ἰ σιν, ἅ περ στρατι ῶ ται ὑ πεξο ύ σιοι ὄ ντες πατρ ί τε κα ὶ π ά ππ ῳ ἐ κ το ῦ στρατιωτικο ῦ α ὐ τ ῶ ν πρ ά γματος ἐ πικτ ή σονται), при этом законодатель совершенно четко предписывает, что после смерти родителей военнослужащих (κα ὶ μετ ὰ τελευτ ὴ ν δ ὲ τ ῶ ν α ὐ τ ῶ ν γον έ ων) военный пекулий сыновей, отслуживших в армии, «не соединяется и не делится вместе с отцовским» (μ ὴ ὡ ς πατρ ῷ ον α ὐ τ ῶ ν συνεισ ά γεσθαι ἢ διαιρε ῖ σθαι), но остается в исключительной собственности самих военнослужащих ( ἀ λλ ᾽ ἐ ν ἐ ξαιρ έ τ ῳ το ῖ ς ἰ δικο ῖ ς α ὐ τ ῶ ν κα ὶ μ ό νον γνωρ ί ζεσθαι προσ ώ ποις) [Ecloga, 1983, S. 220].
Самое важное состоит в том, что в «Эклоге» перечислено имущество, входившее в состав военного пекулия: конь с седлом и повозкой (τ ὸ ἱ ππ ά ριον α ὐ το ῦ σ ὺ ν το ῦ σελλοχαλ ί νου κα ὶ τ ὸ ἄ ρμα α ὐ το ῦ ), боевой панцирь (λωρ ί κην), военная добыча во время службы ( ἀ π ό τε σκ ύ λων), почетные награды (κα ὶ φιλοτιμι ῶ ν), а также все, что военнослужащий приобрел из своего жалованья ( ἐ κ τ ῶ ν μετ ὰ τα ῦ τα ῤ ογ ῶ ν α ὐ το ῦ ἐ πικτησ ά μενος) [Ecloga, 1983, S. 222]. На наш взгляд, текст «Эклоги» позволяет заключить, что под военным пекулием не подразумевалась земельная собственность, как раз наоборот, земля, переданная сыновьям по наследству от их родителей, делилась поровну между братьями, и полученный земельный участок не входил в состав пекулия.
В соответствии с этим Ж. Моссе и П. Яннопулос справедливо заметили, что ситуация, изложенная в «Эклоге», не отвечает образу «солдата-крестьянина», который в мирное время обрабатывает свой неотчуждаемый земельный участок, полученный от государства, а в случае военных действий призывается в армию и уходит на фронт [ Mossay, Yannopoulos, 1976, p. 52, 57]. Действительно, если бы воин, представленный в «Эклоге», получил от государства земельный участок в условную собственность, то такое земельное имущество не делилось бы между всеми братьями, а принадлежало бы только тому брату, который нес службу в армии. Государство, на наш взгляд, просто не позволило бы делить или передавать эту землю в чужую собственность, поскольку верховным собственником такой земли было государство, и только государство могло распоряжаться ею по своему усмотрению.
Следовательно, в первой половине VIII в. (в 726 или 741 г., когда была издана «Эклога») в византийской военной организации отсутствовал такой важный элемент фемного строя, как условное солдатское землевладение. Воины, служившие в армии, владели только той землей, которая принадлежала им на правах наследования семейного, отцовского, имущества, т.е. была передана им по наследству от родителей, а не получена от государства5. Что касается системы солдатского жалованья, то в распоряжении исследователей есть интересный документ, опубликованный только в 1977 г. и опровергающий возможность существования системы денежных выплат стратиотам со стороны государства в VIII в.
Документ, опубликованный в 1977 г., представляет собой официальную императорскую конституцию, принятую, как предположил ее издатель, Д. Зимон, в период совместного правления Льва III Исавра и его сына Константина (V), т.е. в 720–741 гг [ Simon , 1977, S. 91–92].
Согласно этому документу, любой воин-зять (Περ ὶ γαμβρ ῶ ν στρατιωτ ῶ ν), прибывающий в дом своего тестя (ε ἰ σερχομ έ νων ε ἰ ς ο ἴ κους) и приносящий с собой свое жалованье (ε ἰ σφερ ό ντων ῥό γας α ὐ τ ῶ ν), имеет право «забрать с собой» ( ἐ π ά ρ ῃ ) все, что он принесет, и вещи, и деньги ( ἵ ναπ ά ντα, ἅ περ ε ἰ σ ή γαγεν ε ἴ δη κα ὶ πρ ά γματα). Более того, тесть должен был указать в специальной ведомости (προδ ή λως το ῦ πενθερο ῦ καταγραφομ έ νου) ту сумму денег ( ἐ ξ ό δους – «расходы»), которую он выплатил своему зятю ( ἐ πο ί ησεν ε ἰ ς α ὐ τ ὸ ν), а именно деньги на оружие (ε ἰ ς στρατιωτικ ὴ ν ἐ ξ ό πλισιν), на личные расходы зятя-стратиота (ε ἰ ς δαπ ά νην α ὐ το ῦ ), на доспехи и в целом на военную амуницию (ε ἰ ς φορεσ ί αν), а также денежные средства, которые тесть смог предоставить зятю для совершения покупок и различных платежей (ε ἰ ς ἀ γορασ ί ας κα ὶ ἐ ξ ό δους α ὐ το ῦ ) [ Simon , 1977, S. 94]. Несомненно, можно согласиться с Д. Зимоном в том, что этот указ защищал незыблемость прав стратиота на его собственность, полученную в ходе военной службы, выводил ее из-под юрисдикции тестя, формального главы семьи [ Simon , 1977, S. 98–99]. Но важно и другое – как видим, в период издания «Эклоги» воины не получали жалованье от государства, как раз наоборот, эти деньги им собирали и выдавали их родственники6, жившие вместе с ними в одной деревне и даже под крышей одного дома.
Обратим внимание на еще один текст, на этот раз агиографический – «Жизнь Филарета Милостивого», крупного византийского землевладельца из Пафлагонии, жившего во второй половине VIII в. В одной из глав этого жития содержится рассказ о том, как во время очередного вторжения арабов в Малую Азию к Филарету с просьбой о помощи обратился воин Мусулий, служивший в армии, которая прибыла в Пафлагонию для борьбы с арабами. Командующие этим войском потребовали, чтобы на военном смотре у каждого воина были две лошади и одна повозка, но Мусулий был настолько беден, что имел только одну лошадь, которая внезапно умерла как раз за несколько дней до предстоящего смотра. Лишившись лошади, Мусулий, со слов автора жития, «впал в нужду» (Ε ἰ ς ἀ πορ ί αν δ ὲ ἐ λθ ὼ ν), более того, положение воина осложнилось и тем, что «он не имел ничего, откуда можно было бы купить другую (лошадь)» (κα ὶ μ ὴ ἔ χων π ό θεν ἕ τερον ἀ γορ ά σει) [ Fourmy, Leroy, 1934, p. 127, l. 8–11 = Rydén, 2002, p. 74]. В результате Мусулий обратился за помощью к Филарету, высказав при этом опасения, что на предстоящем смотре войск один из командующих – «хилиарх» – подвергнет его бичеванию ( ἵ να μ ὴ ὁ χιλ ί αρχος μαστιγ ώ σ ῃ με) [ Fourmy, Leroy, 1934, p. 127, l. 17 = Rydén, 2002, p. 74], если узнает, что Мусулий не выполнил приказ доставить двух лошадей и одну повозку.
М.-А. Фурми и М. Леруа отождествили вторжение арабов, о котором рассказывает автор жития, с крупной завоевательной экспедицией, организованной халифатом Аббасидов против Византии в 782 г. [ Fourmy, Leroy, 1934, p. 101], следовательно, мы вновь видим, что даже в конце VIII в. солдаты, участвовавшие в военных кампаниях, не получали от государства каких-либо денежных средств. Можно предположить, что стратиоты получали деньги только от своих родственников (семей), а не от государственных чиновников в лице военной администрации. Более того, военная администрация в лице «хилиарха» не только не платила армии жалованье, но и не собиралась этого делать. Совершенно очевидно, что в данный период, т.е. в VIII в., государство переложило вопросы финансового обеспечения военных кампаний на плечи самих военнослужащих и их семей.
Закономерно возникает вопрос, когда же произошло учреждение фемных округов в Малой Азии, когда стратиги получили власть и над гражданскими административными службами?
Военно-финансовая реформа Никифора I (802–811 гг.) и «Жизнь Евтимия Нового» с позиций фемной теории
Мы можем предположить, что учреждение фемных округов в Малой Азии произошло в 803–
806 гг., после заключения мирного договора с арабским халифом Харуном ар-Рашидом (803 г.), но до нового вторжения арабских войск во главе с тем же халифом в византийские земли, которое завершилось новым соглашением, в соответствии с которым император Никифор I обязался не восстанавливать крепость Гераклею (современный г. Эрегли в Турции) [Canard, 1962, p. 377]. Согласно Феофану Исповеднику, нашему основному источнику, в период после первого мирного договора с Харуном ар-Рашидом Никифор I «предписал, чтобы бедняки служили в армии, и чтобы их вооружали их односельчане, и чтобы они вносили в казну по восемнадцать с половиной монет и платили повинности посредством взаимного поручительства» (προσ έ ταξε στρατευ έ σθαι πτωχο ὺ ς κα ὶ ἐ ξοπλ ί ζεσθαι παρ ὰ τ ῶ ν ὁ μωχ ώ ρων, παρ έ χοντας κα ὶ ἀ ν ὰ ὀ κτωκα ί δεκα ἡ μ ί σους νομισμ ά των τ ῷ δημοσ ίῳ , κα ὶ ἀ λληλεγγ ύ ως τ ὰ δημ ό σια [Theophanis…, 1883, p. 486, стр. 24–26]).
Другое мероприятие василевса, касающееся военных вопросов, заключалось в том, что, согласно тому же Феофану, военачальникам (стратигам) было приказано, чтобы они «искали тех, кто быстро оправился от бедности, и требовали вернуть деньги, словно те нашли сокровища» (σκοπε ῖ σθαι παρ ὰ τ ῶ ν στρατηγο ύ ντων το ὺ ς ἀ θρ ό ως ἐ κ πτωχε ί ας ἀ νακτησαμ έ νους, κα ὶ ἀ παιτε ῖ σθαι χρ ή ματα ὡ ς ε ὑ ρετ ὰ ς θησαυρ ῶ ν [Theophanis…, 1883, p. 487, стр. 6–8]). На наш взгляд, исходя из приведенных фактов возможна следующая трактовка: каждая община или несколько человек в общине должны были выставить одного из своих членов, который не мог вооружиться на свой счет. Они закупали и передавали ему вооружение, а также деньги в виде повинности, которая распределялась между односельчанами по принципу круговой поруки, т.е. жители общины выплачивали рекрутский налог сообща.
Отсюда, с нашей точки зрения, возможны два вывода: 1) предписание Никифора I, касающееся военной службы бедняков, предусматривает, что теперь не только родители или родственники стратиота должны давать государству деньги на его вооружение и содержание (как это происходило в VIII в.), но и все жители той общины, в которой жил сам воин, а значит, практика круговой поруки, круговой ответственности была распространена уже на всех общинников-односельчан; 2) указ о сокровищах прямо дает стратигам право вмешиваться в дела гражданской администрации, которая ранее (как видно из печатей) занималась финансовыми вопросами исключительно самостоятельно, прямо не подчиняясь военным властям.
Очевидно, эта реформа усилила власть стратига, она сконцентрировала в его руках и гражданские полномочия, поставила под его контроль чиновников финансовой службы, что доказывает факт соединения властей в одних руках. А значит, эта реформа предусмотрела изменение внутренней структуры региональных армий. Вместо прежних гражданских провинций, где находились крепости той или иной армии, теперь учреждались фемы, т.е. военные округа, включавшие в себя все эти провинции и подчинявшиеся верховной власти стратига.
Можно также предположить, что с этого времени стратигия (пункт дислокации стратига, верховного командующего той или иной региональной армией) стала не просто штаб-квартирой регионального войска, а реальным административным центром новой фемы. Но изменилась ли после этой реформы внутренняя, социальная организация фемы, точнее – фемной армии, которая теперь располагалась в пределах единого фемного округа? На наш взгляд, сведения, содержащиеся в «Жизни Евтимия Нового», византийского святого второй половины IX в., не позволяют говорить о какой-либо динамике в социальной организации региональных фемных армий.
Это житие, написанное Василием, учеником святого, сообщает, что Евтимий родился в 823/824 гг. (6632 г. от сотворения мира)7 в деревне Опсо, которая «была подвластна Анкире в Галатии» (κ ώ μη δ ὲ α ὐ τ ῳ ... Ὀ ψ ὼ προσηγ ό ρευτο, ὑ ποτελ ὴ ς μ ὲ ν τ ῇ τ ῶ ν Γαλατ ῶ ν Ἀ γκ ύ ρ ᾳ [ Petit , 1903, p. 170, l. 13–15]), т.е. находилась в пределах фемы Букелларий. Далее автор жития рассказывает, что мать Евтимия, «принужденная все же налогом военного похода, отдает его, записанного в военные книги, (в армию)» (καταγχομ έ νη δ ᾽ ο ὖ ν ὅ μως τ ῇ τ ῆ ς ἐ κστρατε ί ας ἐ πιθ έ σει, ἀ ν ά γραπτον α ὐ τ ὸ ν το ῖ ς στρατιωτικο ῖ ς ἐ κδ ί δωσι κ ώ διξι [ Petit , 1903, p. 172, l. 19–21]). Со слов автора, «…с того времени он выполняет службу в военных списках и становится всем для матери» (τελε ῖ μ έ ντοι κ ἀ ντε ῦ θεν ἐ ν το ῖ ς στρατιωτικο ῖ ς καταλ ό γοις κα ὶ π ά ντα τ ῇ μητρ ὶ γ ί νεται), при этом по сведениям из жития во время военной службы Евтимий вполне успешно справляется и со всеми домашними делами (π ά ντων τ ῶ ν ἐ ν τ ῷ ο ἴ κ ῳ τ ὴ ν φροντ ί δα κα ὶ τ ῶ ν ἐ κτ ὸ ς τ ὴ ν ἐ πιμ έ λειαν ἀ ναδεξ ά μενος – «принимает на себя заботу о тех, кто в доме, и попечение о тех, кто вне (дома)» [ Petit , 1903, p. 172, l. 28–29]).
Обратим внимание на то, что Евтимий был зачислен в армию в возрасте 7 лет (Ε ὐ θυμ ί ου...
ἕ βδομον ἔ τος [ Petit , 1903, p. 172, l. 1]), но возникает закономерный вопрос, была ли возможна подобная ситуация? Относительно данного вопроса М. Григориу-Иоанниду ограничивается лишь замечанием, что сведения о семилетнем возрасте совершенно недостоверны [ Γρηγοριου-Ιωαννιδου , 1990, Σ. 156–158]. Дж. Хэлдон полагает, что вместо Евтимия формально военную службу несла его мать, которая после смерти мужа, когда Евтимию исполнилось 7 лет, включила свое имя в военные списки солдат фемы [ Haldon , 1979, p. 47, 56, n. 99]. Но подобная трактовка вызывает большие сомнения, поскольку возникает вопрос, чем была выгодна такая служба государству, какую пользу государство получало от рекрутов, существовавших только на бумаге?
Мы считаем, что вполне возможна и другая оценка событий: не исключено, что Евтимий участвовал в крупной военной кампании, подготовка к которой потребовала проведения экстренных мер, а именно зачисления в армию юношей, еще не достигших 18 лет. С учетом времени жизни Евтимия к подобной военной кампании можно отнести только вторжение арабов в византийскую Малую Азию, которое, как известно, произошло в 838 г. и завершилось осадой и взятием Амореи в том же году. На наш взгляд, Евтимий был зачислен в армию в ходе экстренной рекрутской кампании, когда государство в спешном порядке пополняло армию для борьбы с арабами, и, судя по всему, именно этим были вызваны опасения матери Евтимия (тем более, что житие четко упоминает именно о «военном походе» – τ ῆ ς ἐ κστρατε ί ας).
Тем не менее из жития следует, что уже в возрасте 18 лет ( ἔ τος ἦ ν το ῦ το τ ῆ ς μ ὲ ν ἀ π ὸ γενν ή σεως το ῦ ἁ γ ί ου ἀ γωγ ῆ ς ὀ κτωκαιδ έ κατον – [ Petit , 1903, p. 173, l. 30–31]) Евтимий принял решение уйти в монастырь и стать монахом, но мы видим, что в тот момент он жил в той же самой общине, где и родился. Принимая хронологию, предложенную Л. Пети [ Petit , 1903, p. 529], мы можем датировать указанное событие 841/842 гг., поэтому ко времени арабского вторжения Евтимию было 15 или 16 лет. Эта ситуация показывает, что единственным новым элементом фемного строя, введенным в первой четверти IX в., была система рекрутских списков, так называемых «каталогов».
Другими словами, каждый землевладелец или юноша, достигший призывного возраста, вносился в специальные цензовые списки8, по которым военная администрация той или иной фемы могла быстро собрать рекрутов в случае начала призывной кампании. Однако эти рекруты не получали земли от государства. Текст «Жизни Евтимия Нового» свидетельствует о том, что после службы герой этого жития вернулся в свой дом, полученный им в наследство от отца. В свое время Ф. Дэльгер первым высказал идею, согласно которой изначально слово «фема» обозначало именно список солдат, служивших в той или иной региональной армии, фактически – финансовую ведомость, в которой были перечислены имена солдат и приведены размеры их жалованья [ Dölger , 1955, S. 195–198].
Признавая блестящую догадку исследователя, со своей стороны отметим, что скорее всего появление военных списков стало прямым результатом учреждения фем как военноадминистративных округов. Помимо военных сил стратигу после 803–806 гг. подчинялись и гражданские административные ведомства, главной задачей которых было составление списков рекрутов, зачисленных в войско фемы. Комплектование армии той или иной фемы проводилось по территориальному принципу: рекруты зачислялись только в то войско, которое находилось в пределах их фемы9. Но и после 803–806 гг. эти рекруты не получали от государства земельных участков, наоборот, все они происходили из мелкого и среднего крестьянства и владели собственными, семейными землями, переданными им по наследству от родителей.
В первой четверти IX в. военная служба рекрутов тоже не оплачивалась государством. По реформе Никифора I фемная администрация перекладывала на плечи самих военнослужащих и их семей или односельчан продовольственное снабжение и материально-техническое обеспечение военной кампании. Следовательно, подводя итог, мы можем подчеркнуть, что ко времени, когда Ибн Хордадбех выпустил в свет первую редакцию своего труда (846/847 гг.), фемы как военнотерриториальные округа включали в себя три важных элемента: 1) должность стратига – наместника этих фем, соединявшего в своих руках военную и гражданскую власти; 2) наличие принудительной конскрипции, основанной на территориальном принципе комплектования армии; 3) специальные гражданские службы, которые составляли списки рекрутов и, судя по всему, проводили призывную кампанию. И, наоборот, как и в VIII в., в 40-е гг. IX в. в фемах полностью отсутствовали такие элементы, как условная земельная собственность, полученная от государства, и система госу- дарственного снабжения армии во время военной кампании, которая появится только во второй половине IX в., более точно, в начале 60-х гг. его. Сами фемы как военно-административные округа возникли в Малой Азии только в 803–806 гг., в VIII в. таких структур административнотерриториального устройства империи еще не было.
Список литературы Арабский географ IX века Ибн Хордадбех и военная организация Византийской империи в VIII - первой половине IX века: проблемы становления византийского фемного строя
- Ибн Хордадбех. Книга путей и стран/пер. с арабского, ком., исслед., указатели и карты Н. Велихановой. Баку, 1986
- Лихачев Н.П. Датированные печати Византии//Изв. Рос. Акад. ист. матер, культуры. Л., 1924. Т. 3
- Пападопуло-Керамевс А.И. Bi'o^ ка! ло\ие\а тои баюи Avxcbviou тои N£ou//Православный палестинский сборник. Т. 19: Сб. палестинской и сирийской агиологии, изд. А.И. Пападопуло-Керамевсом с русским переводом В.В. Латышева. СПб., 1907
- Antoniadis-Bibicou Н. Recherches sur les douanes a Byzance. Paris, 1963
- Brandes W. Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 6.-9. Jahrhundert. Frankfurt a/Maine, 2002
- Canard M. La prise d'Heraclee et les relations entre Haran ar-Rashid et l'empereur Nicephore Гг//Byzantion. 1962. Vol. 32
- Constantini Porphyrogeniti imperatoris De Cerimoniis aulae Byzantinae/ed. J. Reiske. Bonnae, 1829. Vol. I
- Costantino Porfirogenito De Thematibus/intr., testo critico, comm. a cura di A. Pertusi. Citta del Vaticano, 1952 (Studi e Testi, 160)
- Dolger F. Beitrage zur Geschichte der Byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhun-derts. Leipzig; Berlin, 1927
- Dolger F. Zur Ableitung des byzantinischen Verwaltungsterminus в£ца//Historia. 1955. Bd. 4, Hft. 2/3
- Dunn A. The Kommerkiarios, the Apotheke, the Dromos, the Vardarios, and The West//Byzantine and Modern Greek Studies. 1993. Vol. 17. P. 3-24
- Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III und Konstantinos V/Hrsg. von L. Burgmann. Frankfurt a/Main, 1983
- Fourmy M.-H., LeroyM. La Vie de S. Philarete//Byzantion. 1934.Vol. 9, Fasc. 1
- Ginis D. Das Promulgations]ahr der Isaurischen Ecloge//Byzantinische Zeitschrift. 1923-1924. Bd. 24
- Grumel V. La date de l'Eclogue des Isauriens: l'annee et le jour//Revue des etudes Byzantines. 1963. Vol. 21
- Haldon J. Military Service, Military Lands, and the Status of Soldiers: Current Problems and Interpretations//Dumbarton Oaks Papers. 1993. Vol. 47
- Haldon J. Seventh-Century Continuities: the Ajnad and the «Thematic Myth»//The Byzantine and Early Islamic Near East. III. States, Resources and Armies/ed. Av. Cameron. Princeton, 1995
- Haldon J.F. Recruitment and conscription in the Byzantine army c. 550-950. A study on the origins of the strati-otika ktemata. Wien, 1979
- Halkin F. Saint Antoine le Jeune et Petronas le vainqueur des Arabes en 863 (d'apres un texte inedit)//Analecta Bollandiana. 1944. Vol. 62
- Lilie R.-J. Die byzantinischen Staatsfinanzen im 879. Jahrhundert und die атратштка кхгщаха//Byzanti-noslavica. 1987. Vol. 48
- Lilie R.-J. Die zweihundertjarige Reform: Zu den Anfangen der Themenorganisation im 7. und 8. Jahrhundert//Byzantinoslavica. 1984a. Vol. 45, Fasc. 1
- Lilie R.-J. Die zweihundertjarige Reform: Zu den Anfangen der Themenorganisation im 7. und 8. Jahrhundert (fortsetzung)//Byzantinoslavica. 1984b. Vol. 45. Fasc. 2
- Millet M.G. Sur les sceaux des commerciaires byzantins//Melanges offerts a M. Gustave Schlumberger a l'occasion du quatre-vingtieme anniversaire de sa naissance (17 octobre 1924). Paris, 1924. Vol. 2
- Miquel A. La geographie humaine du monde musulman jusq'au milieu du 1Г siecle. Paris, 1967
- Mitard M. Etudes sur le regne de Leon VI//Byzantinische Zeitschrift. 1903. Bd. 12
- Morrison C, Seibt W. Sceaux de commerciaires byzantins du Vile siecle trouves a Carthage//Revue Numis-matique. 6e ser. 1982. Vol. 24
- Mossay J., Yannopoulos P. L'article XVI, 2 de l'Eclogue des Isauriens et la situation des soldats.//Byzantion. 1976. Vol. 46, Fasc. 1
- Oikonomides N. Silk Trade and Production from the Sixth to the Ninth Century: The Seals of Kommerkiarioi.//Dumbarton Oaks Papers. 1986. Vol. 40
- Oikonomides N. Middle-Byzantine provincial recruits: a salary and armament.//Gonimos. Neoplatonic and Byzantine Studies Presented to Leendert G. Westerlink at 75/ed. J. Duffy, J. Peradotto. Buffalo; New York, 1988
- Papachryssanthou D. La Vie de saint Euthyme le Jeune et la metropole de Thessalonique a la fin du IXе et au debut du Xе siecle//Revue des etudes Byzantines. 1974. Vol. 32
- Petit L. Vie et office de saint Euthyme le Jeune.//Revue de l'Orient Chretien. 1903. Vol. 8
- Ryden L. The Life of St. Philaretos the Merciful, written by his grandson Niketas. Critical edition with introduction, translation, notes and indices. Uppsala, 2002 (Studia Byzantina Upsaliensia, 8)
- Shboul A., Talbot A.M. Jarmi, al.//Oxford Dictionary of Byzantium/ed. A. Kazhdan. Oxford, 1991. Vol. 2
- Simon D. Byzantinische Hausgemeinschaftsvertrage//Beitrage zur europaischen Rechtsgeschichte und zum geltenden Zivilrecht: Festgabe for Johannes Sontis/Hrsg. von F. Baur, K. Larenz, F. Wieacker. Munchen, 1977
- Sophocles E.A. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods. New York, 1900
- Svoronos N. Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalite aux Xle et Xlle siecles: le cadastre de Thebes//Bulletin de Correspondance Hellenique. 1959. Vol. 83, Fasc. 1
- Theophanis Chronographia/Rec. C. deBoor. Lipsiae, 1883
- Tourneur V. L'Hexapolis armenienne au VIIе siecle et au VIIIе//Annuaire de lTnstitut de Philologie et d'histoire orientales. 1934. T. 2
- Treadgold W. T. Remarks on the Work of al-Jarmi on Byzantium//Byzantinoslavica. 1983. Vol. 44, Fasc. 2
- Winkelmann Fr. Probleme der Informationen des al-Garmi tiber die byzantinischen Provinzen//Byzantinoslavica. 1982. Vol. 43, Fasc. 1
- Yannopoulos P. Une liste des themes dans le «Livre des Ceremonies)) de Constantin Porphyrogenete//Byzantina. 983. Vol. 12. 1
- Zacos G., Veglery A. Byzantine Lead Seals. Basel, 1972. Vol. 1, Part 1
- Zuckerman C. Learning from the Enemy and More. Studies in «Dark Centuries)) Byzantium//Millenium. Jahr-buch zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr., 2005. Bd. 2