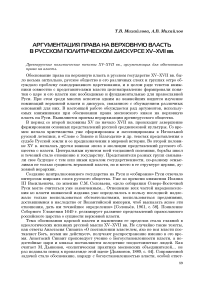Аргументация права на верховную власть в русском политическом дискурсе XV-XVII вв.
Автор: Михайлова Татьяна Витальевна, Михайлов Алексей Валерианович
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (17) т.2, 2011 года.
Бесплатный доступ
В данной работе описываются приемы аргументации для обоснования самодержавной власти в Руси, использованные в текстах древнерусских книжников -XVII вв.
Древнерусские политические тексты xv-xvii вв., аргументация для обоснования права на власть
Короткий адрес: https://sciup.org/144153306
IDR: 144153306
Текст научной статьи Аргументация права на верховную власть в русском политическом дискурсе XV-XVII вв.
Обоснование права на верховную власть в русском государстве XV–XVII вв. было весьма актуально, русское общество в его различных слоях и группах остро обсуждало проблему самодержавного царствования, и в целом ряде текстов книжники совместно с представителями власти целенаправленно формировали понятия о царе и его власти как необходимые и фундаментальные для православной Руси. При этом среди многих аспектов одним из важнейших видится изучение номинаций верховной власти и дискурса, связанного с обсуждением различных оснований для них. В настоящей работе обсуждается ряд аргументов, используемых книжниками при обосновании права московского князя на верховную власть на Руси. Выявляются приемы иерархизации древнерусского общества.
В период со второй половины XV по начало XVII вв. происходит завершение формирования основных представлений русской средневековой культуры. Со времен начала христианства уже сформированы и эксплицированы в Начальной русской летописи, в «Слове о Законе и Благодати» и др. текстах представления о судьбе Русской земли и ее предназначении в мировой истории. Во второй половине XV в. началась другая важная эпоха в эволюции представлений русского общества о власти. Центральным пунктом всей тогдашней полемики, борьбы школ и течений стало отношение к государству. Представители разных групп связывали свое будущее с тем или иным идеалом государственности, по-разному осмысливая не только сущность верховной власти, но и место в ее структуре церкви, духовной иерархии.
Создание централизованного государства на Руси и «собирание» Руси отвечало интересам широких слоев русского общества. Уже ко времени княжения Иоанна III Васильевича, по мнению С.М. Соловьева, «дело собирания Северо-Восточной Руси могло считаться уже законченным… Отношение всех частей народонаселения ко власти княжеской издавна уже определялось в пользу последней: надлежало только воспользоваться обстоятельствами, воспользоваться преданиями, доставшимися в наследство от Византийской империи, чтоб высказать яснее эти отношения, дать им точнейшее определение» [Соловьёв, 1961, с. 58]. Появление Соборного Уложения 1649 г. резюмирует развитие представлений православного российского царства о сущности верховной власти.
Тема обоснования царской власти и выяснения ее пределов стала главной в идеологических исканиях русской мысли XV–XVII вв. Не случайно такие тексты, как ответы Анастасия Синаита «О поставлении властелем, яко не вся власти поставляет Богъ, всеми же действует», получают распространение именно в это время. Анастасий Синаит проповедует учение о Богоустановленности власти, а недостойные цари и князья поставляются вследствие «недостоинства» людей. Как считает М. Дьяконов, «политическая практика московских объединителей… не раз подавала повод к пропаганде этой идеи» [Дьяконов, 1889, с. 44]. Сопряженной задачей стало обоснование, наряду с богоустановленностью власти, особой ответ- ственности царей и князей перед Богом, связанной с их особым саном. Несправедливый суд, правление не «по правде», жалобы населения вызывают внимание книжников, которые опираются на церковное законодательство Византии. Интерес к византийскому церковно-правовому порядку актуализировал и политическую теорию, согласно которой император является высшим блюстителем чистоты правоверия. Впервые эта мысль в русском коммуникативном пространстве появилась в двух посланиях митрополита Никифора к Владимиру Мономаху, а в период московского царства, особенно после Флорентийской Унии и падения Константинополя, эта идея становится популярной. Великий князь московский становится единственным блюстителем правоверия, вследствие чего русские книжники начинают называть Ивана III «Царем истинныя вѣры православия».
Вассиан Рыло, автор «Послания на Угру», убеждая великого князя выступить против Ахмата, одновременно создавал в тексте идеальный образ правителя Русской земли. Положительная оценка Ивана III в большой мере «опережает» развитие личности царя. Пышная титулация Ивана III показывает, какими понятиями оперирует автор: богоизбранность, богоустановленность великокняжеской власти: … Благов ѣ рному и христолюбивому, благородному и богомъ в ѣ нчанному, богомъ утвьржденному, в благочьстiи вся вьселеныя въсiавъшууму, наипаче же въ цар ѣ хъ прсв ѣ тл ѣ ишему и пр ѣ славному государю великому князю Ивану Васильевичу вся Руси, богомолец твои, господине, архiепископъ Васiанъ Рос-товьскiи, благословляя и челомъ бью… [ПВУ, 1982, с. 522].
Древнерусские писатели готовили общество и власть к осознанию необходимости принятия князем титула царя. По мнению А.И. Филюшкина, «попытки трактовать применительно к русскому средневековью ту сферу, которую мы привыкли в современной метасистеме именовать политикой , в политико-правовых категориях, должны быть крайне осторожными. Мы не можем обойтись без трактовки, истолкования данных терминов, поскольку их семантика гораздо более многозначна, чем в наше время. Но перед нами не просто лингвистическая замена одних вербальных обозначений правовых понятий на другие, а иная система отношений, которую современному человеку улавливать сложно» [Филюшкин, 2006, с. 14].
Представляется, что правильнее будет говорить об общих корнях данных категорий, использовавшихся в Византии, на Руси, в Европе, – и эти корни искать в христианских текстах, ибо один источник порождал одинаковое прочтение и использование в обществах, находящихся примерно на одной стадии развития. Можно говорить, что корни надо искать как в сфере политической практики эпохи (прецеденты), так и в Св. Писании и святоотеческих текстах [Филюшкин, 2006, с. 23–24].
Принятая в обычном праве отсылка на прецедент оказывается главным аргументом в «Московской повести о походе Ивана III Васильевича на Новгород», в котором говорится об окончательном подчинении Новгорода московской великокняжеской власти в 1471 г. (формально уничтожение Новгородской республики произошло в 1478 г.).
Уговоры верных Москве новгородцев и самого князя московского основываются на той мысли, что якобы Новгород издавна принадлежит как вотчина великим князьям московским. Непризнание этого есть нарушение издревле принятого и освящённого традицией закона: «… Мнози же <…> глаголаху къ нимъ: ''Не лз ѣ люди тако быти яко же глаголите за короля нам дати ся и архиепископа постави-ти от его митрополита, латинина суща. А из начала отчина есмы <…> И от того <…> за латиною есмя не бывали и архиепископа от нихъ не поставливали себ ѣ , яко же вы нын ѣ хотите ставити от Григорiя, называюща ся митрополитом Руси, а ученик-то Исидоровъ сущiи латининъ''»… [ПВУ, 1982, с. 378].
Знаменательно, что великий князь московский Иван III Васильевич использует подобные же аргументы: … «Отчина моя есте люди новгородьстiи из начала: отъ д ѣ дъ, от прад ѣ дъ нашихъ, от великаго князя Владимира, крьстивъшаго землю Руськую, от правнука Рюрикова, от пьрваго великаго князя в земли вашеи…» [Там же].
Далее следует идеологически обоснованный обман: «… И отъ того Рюрика, да иже и до (здесь, видимо, в значении ‘доже’=’вплоть до…’ – Т. М., А. М. ) сего дьни знали единъ (sic!) родъ т ѣ хъ великихъ князеи, преже кiевскихъ, до великого князя Дмитр ѣ я Юрьевича, Вьсеволода Владимирьскаго, а от того великаго князя до иже и до мене родъ ихъ, мы влад ѣ емъ вами и жалуемъ васъ, и боронимъ отвс ѣ л ѣ , а и казнити волны же есмы , коли на нас не по старин ѣ смотрити почьнете… [Там же].
Способ оценки «с давних пор это было так» – по сути, риторический способ убеждения, при том что новгородская независимость к XV в. стала для московских князей значительной проблемой, ведь и после официального присоединения в 1478 г. новгородская проблема не была решена окончательно [Соловьёв, 1961, с. 45–63; Зимин, 1982, с. 76–92]. Однако в титуле главы русского государства именно после завоевания Новгородской земли появился термин «князь Руси», да и в придачу ещё и «всея». «Это местоимение не столько констатировало факт, сколько обнародовало притязания главы княжества» [Хорошкевич, 2003, с. 58].
По мнению средневековых дипломатов, ссылка на прецедент – сильный аргумент во время титулатурных споров. Например, во время переговоров 1549 г. с Литвой русской стороне не удалось добиться признания царского титула. При оформлении перемирной грамоты, в котором участвовали дьяк Бакака Карача-ров, Иван Висковатый и литовский писарь Глеб Есман, произошёл непредвиденный боярами казус: писарь Глеб Есман отказался титуловать Ивана IV царём, ссылаясь на то, что в предшествующем перемирии такого титула не было. Кара-чаров и Висковатый утверждали, что титул весьма древний, восходящий к Владимиру Мономаху. Возможно, именно этот эпизод положил начало использованию «Сказания о князьях Владимирских» в международной практике для обоснования царского титула [Дьяконов, 1889, с. 52–83; Хорошкевич, 2003, с. 65–78].
Обращение к «старине», к традициям как к сильному аргументу в обосновании властных номинаций характерно для текстов времён Смуты.
Главным свидетельством истинности, «тождества» русского православного царя как Помазанника Божия должно быть доказательство богоустановленности его власти. Поэтому не случайно «путь» прихода к власти того или иного царя очень подробно обсуждается во всех Повестях Смутного времени. Как уже отмечалось, подлинная царская власть понимается как власть, установленная свыше. Повести Смутного времени представляют разные способы доказательства этого положения. Например, Иван Тимофеев ставит знак равенства между сотворением Адама и Евы и «поставлением» над «всякой тварью» царя: «…Иже рукою Божиею древле праотцы наши сотворены быша, супругъ первыи Адамъ со Евою,… т ѣ мъ же сеи (т. е. царь. – Т.М., А.М. ) надо вс ѣ ми бывшими яко царь самовластенъ поставися твари всеи, ему же птицы, зверiе же и гады вси страхомъ повиновахуся въ покорение, яко же своему Сотворителю, Владыц ѣ вс ѣ хъ и Господу» [ВИТ, 1909, стлб. 261].
Очевидно, главным в престолонаследии было соблюдение «древних благоуста-новлений законных» и соблюдение «добрых обычаев». Этим обстоятельством вызваны подробные описания «корня по коленству» благочестивого царя. Важно отметить, что при соблюдении «добрых обычаев» условие законности власти (законности не в социально-политическом смысле, а с точки зрения закона Всевышнего), оценка царя как «благочестивого», «доброго», «благого» и еще ряд положитель- ных оценок присутствуют в презумпции высказываний книжника. Благочестивым, по представлениям, например, дьяка Ивана Тимофеева, царь является не потому, что он действительно вел исключительно благую жизнь (точнее, это и было так для Ивана Тимофеева, но не было релевантно), а потому, что он был царь, данный России Богом («хороший» царь – законный царь, «прямой»). Ср.: «…благо-данну царю сына, иже всего великого Росiею господьствующа, государя Василiя Ивановича, великаго князя и царя корень по колѣнству и мужъ прародителей своихъ прозябения готовъ, помазанъ къ царству на столъ его и не проходенъ до здѣ лѣтъ и конец отъ рода в родъ, вѣчное благородие ему бѣ отческое… [ВИТ, 1909, стлб. 269]; «…но отъ самого Августа Цесаря Римскаго и обладателя вселенною, влечахуся во своя роды, яко день днесь, паче же сроднаго естества причтеся по благочьстии преже его благовѣрнымъ бывши; благочестивыхъ благочес-тивнѣиши законно же и святолѣпно сынови отъ отецъ поднесь происхождаху…» [ВИТ, 1909, стлб. 270].
Здесь указания на древность происхождения царя и непрерывность царственных поколений доходит почти до крайности, впадая, во-первых, чуть ли не в язычество, поскольку Цезарь был римским императором-язычником, во-вторых, в неправдоподобие по отсутствию каких-либо письменных и исторических свидетельств, которые бы оправдывали подобные пассажи.
Кроме законного наследования власти, в текстах Смутного времени обсуждаются и способы нелегитимного получения власти. Так, в «Повести о том, како вос-хыти неправдою на Москве царство Борис Годунов…» присутствует оценка, выраженная и ситуативно, и через отдельные лексемы «восхыти», «неправдою». Книжник использует прием историко-логического доказательства, который ранее использован в положительной оценочной ситуации: обращение к библейской и общей истории с уподоблением и ситуаций, и персонажей и последующим сравнением. Человек, по воле своей возжелавший царского земного престола, так же порицается, как осуждается архангел-Денница, возжелавший престола небесного. Такое приравнивание действий «непрямого» претендента понятно, так как власть царя на земле в целом подобна власти Бога во вселенной: «…Аки сатана возже-лалъ подобенъ быти небесному царю и сей Борисъ восхот ѣ лъ царскаго имени себ ѣ получити…» [ВИТ, 1909, стлб. 758].
В этом же ряду уподоблений сравнение самозванца с антихристом: «…врагъ же обаче, а не челов ѣ къ бывая словеснаго существа оболкся въ плоть антихристъ…» [Там же, стлб. 366].
Как видим, система доказательств законности номинации власти включает в себя прецедент и аналогию. Регулярно используется и обращение к христианским этическим законам. Теократического типа христианство развивается в России как стремление к гармонии духовной и светской власти («симфония властей»). Государственная власть понимается как священная миссия. Власть должна принять на себя церковные задачи. Именно поэтому церковная мысль занимается построением национальной идеологии. Это представление о симфонии властей вырастает из общего теократического принципа христианства и понимается «в духе мистического реализма как учение о двойственном строении мирового (и исторического) бытия» [Зеньковский, 1989, с. 46]. Б.А. Успенский не раз подчёркивал, что, «восстанавливая Византийскую империю в Московском государстве, русские ориентировались не на реально существующую традицию, но на своё представление о теократическом государстве: идеология при этом играла куда более важную роль, чем реальные факты» [Успенский, 2000, с. 27].
Московское царство, подобно византийскому, – оплот православия. И потому властитель царства есть защитник правоверия [Зеньковский, 1989, с. 49–50]. К примеру, в московских текстах о походе князя на Новгород жестокое подавление новгородцев обосновывается необходимостью защиты православной веры от латинян. То, что защита православия считалась главной задачей и государственной политики, подтверждается тем, что русские послы в общении с протестантами должны были в титулации царя использовать слово «православный». Русский посол в Швеции И.Е. Шарапов, согласно наказу от июля 1557 г., должен был именовать Ивана IV «православным царём русским», что в сношениях с другими государствами встречается не так часто [Хорошкевич, 2003, с. 61].
Титул «царь» меняет перспективу русского государства. Происходит смена политико-культурной ориентации, корректируется прошлое страны, выстраивается новый образ русского православного царства, формируется новое русского единое общество. Русский политический дискурс XV–XVII вв., связанный с титулацией верховной власти, использует богатый арсенал аргументов для обоснования истинности верховной власти русского правителя.