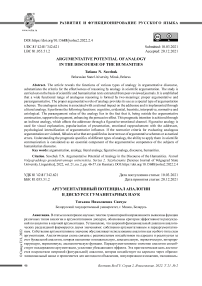Аргументативный потенциал аналогии в дискурсе гуманитарных наук
Автор: Савчук Татьяна Николаевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье на материале научных текстов гуманитарной направленности выявлены функции различных типов аналогии в аргументативном дискурсе, обоснованы критерии эффективности рассуждений по аналогии в научной аргументации. Установлено, что широкий функциональный диапазон аналогических рассуждений формируется двумя значениями: собственно аргументативным и парааргументативным. Собственно аргументативное значение обусловливает использование аналогии как особого типа схем аргументации. Аналогическая схема связана с рациональным воздействием на адресата и реализуется за счет буквальной аналогии, которая выполняет познавательную, доказательную, эвристическую, интерпретирующую, нормативную, аксиологическую функции. Парааргументативное значение аналогии способствует поддержанию аргументации, усилению убеждающего эффекта. Эта прагматическая цель достигается посредством непрямой (фигуральной) аналогии, которая воздействует на адресата через образно-эмоциональный канал и применяется для наглядного объяснения, популяризации изложения, эмоционального сближения с адресатом, психологической интенсификации аргументативного воздействия. При нарушении нормативных критериев аналогической аргументации возникают погрешности, которые квалифицируются как неправильное применение аргументативных схем либо как тактические ошибки. Понимание прагматической специфики разных видов аналогии, умение применять их в научной коммуникации рассматривается как составляющая аргументативной компетенции субъектов гуманитарного дискурса.
Аргументация, аналогия, буквальная аналогия, фигуральная аналогия, дискурс, гуманитарные науки
Короткий адрес: https://sciup.org/149140058
IDR: 149140058 | УДК: 81'42:81'342.621
Текст научной статьи Аргументативный потенциал аналогии в дискурсе гуманитарных наук
DOI:
Естественная для человеческого сознания привычка сравнивать различные явления создает основу для рассуждения по аналогии. Понимание этой когнитивно-речевой процедуры опирается на этимологию коррелирующего с ней термина: в переводе с греческого analogia – «сходство, соразмерность, пропорция». Соответственно аналогия определяется как «разновидность рассуждения, которое выражает подобие предметов или явлений в каких-либо свойствах, признаках или отношениях» [Порус, Воробьева, 2021]. Общую схему аналогии можно представить следующим образом: Если между А и В имеет место отношение подобия, при этом объект А обладает признаками a, b, c, d, объект В обладает признаками a, b, c, то, вероятно, объект В обладает признаком d ( А – аналог (модель), В – прототип (оригинал), a, b, c – общие признаки, d – переносимый признак) [Савчук, 2018, с. 87].
Аналогия исследуется с античных времен как неизменный атрибут убеждающего (аргументативного) воздействия 1, существуют различные ее концепции. В формальной и неформальной логике аналогия рассматривается как специфический (недедуктивный) тип вывода [Ивин, 2001, с. 213–226; Савчук, 2004, с. 17–21; Waller, 1991], в риторике и неориторике – как прием обоснования [Клюев, 2001, с. 104–113; Перельман, Олбрехт-Тытека, 1987, с. 226–259], в теории аргументации – как ар-гументативная схема [Garssen, 2001; Juthe, 2005; Wohlrapp, 1998] или тип аргумента [Eemeren van, Garssen, 2014; Garssen, 2009; Garssen, 2021; Macagno, Walton, Tindale, 2017].
В зависимости от парадигмы исследования выделяются разные виды аналогии. Так, традиционный подход, выработанный формальной логикой, на основании характера переносимого признака различает аналогию свойств и аналогию отношений (см., например: [Ивин, 2001, с. 216–218; Савчук, 2004, с. 18; Waller, 1991, р. 200–201]). В других концепциях под аналогией понимают наличие структурного подобия между элементами двух объектов [Juthe, 2005, р. 5; Garssen, 2001, р. 85], то есть только аналогию отношений. Как отмечают Х. Перельман и Л. Олбрехт-Тытека, аналогия является не «отношением сходства, а сходством отношений» [Перельман, Олб-рехт-Тытека, 1987, с. 227]. Ее структуру составляют тема (совокупность членов аналогии, «на которых держится заключение») и фора (совокупность членов аналогии, «служащих для подкрепления рассуждения») [Перельман, Олбрехт-Тытека, 1987, с. 227].
Принадлежность сопоставляемых объектов к одной предметной области или к различным позволяет дифференцировать соответственно прямую (буквальную) и непрямую (фигуральную / образную) аналогию [Eemeren van, Garssen, 2014, р. 41–42; Garssen, 2001, р. 86– 87; Juthe, 2005, р. 5] (в другой терминологии – «физическую» и «метафизическую» аналогию [Клюев, 2001, с. 107–109]). При этом, согласно неориторике, к «бесспорной» принадлежит лишь аналогия, в которой «фора берется из области материально-чувственной, а тема из области духовной» [Перельман, Олбрехт-Тытека, 1987, с. 228], то есть фигуральная аналогия.
Аналогия может быть строгой (точной) и нестрогой (популярной), что определяется характером признаков, участвующих в сопоставлении. Если признаки сравниваемых объектов существенны, разнообразны, тесно связаны с переносимым признаком, аналогия будет стро- гой, в других случаях – популярной [Ивин, 2001, с. 219–220; Савчук, 2004, с. 19–20].
Несмотря на различие исследовательских подходов к аналогии, представляется возможным выделить несколько инвариантных свойств этого вида рассуждения. Во-первых, между моделью и прототипом существует отношение подобия, которое является частным случаем сходства и характеризуется наличием корреляции между элементами модели и оригинала [Ивин, 2001, с. 218; Перельман и др., 1987, с. 227; Juthe, 2005, р. 7]. Во-вторых, вывод по аналогии предполагает переход от частного к частному (это нужно учитывать, чтобы не путать аналогию с другими типами аргументации) [Juthe, 2005, р. 24; Wohlrapp, 1998, р. 349]. В-третьих, прототипическому объекту обязательно приписывается новое свойство (эксплицитно или имплицитно), то есть присутствует развитие мысли (данный признак позволяет отличить аналогию, в частности, от риторического сравнения) [Савчук, 2017, с. 100].
Понимание концептуальной специфики аналогии, своеобразия ее таксономических вариантов служит методологической предпосылкой данного исследования, цель которого – раскрыть аргументативный потенциал аналогии в дискурсе гуманитарных наук 2. Теоретически исследование связано с конвергентной лингвистической концепцией аргументации, интегрирующей дескриптивный и нормативный подходы к изучаемому объекту, обеспечивающей соответственно его описание и оценку (см.: [Савчук, 2018]). Это означает, что цель статьи может быть конкретизирована двумя основными вопросами: 1) каковы прагматические функции различных типов аналогии в научно-гуманитарной аргументативной практике?; 2) каковы критерии эффективности рассуждений по аналогии в гуманитарном дискурсе?
Материал и методы
Материалом исследования послужили русскоязычные научные статьи гуманитарного профиля (175 текстов по социологии, психологии, культурологии, лингвистике, журналистике), извлеченные из рецензируемых журналов за 2001–2019 годов.
Прагматика аналогии определяется возможностью использования этого типа рассуждения в двух значениях: 1) собственно аргу-ментативном и 2) парааргументативном. Каждое из них проявляется в различных функциональных вариантах.
Такая дифференциация базируется на разграничении понятий «аргументация» и «парааргументация», релевантном для дискурса гуманитарных наук. Под аргументацией понимается интеллектуально-коммуникативная процедура, нацеленная на доказательство определенной точки зрения и убеждение адресата в ее истинности / приемлемости. В свою очередь, парааргументация рассматривается как вспомогательные компоненты дискурса, поддерживающие (усиливающие) убеждающее воздействие. Аргументация предполагает особое построение высказывания – наличие в текстовой структуре тезиса, аргументов и связи между ними, в то время как парааргумента-тивные рассуждения находятся за пределами аргументативной конструкции.
Результаты и обсуждение
Собственно аргументативная функция обусловливает использование аналогии как особого типа схем аргументации 3. Вывод по аналогии мы относим к фактуальным схемам, которые обеспечивают обоснование истинности тезиса обращением в посылках к эмпирическим данным [Савчук, 2017, с. 98–99]. В случае аналогии частный случай (факт) используется как элемент сопоставления. Аналогическая (сопоставительная) схема аргументации применяется для того, чтобы на основе сходства свойств каких-либо явлений или отношений между ними убедить реципиента в возможности сходного описания и/или оценки сопоставляемых фактов / событий. Прагматика аналогии базируется на логической закономерности: если предметы сходны в одних признаках, то они сходны и в других, значит, то, что истинно для одного предмета, истинно и для другого [Савчук, 2004, с. 17].
Реализация собственно аргументативно-го значения аналогии связана с рациональным воздействием на адресата, что предполагает использование буквальной аналогии, члены которой принадлежат близким предметным сферам. В этом случае аналогия выполняет познавательную функцию: знания о хорошо изученном научном объекте переносятся на новый объект. Такой принцип позволяет вводить в дискурс новые понятия, термины, определения, а также обосновывать их оценку:
-
(1) Введение в XVIII в. в Великобритании термина «четвертая власть» в отношении газет по праву можно сравнить с информационной революцией, подобной использованию компьютерных технологий в полиграфии или развитию Интернета 4 (ВСПбУ1, с. 114).
Переносимые на основе подобия знания могут касаться методов, моделей анализа:
-
(2) Подход, рассматривающий политическое сознание как субкатегорию по отношению к политической культуре и как ее предпосылку, а политическую деятельность как форму ее проявления, дает возможность считать политическое сознание и политическую деятельность журналиста компонентами его политической культуры. Логика этого подхода позволяет подобным образом структурировать и другие формы культуры . В частности, профессиональное сознание и профессиональную деятельность можно рассматривать в качестве компонентов профессиональной культуры, правовое сознание и правовую деятельность – как компоненты правовой культуры, моральное сознание и моральную деятельность включать в структуру моральной культуры (ВБГУ, с. 62).
Заметим, что обычно те или иные кон-ституенты вывода пропускаются, в результате аналогия оказывается свернутой, как в (1). В случае эксплицитного выражения всех составных компонентов, как в (2), имеет место полноструктурная аналогия.
Сближение модели и оригинала в аналогическом рассуждении позволяет актуализировать его доказательный потенциал. Чем ближе при этом сравниваемые предметные области, тем больше аргументативная сила сопоставительного умозаключения:
-
(3) В настоящее время за счет использования достижений науки в наиболее экономически развитых странах обеспечивается до 70 % роста ВВП. Особое значение в общественном развитии этот фактор приобретает для стран с ограниченными собственными энергосырьевыми ресурсами... К этим странам с полным основанием можно отнести и Республику Беларусь, находящуюся
в схожей с ними ситуации с энергоресурсообес-печением... (СА4, с. 210).
Положение о целесообразности приоритетного развития науки в Республике Беларусь выводится на основе сопоставления с позитивным опытом близких в социальноэкономическом отношении стран.
Доказательную роль аналогии аргумен-татор может сделать более очевидной для реципиента. Это достигается за счет акцентирования существенности сходных признаков сравниваемых объектов и второстепенности несходных свойств, а также за счет детализации этих признаков:
-
(4) Создание в нашей стране в последние годы «национальных исследовательских университетов»... вполне соответствует запросам культурноцивилизационного развития постиндустриализма во всем мире....Как бы ни были развиты США и страны ЕС в индустриальном плане, вряд ли можно с уверенностью сказать, что они «завершили» постиндустриальную модернизацию, соответственно, реформу науки и образования. Там идут такие же процессы преобразования «старых», «классических», «научно-образовательных» университетов в университеты нового поколения... Мы только были заторможены «перестройкой»... Но перед нами стоят те же самые задачи в пространстве постиндустриальной модернизации... (НИК2, с. 56).
В гуманитарном дискурсе доказательный характер аналогии проявляется как в позитивной (подтверждающей) – см. примеры (1)–(4), так и в негативной (критикующей) аргументации. В случае критики внимание фокусируется не на общих признаках сравниваемых объектов, а на их различии:
-
(5) Однако применение параметров, стилистически похожих с теми, что характеризуют первые три ветви власти, может оказать негативное действие на общественное мнение – у определенной части населения создается впечатление, что четыре власти равноценны. На наш взгляд, критерием в решении этой проблемы может служить тот факт, что законодательная, исполнительная и судебная власти обладают главной функцией – разрабатывать, принимать и претворять в жизнь управленческие решения. Они отвечают за них своим авторитетом, влиянием в обществе. У журналистики такая функция отсутствует ... (ВСПбУ1, с. 116).
В (5) основой для опровержения точки зрения, согласно которой журналистика обладает властными полномочиями, служит утверждение об отсутствии ожидаемого сходства (переносимого признака) у модели ( три ветви власти ) и оригинала ( журналистика ).
В научной аргументации существенным является эвристический потенциал аналогии, которая дает возможность предвидеть, прогнозировать характеристики новых объектов, результаты их поведения:
-
(6) В то же время не следует делать поспешных заключений о том, как Интернет повлияет на политическую систему. <...>. Точно так же как телевидение не использовало все свои возможности для влияния на политику до 60–70-х гг. ХХ в., логично ожидать, что полное влияние Интернета не проявится отчетливо в течение ближайшего времени (ВСПбУ2, с. 131).
Научная догадка может касаться рационального объяснения изучаемого явления, тогда роль аналогии будет интерпретирующей :
-
(7) По-видимому, сходный механизм однообразного восприятия лежит в основе известного феномена «дорожного гипноза» и связанной с ним высокой аварийностью на дорогах... Вероятно , психологические эффекты, возникающие при наблюдении движения вперед и, соответственно, расширяющегося пространства, согласуются с психологическими состояниями, возникающими при активизации дивергентного мышления (НПЖ4, с. 106).
Осознание учеными неточности полученных по аналогии эвристических заключений маркируется соответствующими модальными операторами, что отражено в (7).
Для гуманитаристики характерно использование буквальной аналогии не только в теоретической, но и в практической аргументации, которая мотивирует к принятию решений в разных сферах деятельности. Аргументатор, который обосновывает желательность / нежелательность определенного действия, целесообразность того или иного предложения, актуализирует нормативное значение аналогии:
-
(8) В 30-е годы прошлого века производителями и прокатчиками фильмов в США был принят Кодекс Хейса, ограничивающий демонстрацию картин, подрывающих нравственные устои обще-
- ства. <...>. Видимо, настала необходимость принять что-то подобное, касающееся средств массовой информации (СА2, с. 487).
Аргументативные действия пропонента могут быть направлены на убеждение адресата в том, что в отношении модели и оригинала возможно не только сходное описание, но и сходная оценка. В таком случае мы говорим об аксиологической прагматике аналогии:
-
(9) Постмодернистский стиль напоминает во многих аспектах подрывную (в отношении незыблемых первооснов) деятельность античных софистов и средневековых номиналистов... Жизнь у Рорти или Деррида, как в свое время у Фрасима-ха или Гиппия, лишена единой цели, не может быть объяснена, но лишь описана, причем не глубинносущностно, а поверхностно-феноменально (НИК4, с. 111).
Как видно из примеров (1)–(9), в качестве параметров сопоставления в прямой аналогии могут выступать временные, географические, политические, социальные, культурные признаки.
Общепризнанно, что аналогия – «шаткий способ аргументации» [Перельман, Олбрехт-Тытека, 1987, с. 244]. Доказательная сила этого типа вывода прямо пропорциональна степени его строгости. В гуманитарном дискурсе точная аналогия – явление редкое, обычно используется популярная аналогия.
Парааргументативное значение аналогии проявляется в том, что она поддерживает аргументацию, усиливая убеждающий эффект. Эта прагматическая цель достигается за счет непрямой аналогии, которая воздействует на адресата через образноэмоциональный канал.
Отмечается широкое использование аналогии в объяснительной функции. Причем за счет характерного для фигуральной аналогии сближения когнитивной и практической сфер («сопоставления несопоставимого», по выражению Б. Гарсена [Garssen, 2009]) достигается наглядность объяснения. Движение мысли от конкретного к абстрактному позволяет «схватить» идею, облегчает восприятие новой информации:
-
(10) Так почему же вера в магическое до сих пор жива? Возможно, она выживает так же, как
выживали мелкие млекопитающие в век динозавров: уйдя «под землю» – в глубину бессознательного (НПЖ2, с. 42).
Реконструкция подобных этому аналогических умозаключений обычно требует актуализации фоновых знаний реципиента, что позволяет сделать объяснение более очевидным, а следовательно, убедительным:
-
(11) Усвоение социальных и культурных норм, в принципе, мало чем отличается от усвоения через практику падений закона всемирного тяготения, а через болезненный ожог умения правильно обращаться со спичками (НПЖ3, с. 21).
Имплицитное уподобление социокультурных норм законам природы приводит к выводу об аналогичном (практическом) характере постижения норм культуры и социальных законов.
Использование непрямой аналогии способствует популяризации изложения, реализует тактику эмоционального сближения с адресатом:
-
(12) Странно говорить о лингвистике в сфере, названной лингвистической. Между тем резон в такой постановке вопроса не просто есть, а он весьма велик... <...>. Это столь же уместно, как рассуждать о золоте в современных золотых украшениях, о мясе в мясных колбасах, о молочных жирах в молоке и твороге, о сыре в сырных изделиях и пр. – читатель легко продолжит этот немудреный печальный ряд (ВВГУ, с. 19, 25).
Обратим внимание на то, что в (12) аналогическое рассуждение выносится в затекстовые примечания – тем самым подтверждается его парааргументативный характер. Убеждающее воздействие усиливается благодаря тому, что для прояснения одной темы аргументатор привлекает несколько сходных аналогов, объединенных «логикой здравого смысла».
Фигуральная аналогия, как правило, несет оценочный заряд, чаще негативный. Формируя соответствующий эмоциональный фон рассуждения, образная аналогия выступает как прием психологического усиления аргументации:
-
(13) ...Избыточно технологизированная среда и подчиненные ее законам сограждане живут жизнью конкретного, а порой и чисто виртуального персонажа не вместе с ним, а вместо него. Подоб-
- но ситуации на современной богатой свадьбе, где гости умиротворенно сидят за столом, а танцуют, поют и оживленно разговаривают специально нанятые для этого случая профессиональные артисты. И только один пожилой участник торжества говорит своему соседу: «Как странно, друг, – свадьба наша, а гуляют на ней другие!» (НПЖ3, с. 24).
Перлокутивный эффект негативно-оценочной аналогии подкрепляется иронической окраской высказывания, что отражено, например, в (12) и (13).
При значительной отдаленности предметных сфер фигуральной аналогии она превращается в метафору, которая квалифицируется в данном случае как «сгущенная аналогия» [Перельман, Олбрехт-Тытека, 1987, с. 249], например:
-
(14) В итоге многочисленная бюрократия рассматривает бизнес-сообщество в качестве стада овец, которое можно стричь сколько угодно раз, даже не утруждая себя заботой о нем, поскольку оно пасется самостоятельно (СА1, с. 148).
Основная цель «сгущения» аналогии – психологическое воздействие на реципиента путем актуализации эмоционального канала восприятия информации. Этому способствует использование аксиологически нагруженных слов и выражений:
-
(15) Казалось бы, объектом такого рода программ является все-таки относительно узкая социальная группа – неблагополучные семьи и дети... <...>. Однако в действительности такого рода программы имею широкий социальный контекст. Нельзя создать социальную оранжерею для избранных или социальную резервацию для неблагополучных (НПЖ1, с. 43).
Стремление к эмоциональной убедительности аргументации побуждает авторов научных текстов не только сгущать аналогию, но и, напротив, расширять, обогащать ее. Развитие аналогии происходит за счет конкретизации ее членов, сообщения детализированной информации об уподобляемых объектах и их признаках:
-
(16) Человек с естественно-научным складом мышления, который привык, что в теоретическом построении нет ни одной лишней детали ( как в изящном карточном домике), убежден, что и в гумани-
- тарной науке появление дисгармонирующего с существующей традицией факта дискредитирует всю эту традицию (стoит вытащить одну-единственную карту из нижнего ряда, и карточный домик рухнет). Однако речь идет не о карточном домике, а о муравейнике – десятках и сотнях тысяч элементов, весьма причудливо связанных между собой. Убрав лопату земли из основания, мы обрушим не весь муравейник, а лишь его участок (ФН, с. 4).
В (16) обогащенная аналогия представляет собой рассуждение особого рода – прием, называемый «сходством через противоположность» [Перельман, Олбрехт-Тытека, 1987, с. 239]: для прототипа ( методология гуманитарного знания ) формируются две модели ( карточный домик и муравейник ), которые далее противопоставляются. При этом аргу-ментатор демонстрирует несостоятельность идеи о сходстве оригинала с первой моделью, тем самым подчеркивая подобие второй пары отношений. Эффективность такой (обратной) аналогии, на наш взгляд, имеет психологические основания: внимание адресата переключается с инерционной ментальной схемы (а потому, казалось бы, очевидной мысли) на новую модель ситуации и, соответственно, неожиданную для адресата идею. В результате сознание закрепляет новую идею, поскольку ее усвоение потребовало определенных когнитивных усилий.
Интенсифицирующая роль обратной аналогии отчетливо проявляется при включении в структуру аргументирующего высказывания нескольких моделей, противоположных той, которую обосновывает аргументатор:
-
(17) Когда мы говорим о развитии коллективного сознания, о его трансформации и дифференциации в особые формы, то не должны забывать, что сознание не есть некий «духовный левиафан», не витает в воздухе, на манер гегелевского абсолютного духа, и не существует наряду с конкретными живыми индивидами и их «индивидуальным сознанием»... Институты духовного производства... оформляются в глубинах первобытности на основе деятельности особых социальных групп (НИК2, с. 41).
В (17) акцентируется отношение противоречия между оригинальной идеей и аналогами – известными, привычными образами, хранящимися в сознании реципиента в виде эксперт- ных знаний, что способствует усилению аргументации.
Использование аналогии в дискурсе гуманитарных наук возможно регламентировать. При этом необходимо учитывать несколько факторов: приоритет рациональности в научной аргументации, прагматику аргументирующего высказывания, общие закономерности аналогии, а также специфику ее разновидностей. Если эти факторы игнорируются, в аналогической аргументации возникают разного рода погрешности, которые мы квалифицируем как неправильное применение аргу-ментативных схем либо как тактические ошибки 5. Рассмотрим в нормативном аспекте несколько характерных примеров.
Аналогия возможна при развитии мысли от известного, знакомого к неизвестному и только в таком случае реализует заложенный в нее смысл. Противоположная направленность рассуждения делает вывод сомнительным:
-
(18) ... Книга, как носитель произведения, является одним из самых сложных социальнокультурных кодов... В чем-то книгу можно уподобить мозгу : как мозг в своих электрохимических сигналах кодирует и моделирует Универсум, так же и книга в знаково-информационном пространстве печатного текста моделирует и кодирует Универсум бытия и Универсум знаний (НИК1, с. 17).
Вряд ли целесообразной будет фигуральная аналогия, в которой нет развития мысли, прироста информации – сравнение делается ради сравнения:
-
(19) Слово, будучи материальным по своей сути, состоящим из звуков, несет в себе идеальное содержание – мысли, чувства, настроения, духовный мир человека. Слово – та ниточка , которая соединяет в человеке его материальную и духовную сущность, и поэтому в слове заложена огромная сила – сила речевого воздействия одного человека на другого (НИК3, с. 103).
В (19) тактический просчет усугубляется логическим противоречием выделенных образных выражений.
Логика сравнения должна быть понятной, то есть связь модели и оригинала, наличие у них общих признаков и характер переносимого признака не должны вызывать вопросов у реципиента: неоднозначность может провоцировать упрощение и искажение сути пропонируемой идеи. Проблематичны уместность и тактическая оправданность образной аналогии, которая не проясняет смысл нового понятия, а, скорее, затемняет его и в результате преобразует высказывание в псевдообъяснение:
-
(20) Капитал живет по своим законам, законам максимизации прибыли и минимизации убытков в целях самовозрастания... Он как громадная амеба , существующая с единственной целью – са-мовозрастать... Эта амеба не имеет разума, и потому ей требуются разумные слуги – люди. <...>. Капитализм – это организованная система, «телом» которой являются человеческие связи ( СА3 , с. 333).
В оценке подобных рассуждений сошлемся на высказывание теоретиков неориторики: «При модификации форы необходима осторожность, ибо при этом есть риск сделать ее чересчур фантастичной, а ведь даже в виде гипотезы нельзя утверждать то, что противоречит истине» [Перельман, Олбрехт-Тытека, 1987, с. 234]. Эта мысль представляется особенно актуальной для научной аргу-ментативной практики. При этом следует обратить внимание на то, что интерпретация, критический анализ и оценка аргументирующих высказываний / текстов предполагают вариативность, естественный источник которой – параметрические (профессиональные и личностные) характеристики исследователя-интерпретатора.
Заключение
Проведенное исследование позволяет констатировать, что в научном гуманитарном дискурсе аналогия обладает значительным аргументативным потенциалом. Широкий функциональный диапазон аналогических рассуждений формируется двумя значениями: собственно аргументативным и парааргумен-тативным. Они коррелируют с рациональным и эмоциональным воздействием на адресата и реализуются соответственно за счет буквальной и фигуральной аналогии.
Выделенные две группы прагматических значений аналогии, на наш взгляд, соотносятся с двумя дистинктивными характеристиками научно-гуманитарного дискурса. С одной стороны, критерий научности знания требует точности, строгости аргументирующих рассуждений, что находит выражение в собственно аргументативной функции аналогии. С другой стороны, гуманитарный характер дискурса снимает запрет на оценочность, образность, вероятность, отсюда – широкое использование аналогии в парааргументативной роли.
Эффективность применения аналогии определяется требованиями к научно-гуманитарной аргументации, сформированными в рамках конвергентной теории на основе прагматической лингвистики и неформальной логики. Целесообразность того или иного типа аналогического рассуждения определяется с учетом его аргументативной роли и в каждом случае предусматривает тщательный анализ с привлечением достаточного дискурсивного контекста. Немотивированная аналогия отвлекает внимание реципиента, запутывает рассуждение, тем самым ослабляет аргументацию. Однако при корректном использовании аналогия, которой свойственно преобразование имеющегося опыта в новые знания, способна стимулировать креативные идеи, концепции, решения, актуализировать творческий потенциал научного обоснования. Понимание прагматической специфики разных видов аналогии, умение применять их в научной коммуникации рассматривается как составляющая аргументативной компетенции субъектов гуманитарного дискурса.
Список литературы Аргументативный потенциал аналогии в дискурсе гуманитарных наук
- Ивин А. А., 2001. Логика. М. : Фаир-Пресс. 320 с.
- Клюев Е. В., 2001. Риторика: Инвенция. Диспозиция. Элокуция. М. : Приор. 271 с.
- Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л., 1987. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации» : пер. с фр. // Язык и моделирование социального взаимодействия. М. : Прогресс. С. 207-264.
- Порус В. Н., Воробьева С. В., 2021. Аналогия // Гуманитарная энциклопедия: Концепты. Центр гуманитарных технологий, 2002-2021. URL: https://gtmarket.ru/concepts/7211 (дата обращения: 02.02.2021).
- Савчук Т. Н., 2004. Логика. В 3 ч. Ч. 3. Недедуктивные выводы. Логические основы общения. Минск : Изд-во МИУ 51 с.
- Савчук Т. Н., 2017. Прагматическая специфика фактуальных схем в научно-гуманитарной аргументации // Весщ БДПУ Серыя 1, Педагогика. Пахалопя. Фшалойя. № 1. С. 97-102.
- Савчук Т. Н., 2018. Аргументация в русско- и бе-лорусскоязычном научно-гуманитарном дискурсе. Минск : БГУ. 279 с.
- Eemeren F. H. van, Garssen B. J., 2014. Argumentation by Analogy in Stereotypical Argumentative Patterns // Systematic Approaches to Argument by Analogy. Dordrecht : Springer. P. 41-56.
- Garssen B. J., 2001. Argument Schemes // Crucial Concepts in Argumentation Theory. Amsterdam : Amsterdam University Press. Р. 81-99.
- Garssen B., 2009. Comparing the Incomparable: Figurative Analogies in a Dialectical Testing Procedure // Pondering on Problems of Argumentation: Twenty Essays on Theoretical Issues. Dordrecht : Springer. P. 133-140.
- Garssen B., 2021. The Maxims of Common Sense: Strategic Manoeuvring with Figurative Analogies // The Language of Argumentation. Dordrecht : Springer. P. 213-227. Juthe A., 2005. Argument by Analogy // Argumentation. \bl. 19, № 1. P 1-27. DOI: 10.1007/s10503-005-2314-9.
- Macagno F., Walton D., Tindale Ch., 2017. Analogical Arguments: Inferential Structures and Defeasibility Conditions // Argumentation. Vol. 31, № 2. P. 221-243. DOI: 10.1007/s10503-016-9406-6.
- Waller B. N., 1991. Classifying and Analyzing Analogies // Informal Logic. Vol. 21, № 3. P. 199-218.
- Wohlrapp H., 1998. A New Light on Non-Deductive Argumentation Schemes // Argumentation. Vol. 12, № 1. P. 341-350.