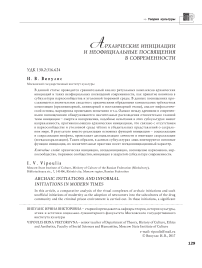Архаические инициации и неофициальные посвящения в современности
Автор: Випулис Ирина Викторовна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория культуры
Статья в выпуске: 5 (79), 2017 года.
Бесплатный доступ
В данной статье проводится сравнительный анализ ритуальных комплексов архаических инициаций и таких неофициальных посвящений современности, как принятие новичков в субкультуры наркосообщества и уголовной тюремной среды. В данных посвящениях прослеживается значительное сходство с архаическими обрядовыми комплексами: трёхчастная композиция (прелиминарный, лиминарный и постлиминарный этапы), аналог мифологической основы, маркировка прошедших испытания и т.д. Однако между древними и современными посвящениями обнаруживаются значительные расхождения относительно главной темы инициации - смерти и воскрешения, подобные испытания в этих субкультурах имеют направленность, противоположную архаическим инициациям, что связано с отсутствием в наркосообществе и уголовной среде чётких и убедительных представлений о сакральном мире. В результате вместо реализации основных функций инициации - социализации и сакрализации неофита, происходит десоциализация личности и имитация сакрализации (псевдосакрализация). Таким образом, в данных субкультурах лишь имитируются основные функции инициации, их посвятительные практики носят псевдоинициационный характер.
Архаическая инициация, псевдоинициация, посвящение наркоманов, наркосообщество, тюремное сообщество, инициация в закрытой субкультуре современности
Короткий адрес: https://sciup.org/144160725
IDR: 144160725 | УДК: 130.2:316.624
Текст научной статьи Архаические инициации и неофициальные посвящения в современности
Ритуальный комплекс инициации начал формироваться в первобытной культуре в возрастных посвящениях, позднее он в основном развивался в рамках конфессиональных, профессиональных инициаций и посвящений в тайное общество. В современной культуре он представлен не только в племенных посвящениях, во многом сохранивших первобытные черты, но и в ритуалах практически всех религий, а также в духовных практиках современных тайных обществ. Отдельные элементы архаического комплекса наблюдаются в светских профессиональных праздниках («посвящение в профессию», «посвящение в студентов» и т.п.), а также в посвятительной практике отдельных субкультур [2]. Устойчивость обрядов посвящения представляется одной из существенных черт культурной динамики, причём с точки зрения культурологии значительный интерес представляют как сохранение одних элементов данного комплекса, так и изменения других в результате общего развития цивилизации. Целью данной статьи является сравнение с ритуалом архаических инициаций посвящений в двух современных закрытых субкультурах – наркосообществе и тюремной среде.
Общими и важнейшими элементами комплекса, характерными для всех типов архаической инициации, являлись:
-
1) трёхчастная композиция ритуала – прелиминарный, лиминарный, постлими-нарный периоды;
-
2) основная тема – ритуальная смерть и второе рождение;
-
3) основа инициационной драматургии – мифологическая реактуализация;
-
4) инициатор как представитель сакрального мира и носитель тайны;
-
5) люстрация неофита, его новое имянаречение и внешняя маркировка.
Главными функциями архаического посвящения были социализация и сакрализация неофита.
Ниже мы попытаемся проследить, сохраняются ли эти элементы комплекса (и в какой степени) в соответствующих современных посвящениях.
Наркосреда. При исследовании неофициального посвящения в наркосообществе мы будем, прежде всего, опи- раться на анализ, проведённый в диссертации психолога А. В. Соболевой «Феномен инициации личности в наркосообществе» (2006). По мнению этого исследователя, «… ситуация первичного употребления наркотического вещества с использованием совместного инъекционного инструментария и сопутствующих принадлежностей, в контексте которой происходит принятие группой нового члена, по своей психологической сущности является инициацией [7, с. 91]».
Обосновывая свой вывод, А. В. Соболева указывает на ряд общих признаков (наличие мифа, маркировки, тайны, трёхчастной структуры и т.д.) у архаической инициации и посвящения в наркосообщество как тайное общество. Подростковый возраст большинства участников наркосообщества предполагает и наличие некоторых элементов возрастной инициации.
Мифологическая основа в данном случае представлена «групповыми байками». Примером коммуникативной маркировки посвящённых, помимо внешних признаков (синяков, следов от уколов и т.п.), является особый сленг, используемый «своими» для общения «по теме».
Особенность тайны, важнейшего элемента архаических инициаций в закрытых обществах (где она служила консолидирующим и сакрализирующим средством), – в том, что её основная суть лежит не в сакральной, а в юридической области (в добровольном соучастии индивидов в нарушении общественного запрета, то есть в десоциализации неофита).
Другая составляющая тайны, более соотносимая с архаическим посвящением, связана с трансфинитными пере- живаниями1 как вариантом выхода неофита в «иной» («сакральный») мир. Существование подобной тайны консолидирует сообщников как соучастни- ков преступления, а также, по мнению автора, вносит нуминозный характер в посвящение, то есть в какой-то мере является сакрализующим элементом [7, с. 66]. Структурная аналогия с традиционной инициацией усматривается в том, что при посвящении в наркосообщество тоже имеют место три стадии: сепаративная стадия (сокрытие, изоляция от профанного мира), лиминарная (употребление наркотического средства, трансфинитные переживания – «нарушение общественного запрета, дерзновение узнать новые ощущения») и реинтегративная (создание группового мифа, клятвы в соблюдении молчания, маркировка) [7, с. 105].
Существенное различие рассматриваемых посвящений связанно с темой смерти – основной темой инициации. В обоих вариантах присутствует опасность реальной смерти, но отношение участников к ней существенно отличается. Это становится очевидным при анализе танато-выбора2 неофита, элемента ли-минарного периода посвящения в наркос ообщество. А. В. Соболева находит
-
1 Трансфинитные переживания – переживания всемогущества, актуальной бесконечности и бессмертия своего бытия, физического присутствия в мире – переживание сопринадлежности вечному («всегда-бытие») и переживание сквозь-простран-ственности («везде-бытие»), всеединства [7, с. 5].
-
2 Танато-выбор индивида – осознанно избираемые действия, разрушительные последствия которых для жизни индивида предсказуемы и необратимы, выбор, заключающий в себе опасность заражения смертельными болезнями посредством использования общего инструментария при инъекции [7, с. 4].
основания танато-выбора в способе замещения более напряжённого переживания деструктивного (хамартического – трагического) периода жизни индивида в общем социуме. Другими словами, здесь страх перед реальной смертью индивида временно снимает психическое напряжение в профанной жизни: «клин клином вышибают».
Таким образом, в отличие от архаического варианта, в котором смерть осознаётся как переход к последующему освобождению, в данном случае смерть предстаёт как несущая губительные болезни со страданием, но ответственность ожидания её отодвигается индивидом, гасится в трансфинитных переживаниях. Таким образом, инициация, по сути, не завершается до конца, переход «через смерть» не осуществляется. Мир сакральный, результат трансфинитных переживаний, хоть и фиксируется, но без инициатора-интерпретатора оказывается неосознанным, иллюзорным, а значит, перестаёт быть реальным, значимым после возвращения неофита в профанный мир. В архаической инициации неофит, при поддержке инициатора преодолев страх смерти и удостоившись краткого пребывания в мире сакральном, переоценивал реальность профанного мира, находя его иллюзией, и начинал воспринимать сакральный мир как реальный, в который посвящённым можно окончательно перейти после смерти. Этот опыт освобождал неофита от страха перед ней. В наркосообществе же происходит лишь мнимое, временное освобождение от страха перед смертью и трудностями жизни, рождая тем самым впоследствии ещё большее психическое напряжение.
Обратим внимание на описываемый эффект действия наркотика как средства группового посвящения, а именно – вызывание иллюзорной персонализации – мнимого понимания и признания всемогущества своей личности, её значимости в кругу себе подобных. По словам неофитов наркопосвящения, «… характерно ощущение “общности” с участниками своей группы, единства связывающих их ощущений, переживаний ... единение … даёт чувство значимости и самостоятельности, взрослости”, “избранности”, не доступной “не своим” [7, с. 127]». При использовании галлюциногенов в древних посвящениях как магической силы верховного инициатора у неофитов, очевидно, также наблюдались иллю- зорные переживания их отраженности в сознании других неофитов. Это во многом служило самоопределению личности и усилению консолидации в сообществе. По сути, в состоянии трансфинитных переживаний происходит реальная инициация, когда инициируемый в виртуальном мире встречается с инициатором, некой силой, которая делает его исключительным, избранным, наделяя комплексом неуязвимости и защищенности от деструктивности профанной жизни. Но подобная встреча в условиях идеологической обусловленности древнего посвящения имела иной эффект (сакрализирующий неофита), так как неофиту чётко объясняли семантику его встречи с сакральным, то есть подтверждали, легализовали его индивидуальные ощущения. При стихийной инициации наркотик остаётся сильнейшим средством неосознанной интериоризации личности и переживания иллюзии «нового рождения» или «воскрешения».
Игра со смертью порождает ещё одну иллюзию – взросления индивида. Его эскапизм, решение действовать вопреки общеустановленным нормам, расценивается им как самореализация, но, по сути, выражает отказ индивида от взросления, снятие ответственности перед жизнью, асоциализацию. Его образ жизни в профанном мире не меняется, он возвращается в свой прежний лабиринт. «Сложность обрядовых церемоний предполагает переключение психической энергии от рутинных занятий на новое и необычное дело и является имитацией ритуальности в серьёзном, недетском мероприятии [7, с. 65]». Другими словами, временная групповая социализация выступает как альтернатива неудачам индивида в общей социализации.
Таким образом, значительное отличие посвящения в наркосообществе от древних инициаций связано с его тана-тальной миссией. Архаическая инициация, как правило, выполняла витальную миссию. Здесь же механизм инициации выполняет антигуманистическую роль, не освобождая дух человека, а порабощая, делая его зависимым от мира иллюзий, что ведёт к десоциализации личности.
Тюремное сообщество. Разберём другой пример неофициального посвящения, также соотносимый с древним вариантом посвящения. Посвящение в уголовной субкультуре называют тюремной «пропиской». По мнению философа П. Л. Зайцева: «Архаичность обряда прописки подобна прямой трансмиссии явлений, характерных для примитивных культур [4, с. 227]». Данный вариант посвящения, как и вышерассмотренный пример в наркосообществе, соотносится с архаической практикой тайного обще- ства. В криминальной среде данной процедуре подлежат только потенциально возможные члены группы (в отличие от армейских сообществ, где «прописку» проходят все новоприбывшие, поэтому их соотносят с возрастными архаическими посвящениями).
Психолог В. Ф. Пирожков определяет следующие основные функции тюремной «прописки»: «1) проверка и принятие новичка в конкретную группу; 2) определение ему или новой группе зоны и вида преступного промысла; 3) обучение новичков преступному ремеслу и втягивание в криминальную деятельность [6, с. 146]». Как видим, по основным функциям «прописка» более относится к испытательному (лиминарному) периоду в тайном обществе. В основе своей испытания во время «прописки» – психофизические, как и в архаике, и состоят «в проверке новичка … на сообразительность, умения постоять за себя, способности переносить боль, желания и возможности отстаивать интересы группы и др. [6, с. 146]».
Основным средством проверки являются тесты-приколы. Например, вначале инициатор (вор-авторитет или его помощники) задаёт иницианту вопросы на «ориентирование», рассчитанные на его сообразительность и знание наименований частей камеры на арго. При неправильном ответе на заданный тест-прикол следует наказание в виде жестоких побоев, денежного штрафа, инвективы-брани. Отметим, что этот элемент напоминает докимассию с ритуальным унижением посвящаемого в древневосточных ритуалах (в ранних вариантах – убийством, поздних – избиением). На следующем этапе, или единоборств, или «игрушек на смелость», иницианту дают опасное для его здоровья задание, например – упасть спиной на острые предметы. В конце «прописки» иници-ант даёт клятву верности идеалам воровского мира, кровно братается с членами группы (например, накладывают руки друг другу кровавыми порезами), инициатор – вор-авторитет – объявляет его маркировку (кличку, статус в группе – «вор – мужик – шестерка» и т.д.), даёт «лицензию»1.
Важным архаическим элементом в тюремном посвящении, разыгрываемым, как правило, в форме развлекательного представления, является юмор. Для жертвы в период её страданий общий смеховой фон испытания создаёт допол- нительное психологическое напряжение. Фольклорист Е. С. Ефимова в объяснение этой особенности вносит мифологический контент: «Вор – носитель смехового начала, он использует “дурацкую маску”, преимущество которой – возможность обнаружения и осмеяния лжегероев, обнажения чужих пороков … Вор – образ трикстера, скомороха, сказочного героя-вора … направленный на обман простака ... Простаком или дураком может являться на свободе – жертва преступления, в тюрьме – представитель администрации или первоход, новичок в тюремном сообществе, ещё не прошедший инициацию и не ставший “своим” [3]». Казалось бы, как и в архаике, инициатор, в данном случае – вор, провоцируя, подводит индивида к пределу его человеческих сил, активизирует волю, мужество, способствует «пробуждению героя».
1 «Лицензия» – разрешение, право на определённый вид и определённую зону преступной деятельности [6, с. 148].
На формальность аналогии изощрённых издевательств во время «прописки» с психофизическими испытаниями архаических инициаций указывает филолог Г. А. Левинтон: «в “первобытной” инициации жестокость отнюдь не была самоцелью, тогда как здесь она является одним из важных стимулов [5, с. 98]». Претерпевание страданий в архаической инициации, как закаливание мужества и воли иницианта, уподобление его жертве мифологического образца, направлено на возвышение его статуса, в «прописке» же отказ «прописываемого» от своей личности представлен как единственное условие сохранения жизни. В первом случае человек подавляет биологическое эго и развивает личностное, во втором
– человек подавляет личностное начало и развивает физиологическое («выстоять любой ценой, даже превратившись в зверя». – Прим. автора ). Поэтому ритуалы тюремной культуры более соотносятся с таким элементом лиминарного этапа, как «спуск в ад», «пребывание в состоянии Хаоса». Но в отличие от архаического «пребывания в Хаосе», после которого следовала необходимая люстрация и последующая сакрализация индивида, в тюремном варианте очищения не происходит.
Отметим общую особенность для тюремной «прописки» и посвящения в наркосообществе, значительно отличающую их от архаической инициации. Инициатор, как правило, переводя неофита через ритуальную смерть, открывал существующий сакральный мир за её пределами, тем самым нейтрализуя страх перед нею. В криминальном мировоззрении смерть – это не переход, а окончание пути. Индивида учат технике прео- доления страха смерти, но понимания смерти как начала «нового рождения» не дают. Страх перед смертью забивается в глубины сознания. «Инициатор»-вор ведёт иницианта, «разбуженного героя», в никуда, по замкнутому кругу, воля – тюрьма – воля и т.д.
Это связано с их особенностями представлений о профанном и сакральном мирах. Как мы отметили выше, в посвящении в наркосообществе сакральный мир обнаруживается во время трансфинитных переживаний, но в отсутствии инициатора сакральный мир остаётся не раскодированным для неофита. Сакральный мир тюремной культуры более ясный, так как создаётся самими участниками тюремного сообщества. И создают его не где-то за пределами профанного мира, а среди него.
Е. С. Ефимова, характеризуя формы проявления тюремной сакральности, указывает на элементы, по форме соотносящиеся с различными религиозными культурами: отношение мужчин-уголовников к женщинам-уголовницам как к сёстрам, ношение чёток, своеобразный аскетизм, «идейность» – непривязанность, пренебрежение к материальному миру, изготовление марочек (раскрашенных простыней с образом Христа), «иконы» в камере – правила внутреннего распорядка и т.п. Сакральность выражена в «мифологическом» восприятии мира: полярности пространства (своё – чужое, низ – верх как чистое – грязное, воля – Космос, рай, а тюрьма – неволя, ад), цикличности времени («на круги своя»: воля – неволя – воля), а также в системе табу (на красный цвет, на поклоны, на употребление слова «спасибо» и другие). Сакральность главного титула в субкуль- туре тюрьмы («вор») выражается строгим правилом написания его с заглавной буквы. В криминальном мире часто прибегают к библейским образам с иным контентом: евхаристическому смыслу тюремной пайки хлеба (суточной нормы), совместной трапезе (особой зэковской еде, круговому питью чифира), суду как эсхатологическому Страшному суду, «декалогу» воровского мира и другим. Таким образом, псевдосакральный мир криминального сообщества, не преодолевая границ профанного мира, паразитируя в нём в диффузной форме, ограничен им временными и пространственными рамками, поэтому существовать без него не может.
В основе уголовной мифологии представлены варианты мифов о «культурных героях» – о ворах прошлого (Васе Бриллианте, Соньке Золотой Ручке и других), о бродячем купце Офени как создателе арго и других легендарных событиях воровского мира.
Маркировка посвящённого по общей форме также узнаваема по архаическим инициациям: татуировка, «стигматы» (шрамы, рубцы), ношение оружия (ножа), особой одежды (ушитой, покрашенной и т.п.), особый язык (арго), самоназвание («люди») и т.п. Но, в отличие от древних практик, отсутствие здоровья как результат посвящения – «профессионального лишения здоровья на всю жизнь [4, с. 228]», в данной субкультуре приветствуется, что не было характерно для архаической инициации.
Как видим, тюремная посвятительная практика содержит много инициационных признаков, и всё же её нельзя отнести к реальной инициации. Несмотря на кардинальную перестройку личности после тюрьмы, как «фабрики преступности», мы вновь наблюдаем скрытую танатальную, антигуманистическую обусловленность данного «перерождения». Побочные функции идентичны, основные – прямопротивоположны.
Таким образом, рассмотренные нами неофициальные посвящения в деструктивной среде свидетельствуют о том, что «инициационный механизм может работать и в обратную сторону, превращаясь в техники убийства и нанесения увечий [4, с. 238]». Поэтому в заключение подобные посвящения (при отсутствии инициатора, переводящего через порог смерти, чётких представлений о сакральном мире, содержательной тайны и т.д.) мы соотнесём с практиками, которые М. Элиаде [8, с. 328], Р. Генон относили к псевдоинициациям: «… так как у них нет абсолютно ничего реального для передачи. Они представляют собой лишь подделку, часто даже пародию или карикатуру на посвящение [1, с. 49]», а учитывая их танатальную направленность – к стихийным контринициациям [1, с. 197, 287].
Список литературы Архаические инициации и неофициальные посвящения в современности
- Генон Р. Заметки о посвящении = Aperçus sur l'initiation: смысл, цели, перспективы / [пер. с фр.: Т. Б. Любимова]. Москва: Беловодье, 2010. 400 с.
- Громов Д. В. Роль юношеских инициационных посвящений в традиционном и современном обществе [Электронный ресурс] // Центр типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета: [веб-сайт]. Электрон. дан. URL: http://www. ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/Gromov.htm (дата обращения: 23.07.2017).
- Ефимова Е. С. Субкультура тюрьмы и криминальных кланов [Электронный ресурс] // Центр типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета: [веб-сайт]. Электрон. дан. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/eflmova5.htm (дата обращения: 19.10.2017).
- Зайцев П. Л. Феноменология религии: учебное пособие: в 3 частях. Часть 1: Инициация. Омск: Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2015. 272 с.
- Левинтон Г. А. Насколько «первобытна» уголовная субкультура? Обсуждение статьи Л. Самойлова «Этнография лагеря», (СЭ, № 1, 1990) // Советская этнография. 1990. № 2. С. 96-100.
- Пироясков В. Ф. Криминальная психология. Москва: Ось-89, 2001. 704 с.
- Соболева А. В. Феномен инициации личности в наркосообществе: дис. на соиск. учён. степ. кандидата психологических наук: 19.00.01 / Соболева Алла Валерьевна; Российский государственный гуманитарный ун-т (РГГУ). Москва, 2006. 146 с.
- Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения / пер. с фр. Г. А. Гельфанд; науч. ред. А. Б. Никитин. Москва; Санкт-Петербург: Университетская книга, 1999. 356 с.