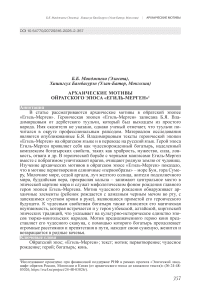Архаические мотивы ойратского эпоса «Егиль Мерген»
Автор: Манджиева Б.Б., Бямбасурэн Х.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются архаические мотивы в ойратской эпопее «Егиль Мерген». Героическая эпопея «Егиль Мерген» записана Б.Я. Владимирцовым от дербетского туульчи, который был выходцем из простого народа. Имя сказителя не указано, однако ученый отмечает, что туульчи почитался в округе профессиональным рапсодом. Материалом исследования являются опубликованные Б.Я. Владимирцовым тексты героической эпопеи «Егиль Мерген» на ойратском языке и в переводе на русский язык. Герой эпоса Егиль Мерген проявляет себя как чудеснорожденный богатырь, наделенный комплексом богатырских свойств, таких как храбрость, мужество, сила, ловкость, отвага и др. В героической борьбе с черными мангасами Егиль Мерген вместе с побратимом уничтожают врагов, очищают родную землю от чудовищ. Изучение архаических мотивов в ойратском эпосе «Егиль Мерген» показало, что в мотиве первотворения единичные «первообразы» - море Бум, гора Сумеру, Молочное море, седой аргали, луч желтого солнца, жители подсолнечного мира, буддийская вера, прекрасная кальпа - занимают центральное место в эпической картине мира и служат мифологическим фоном рождения главного героя эпопеи Егиль Мергена. Мотив чудесного рождения обнаруживает архаичные элементы (ребенок рождается с алмазным черным мечом во рту, с запекшимся сгустком крови в руке), являющиеся приметой его героического будущего. К чудесным свойствам богатыря также относится его магическая неуязвимость, которая встречается и у героя узбекской, алтайской, киргизской эпических традиций, что указывает на культурно историческое единство эпосов тюрко монгольских народов. Мотив предназначенного герою коня представляет его чудесного скакуна, с помощью которого богатырь преодолевает огромные расстояния и препятствия в пути, находит свою суженую, женится и возвращается в родные кочевья.
Ойратский эпос, «егиль мерген», текст, мотив, первотворение, чудесное рождение, герой, богатырь, конь
Короткий адрес: https://sciup.org/149148627
IDR: 149148627 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-357
Текст научной статьи Архаические мотивы ойратского эпоса «Егиль Мерген»
Oirat epic; “Egil-Mergen”; text; motif; first creation; miraculous birth; hero; bogatyr; horse.
Крупнейший ученый-востоковед, основоположник советского монголоведения, академик Б.Я. Владимирцов обладал высочайшим профессионализмом в разных областях гуманитарной науки – истории, этнографии, лингвистике, эпосоведении, фольклоре, литературоведении. В научном наследии Б.Я. Вла-димирцова особое место занимает его фундаментальный труд «Монголо-ой-ратский героический эпос», в котором содержатся переводы шести ойратских былин, записанных ученым во время его поездок в Северо-Западную Монголию в 1911 и 1913–1915 гг. от выдающегося ойратского сказителя- туульчи Парчена и дербетских рапсодов.
Тексты ойратских эпопей Б.Я. Владимирцов зафиксировал при помощи русской лингвистической азбуки, которая, по мнению собирателя, «достаточна проста и удобна и в то же время прекрасно приспособлена для обозначения звуков монгольской речи» [Владимирцов 1926, 10], и опубликовал их в сборнике «Образцы монгольской народной словесности» [Владимирцов 1926].
Героическая эпопея «Егиль-Мерген» записана Б.Я. Владимирцовым от дербетского туульчи, который был выходцем из простого народа [Владимир-цов 1926, 8]. Имя сказителя, к сожалению, не указано, однако ученый отмечает, что туульчи «считал себя и почитался в округе профессиональным рапсодом» [Владимирцов 1926, 8].
Целью данной работы является рассмотрение архаических мотивов в ой-ратской эпопее «Егиль-Мерген». Материалом исследования являются опубликованные Б.Я. Владимирцовым тексты героического эпоса «Егиль-Мерген» на ойратском языке [Владимирцов 1926] и в переводе на русский язык [Влади-мирцов 1923].
Эпопея «Егиль-Мерген» начинается с мотива первотворения, сказитель вводит слушателя в эпический мир и «имеет своей целью представление героя и хронотопа последующих событий (в такой почти не нарушаемой последовательности: время – пространство – герой)» [Неклюдов 2019, 131].
Мотив первотворения представляет архаическую модель мироздания, в котором первоначальные компоненты невелики по своим размерам и «вырастают из своего рода “космических эмбрионов”, вселенная расширяется, начиная с некоторой “нулевой отметки”» [Неклюдов 2019, 160]: «Во время, когда Дайбун-хан был малым ребенком, когда все великие народы этого мира начинали подрастать, во время, когда море Бум (Сто тысяч) было лужицей, а седой аргали был теленком, в то время, когда впервые пал луч желтого солнышка, когда стала расти вера тысячи будд этой калпы, когда жители этого подсолнечного мира только что начали расти-множиться, во время, когда стала распространяться вера Шакьямуни, в то время родился славный витязь, которому подчинились народы этого мира» [Владимирцов 1923, 204].
В зачине эпопеи представлены единичные «первообразы», которые занимают центральное место в эпической картине мира, таковыми являются море Бум ( Бум дала ), седой аргали ( Буурл һулз хурһн ), луч желтого солнышка ( Оҗ-мин шар нарн герл ), жители этого подсолнечного мира ( олн ик алвт, эн нар-тин Замбтивин алвт ), прекрасной кальпы буддийская вера ( сән һалвин миңһн бурхна шаҗн ) и др. На этом мифологическом фоне появляется на свет главный герой эпопеи Егиль-Мерген.
Мотив чудесного рождения, являясь одним из распространенных мотивов, обнаруживает архаичные элементы, ребенок рождается с чудесными признаками: «Выходя на свет из желтой утробы матери своей, держал он во рту алмазный черный меч; таким родился он, говорят. Родился он, говорят, зажав в руке кусок запекшейся черной крови величиной с печень. Стали про него говорить, что нет на подсолнечных восьми материках молодца, который мог бы превзойти его» [Владимирцов 1923, 204–205].
Как отмечает Е.Э. Хабунова: «С позиций древнего человека важны как сам момент появления новорожденного, так и ритуальная организация процесса. В этот момент изучаются все признаки, по которым можно определить дальнейшую судьбу новорожденного, это: положение, поза, состояние “выходящего”, позиция небесных светил на тот момент, реакция природного мира на данное событие, особые приметы младенца» [Хабунова 2006, 23]. К особым приметам чудеснорожденного относятся алмазный черный меч, с которым он родился, держа его во рту, и зажатый в руке сгусток крови. Рождение ребенка с мечом во рту является приметой его героического богатырства. Меч, как и его чудеснорожденный хозяин, имеет чудесную силу, этим мечом Егиль-Мерген прорубает проход в черной скале и преодолевает препятствия.
В калмыцкой сказочной традиции оружие является хранителем души богатыря. Так, в сказке «Аг-Сахал Богдитин» герой перед отправкой в путь говорит своему старшему брату: « Нәәмн насм күцв. Йовҗанав. Намаг нәәмн җилд бичә хәәтн. Үлдән хәләһәд бәәтн, нанд му болхла, үлдтн зеврх, нанд сән болад, мини керг күцәд йовхла, үлдтн цевр бәәх, – гиҗ келәд, ах бергн хойрларн мендләд, һарад йобб. (‘Восемь лет мне исполнилось. Отправляюсь. Восемь лет меня не ищите. Поглядывайте на свой меч, если плохо мне будет, меч ваш заржавеет, если со мной хорошо всё будет, если дело моё свершится, то меч ваш останется чистым, – сказав так, с братом и невесткой попрощавшись, отправился [он])» [Калмыцкие богатырские сказки 2018, 54–55].
В древнейшем монгольском памятнике «Сокровенное сказание монголов» сохранился мотив рождения Чингис-хана с чудесным признаком – он родился, сжимая в правой руке своей запекшийся сгусток крови, величиною в альчик [Козин 1941, 85], этот мотив присутствует и в изучаемой эпопее «Егиль-Мер-ген» – «родился он, говорят, зажав в руке кусок запекшейся черной крови» [Владимирцов 1923, 205]. Рождение младенца со сгустком крови в руке знаменует его героическое будущее. К чудесным свойствам родившегося богатыря относится его магическая неуязвимость: «пошарили, говорят, у него по спине и не нашли позвонка, который мог бы согнуться, поискали, говорят, у него в ребрах и не нашли места-промежутка, куда можно было бы ввести черный булат» [Владимирцов 1923, 205]. Архаичные герои тюрко-монгольского эпоса отличаются своей неуязвимостью. Таковыми являются герой узбекского народного эпоса Алпамыш: «Если бросить его в огонь, он не горит, если ударить мечом, меч не пронзает, если выстрелить из ружья, пуля не берет» [Алпамыш 1958, 212], богатырь алтайского сказания Кюгюдей-Мерген: «Спину его не согнешь – / Большим богатырем он родился, / Суставов его не вывернешь – / Сильным кезером родился» [Маадай-Кара 1973, 268], магической неуязвимостью обладает герой киргизкой эпопеи Манас: «Если поджечь его – огонь не берет, если вздумаешь ранить – топор тупится, если захочешь застрелить – стрела не проходит, если выстрелишь из пушки – ядро не пробивает» [Жирмунский 1962, 19]. Употребление формулы неуязвимости в ойратской, узбекской, алтайской, киргизской эпических традициях указывает на культурно-историческое единство эпосов тюрко-монгольских народов.
Чудеснорожденному герою воздвигают дворец. Жилище героя представляет сакральный локус с пространственно-циклической структурой. Ойратская эпопея дает подробное описание ставки богатыря Эгиль-Мер-гена: «На дверцах ставки была изображена парящая царственная гаруда, на косяках – собаки Хасар и Басар, на верхнем косяке – попугай-птица. На решетке же и на жердях крыши были вырезаны бодающиеся козлы, на подпорках – схватившиеся тигры и львы, а на круге дымового отверстия – бодисатвы всех сторон» [Владимирцов 1923, 205]. Подобные сооружения действительно имели место в исторической жизни монголов в XIII–XIV вв., о чем свидетельствует историческое сочинение «Джами ат-таварих» («Сборник летописей») персидского ученого Рашид-ад-дина, в котором говорится о сооружении дворца Угедей-хану: «…каждая сторона того дворца была длиною в полет стрелы <…> украсили то строение наилучшим образом и разрисовали живописью и изображениями» [Рашид-ад-дин 1960, 40].
Мотив предназначенного герою коня представляет его сказочно-эпического скакуна, который помогает богатырю преодолеть огромные расстояния, победить врага. «В образе коня как волшебного помощника в богатырской сказке еще ощущается отдаленная связь с мифологическими представлениями о звере, чудесном помощнике человека, основанными на древних тотемистических верованиях» [Жирмунский 1974, 250]. Одним из излюбленных традиционных тем архаического эпоса является тема подготовки героя и его коня в поход. «Ойратская эпопея в описании богатырского коня, его снаряжения, доспехов, вооружения героя достигает таких поэтических высот, которые следует считать вершиной тууль-улигера» [Кичиков 1992, 29]. Конь богатыря Егиль-Мер-гена подобен своему хозяину, он также как чудеснорожденный герой обладает чудесными свойствами: «На спине того коня не было, говорят, гнувшихся позвонков, в ребрах не было промежутка, куда бы можно было просунуть острие черного булата; воздушный был конь, говорят» [Владимирцов 1923, 206].
В сказочно-эпической традиции ойратов и калмыков мотив добывания коня имеет ряд вариантов в зависимости от сюжетной линии повествования. В калмыцкой богатырской сказке « Ашнь Алг мөртә Амн Цаһан » («[Богатырь] Аман Цаган, имевший коня Ашинь Алаг») конь сам находит своего хозяина: «В нутуке перекочевавшего хана остался, оказывается, один пегий жеребёнок, отставший от матери. Тот жеребёнок пришёл к мальчику, лежавшему в колыбели, и стал бить его копытами. Мальчик в ответ: – Если ты с плотью и кровью человек, иди сюда, если растительностью питающееся животное – иди подальше отсюда! Жеребёнок опять молча стал бить копытами. Мальчик сказал: – Видимо, это растительностью питающееся животное, – и, разбив свою железную колыбель, вышел. Смотрит он – пегий жеребёнок это. Поймал жеребёнка мальчик, собрал обрезки бечёвок, оставшиеся в нутуке, связал их и повёл его в поводу)» [Калмыцкие богатырские сказки 2018, 78–79]. В другой калмыцкой сказке «Сын дядюшки Буянта Цагана, поселившегося у истока реки Буята» юный герой получает коня «в готовом виде»: «Когда показался столб пыли, юноша зашёл в дом и сказал матери и отцу: “Эдже и аава, одному из вас восемь тысяч лет, другой семь тысяч лет, у истока нашей реки Буята показался не виданный ранее столб пыли, поднятый могучим скакуном, я поеду и посмотрю, даже если это будут бурханы, что заберут меня, или шулмусы, что лишат меня жизни”. “Будь осторожнее”, – сказали ему мать с отцом. “Ничего, – ответил [он и тут же]: – Юноша-конюх, приведи моего коня”, – повелел. Божественного коня Улана привели, конюх оседлал и, сев верхом, [он] отправился в путь» [Калмыцкие богатырские сказки 2018, 165].
Чудеснорожденный герой калмыцкой сказки «Бодь Номин хан», родившийся с золотой грудью и золотым хохолком, получает небесного коня, ниспосланного небесными покровителями: «Выйдя рано утром из дворца, [юноша] видит: с неба плавно спускается соловый [рыжий] конь с седлом, уздечкой и свисающим пухово-шёлковым чембуром в пятьсот саженей. Юноша говорит сестре: “Я поймаю этого коня”, – говорит. Сестра: “Не трогай”, – говорит. “Заберу, – сказал мальчик – если я ханский сын небесного происхождения, допрыгну до чембура коня, если я сын простолюдина, то останусь стеречь дно черной воды”, – прыгнул вверх, схватил конец чембура, потянул и спустил коня» [Хальмг туульс 1968, 43] .
Наиболее распространенным мотивом добывания коня является описание укрощения предназначенного коня в борьбе, ценой богатырских усилий: «Скалу разрушая, стал тянуть – не поддаётся [жеребёнок], кусты выкорчевы- вая, стал тянуть – не поддаётся. По колено в землю проваливаясь, тянул – не поддаётся, по нижнюю часть туловища проваливаясь, тянул – не получилось» [Калмыцкие богатырские сказки 2018, 377]. Конь позволяет себя поймать и оседлать только тогда, когда признает в богатыре своего хозяина.
В ойратском эпосе «Егиль-Мерген» юному герою коня приводит «лучший из табунщиков» старец Ак-Сахал: «…табунщик Ак-Сахал, отправился к воздушному коню витязя. <...> Стал искать он его среди тех коней. Надел он на белый укрюк в восемьдесят восемь саженей волочившийся за ним аркан в сто восемь саженей. И поймал табунщик Ак-Сахал коня Ердени-Хонгор» [Влади-мирцов 1923, 207].
Традиционная тема седлания коня и одевания героя является завершением подготовки богатыря к походу. Согласно сюжетно-композиционной структуре ойратских эпопей, герой отправляется в далекий путь в поисках своей суженой, которую необходимо добыть, проявив свои богатырские качества в борьбе с врагом. Однако в рассматриваемом сказании традиционная тема героического сватовства дается несколько иначе. Эпическое повествование имеет двухходовую организацию. Усложнение повествования происходит за счет повторной разработки тематического ядра, заключенного в первом ходе – богатырь Егиль-Мерген в поисках суженой оправляется в страну Дюрскюленг-хана, преодолевает огромное расстояние и препятствия в пути, прибыв к хану, просит руки его дочери Дуту-Мэндэр, получив согласие отца, возвращается в свои кочевья вместе со своей суженой. Во втором ходе повествования Егиль-Мерген отправляется в боевой поход, в пути встречает богатыря Байханхан-Арсалана, вступает с ним в поединок и побеждает противника. Как отмечает С.Ю. Неклюдов, «персонажи являются исполнителями разных сюжетных “ролей”, которые к тому же подчас совмещаются в одном персонаже» [Неклюдов 2019, 83]. В ходе повествования роль противника Байханхан-Арсалана меняется, из врага он становится побратимом героя. Б.Я. Владимирцов отмечает, что образ верного помощника, друга и соперника главного героя эпопеи имеет параллели с образом побратима Чингис-хана Джамухой, который является одновременно и другом и противником хана [Владимирцов 2003, 362].
Тема побратимства, присущая архаическому эпосу, получила развитие в героическом эпосе «Джангар»: побратимство Джангара и Хонгора в цикле песен джангарчи Ээлян Овла [Җаӊһр 1978, 356–357]. Согласно сюжету «Песни о том, как был покорён Мудрый Алтан Чеджи», пятилетний Джангар был захвачен в плен старым богатырем Шигширги. Определив высокое предназначение его судьбы, Шигширги отправляет юного Джангара на верную гибель – угнать восьмидесятитысячный табун Алтан Чеджи. Джангар угоняет табун, Алтан Чеджи в погоне за ним выпускает стрелу и ранит его. Конь аранзал Зер-де доставляет раненого Джангара к дворцу Шигширги, который велит своей супруге Зандан Герел изрубить мальчика на мелкие куски и скормить курам и собакам. Не дав матери исполнить повеление, их сын Хонгор обращается к ней с просьбой извлечь стрелу. Выполняя просьбу сына, Зандан Герел трижды перешагивает через малолетнего героя и спасает его от смерти. «Мотив перешагивания воплощает архаичный мотив усыновления, так, по древнему обычаю, женщина, совершившая этот обряд, становилась матерью, поэтому Хонгор и Джангар становятся братьями (побратимами), сыновьями Зандан Герел, соответственно, их отцом становится Шигширги» [Манджиева 2020, 328].
Герой эпопеи Егиль-Мерген проявляет себя как чудеснорожденный богатырь, наделенный комплексом богатырских свойств, таких как храбрость, мужество, сила, магическая неуязвимость, способность вызывать дождь, град и др. В героической борьбе с черными мангасами Егиль-Мерген вместе с побратимом уничтожают врагов, очищают родную землю от чудовищ.
Таким образом, рассмотрение архаических мотивов в ойратском эпосе «Егиль-Мерген» показало, что в мотиве первотворения единичные «первообразы» – море Бум, гора Сумеру, Молочное море, седой аргали, луч желтого солнца, жители этого подсолнечного мира, прекрасной кальпы буддийская вера – занимают центральное место в эпической картине мира и служат мифологическим фоном рождения главного героя эпопеи Егиль-Мергена. Мотив чудесного рождения обнаруживает архаичные элементы (ребенок рождается с алмазным черным мечом во рту, с запекшимся сгустком крови в руке), которые являются приметой его героического будущего. К чудесным свойствам богатыря также относится его магическая неуязвимость, которая встречается и у героев узбекской, алтайской и киргизской эпических традиций, что указывает на культурно-историческое единство эпосов тюрко-монгольских народов. Мотив предназначенного герою коня представляет его чудесного скакуна, с помощью которого богатырь преодолевает огромные расстояния, препятствия в пути, находит свою суженую, женится и возвращается в родные кочевья.