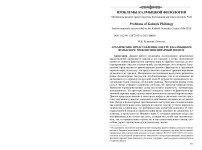Архаические представления о ветре в калмыцком фольклоре: междисциплинарный подход
Автор: Куканова Виктория Васильевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 2 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
Данная работа посвящена исследованию архаических представлений калмыцкого народа и его предков о ветре, являющихся одним из главных фрагментов картины мира во фрейме «погода», и конструированию смыслов и коннотаций, составляющих этот концепт. Актуальным представляется реконструкция данного фрагмента в архаичной картине мира, поскольку эти представления отражают древние верования калмыков и их предков. Материалом исследования выступили разножанровые фольклорные тексты, как опубликованные, так и не изданные на калмыцком и в переводе на русский язык. В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы. Внутренняя форма слова салькн ‘ветер’ отражает семантику свободы, что присуще природе ветра. Важными характеристиками слова выступают влажность, температура, интенсивность. В структуре данного концепта, одного из фрагментов архаичной картины мира, наличествуют компоненты научной картины мира. Данное природное явление в некоторых мифах и сказочных текстах предстает как живое существо, наделяется действиями человека, но не эмоциями. Ветер в фольклорных произведениях выступает как положительная, так и разрушительная сила, причем во многих текстах устного народного творчества сохранилась эта амбивалентная структура концепта. В пространственной модели устройства мира ветер занимает не срединное положение, а происходит из Нижнего мира. С течением времени ветер стал восприниматься не только как сила, стоящая на службе как положительных, так и отрицательных героев, но и как самостоятельная стихия, способная дарить пропитание и, следовательно, жизнь.
Калмыцкий фольклор, ветер, концепт, мифология, верования, междисциплинарный подход, нижний мир
Короткий адрес: https://sciup.org/149136593
IDR: 149136593 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00058
Текст научной статьи Архаические представления о ветре в калмыцком фольклоре: междисциплинарный подход
Погода всегда являлась важной составляющей жизни людей, в особенности для человека в прошлом (и даже в настоящее время в некоторых регионах), жизнь которого напрямую зависела от нее. В силу этого метеорология занимает значительное место в культуре и, следовательно, является важным структурным элементом картины мира (понимаемой как «совокупность знаний о действительности, сформировавшуюся в общественном сознании» [Попова, Стернин 2007, 4]), отображая национальнокультурную специфику. Представления о природных явлениях отражают различные уровни разных картин мира того или иного народа, в их числе обыденной, наивной, мифологической, религиозной и даже научной.
Для калмыцкой науки весьма актуально рассмотрение национальной
** The reported study was funded by government grant in the form of federal budget subsidy aimed to support scientific research directed by the Leading Scientist - project name “From Paleogenetics to Cultural Anthropology: Comprehensive Interdisciplinary Research of Peoples and Traditions of Cross-Border Regions - Migrations, Cross-Cultural Interactions and Worldviews’’ (No. 075-15-2019-1879).

картины мира в фольклорных произведениях, поскольку в таких текстах отражены исторический опыт народа, особенности занимаемой территории, верования, ценности, образ жизни и многое другое. В данной работе нам бы хотелось рассмотреть такое природное явление, как ветер, поскольку он занимает важное место в осмыслении концепта «погода». Поток воздушных масс является причиной, с научной точки зрения, других природных явлений (прежде всего, дождя). Думается, что в культуре монголоязычных народов можно выделить два главнейших природных явления: ветер и дождь. Остальные, на наш взгляд, не столь многогранны в восприятии и не имеют сложной концептуальной структуры, что требует отдельного исследования и пока на данный момент является только гипотезой. Целью данной работы является реконструкция архаических представлений о ветре у калмыков, принадлежащих по своему происхождению к монгольским народам, и выявление структуры этих представлений в архаичной картине мира на материале фольклорных произведений.
2. Материалы
Материалом для данной работы послужили эпические песни «Джан-гара», сказочные тексты, мифы, легенды, подготовленные для публикации фольклористами Калмыцкого научного центра РАН, причем часть из которых уже издана; см., например: [Калмыцкий героический эпос 2020; Калмыцкие богатырские сказки 2017; Калмыцкие волшебные сказки 2020; Мифы, легенды и предания калмыков 2017], - а также рукописи будущих изданий, например калмыцкие сказки о животных, бытовые, кумулятивные сказки и небылицы и эпические репертуары. Кроме того, в работе использовались и другие издания фольклорных текстов, вышедшие в советское и постсоветское время. Среди эпических песен «Джангар» представлены все известные тексты. Исследователи эпоса «Джангар» насчитывают 28 известных песен, записанных в XIX XX вв. у джангарчи той или иной исполнительской школы и объединенных в репертуарные циклы: Малодербетовский цикл (3 песни) (см. подробно: [Манджиева 1999]), Ба-гацохуровский цикл (3 песни) (см. подробно: [Убушиева 2009]), репертуар Ээлян Овла (10 песен) (см. подробно: [Кичиков 1969]), Мукебюн Басангов (6 песен) (см. подробно: [Сангаджиева 1971; Убушиева 2011 Ь]), Дава Шавалиев (5 песен) (см. подробно: [Басангова, Манджиева 2004]), Насанка Балдыров (1 песня) (см. подробно: [Сангаджиева 1967, 31-32]), Бадма Об-ушинов (1 песня) (см. подробно: [Убушиева 2011 а]).
Нерешенным является вопрос об используемых терминах цикл, версия, вариант, а также об их соотношении. Вопреки традиции, которая сложилась в академических кругах КНР, занимающихся изучением эпоса «Джангар», в отечественной фольклористике принято использовать, наряду с общим определением типа эпоса - циклизованного - и более в узком смысле, когда к циклу относят эпические песни, цельные по своей структуре, исполняющиеся в одной манере и бытующие на одной территории проживания. Чао Геджин, исследователь из КНР, относит эпос «Джангар» к циклу, поскольку он состоит из множества песен с закрытыми взаимными связями (причем каждая песня - это независимая история о одном или нескольких героических поступках) [Chao Gejin 2001, 403], которые связаны друг с другом только появлением хана Джангара в каждой из них [Chao Gejin 1997, 326]. Кроме того, ученый считает, что в монгольском эпосе можно выделить различные эпические традиции (калмыцкую, синьцзянскую и т.д.), те или иные эпические центры [Chao Gejin 1997, 326]. А.Ш. Кичиков называл эпос «Джангар» также циклизованным произведением устного народного творчества [Кичиков 1997, 177], но в то же время выделял малодербетовский и багацохуровский циклы или версии [Кичиков 1990, 89; Кичиков 1997, 165]. На наш взгляд, необходимо разграничивать эти понятия. Версия - это цикл эпических песен или отдельные песни, которые имеют национальный характер и, следовательно, исполняются на одной территории и на одном языке. В нашем случае уместно говорить о калмыцкой, синьцзянской, монгольской и других версиях эпоса «Джангар». Неоправданно, по нашему мнению, наделять статусом версий отдельные внутринациональные традиции, как, например, малодербетовская версия, багацохуровская версия. Данные традиции функционируют на одной территории (речь идет о территории проживания народа в целом) и исполняются они на одном языке (в нашем случае - калмыцком), различаясь только в части диалектных особенностей в большей степени на лексическом и в меньшей степени на грамматическом уровнях. Более сложно в определении понятие «варианта», ведь варианты могут сосуществовать как в разных версиях, так и в рамках одной традиции. Следовательно, под вариантом мы понимаем изменение трансформантных элементов фольклорного текста и сохранение константных элементов [Зарипов 1983, 18].
Все песни уникальны, так как записаны в разное время, у различных сказителей, принадлежавших разным школам исполнительского искусства и проживавших на различных территориях Калмыцкой степи. Следует отметить, что это только известная ученым часть эпического наследия калмыцкого народа, неясно, какая часть осталась скрытой от исследователей XIX XX вв. Калмыцкой степи, которую они не смогли зафиксировать в силу разных причин. Возможно, что они не имели сведений о бытовании эпических песен в других калмыцких хотонах, которые кочевали на протяжении всего года.
Сказочные тексты представлены наиболее репрезентативными вариантами, которые были отобраны для публикации в Своде калмыцкого фольклора (см. подробнее: [Басангова, Манджиева 2007]). Тома составлены в зависимости от жанра, объема текстов: так, например, в первый том сказок вошли богатырские сказки, во второй - волшебные сказки, в третий -сказки о животных, бытовые, кумулятивные сказки и небылицы. Другими словами, в качестве материала исследования выступают все виды сказок.
Кроме того, в материал исследования вошли и калмыцкие мифы, легенды как тексты, содержащие наиболее архаичные элементы мифоло-
гического мировосприятия. Среди них особое место занимают мифы о сотворении мира, природных явлениях и небесных телах. При проведении исследования привлекались разные этнографические издания, в которых содержатся фольклорные тексты (например, [Смирнов 1999; Душан 2016]).
3. Результаты
Предки калмыков, ойраты, долгое время проживали на степных территориях Центральной Азии, именно этот факт обусловил ряд особенностей в структурировании архаических представлений о ветре. Предки же ойратов и - шире - других монгольских народов, по одной из гипотез, относятся к «лесным» народам [Дашибалов, Рассадин 2004]. Напомним, что существуют две гипотезы о происхождении монголов: автохтонная (монголы - исконные обитатели степей) и миграционная (монголы - пришлый в Центральной Азии народ) [Дашибалов, Рассадин 2004, 34]. Ойраты чаще и плотнее контактировали с тюркскими племенами, что отражается в мифологии ойратов и калмыков в большей степени, чем у других монголоязычных народов [Неклюдов 1988]. Думается, что фольклорные произведения сохранили те или иные «элементы древней монгольской культуры, не затронутые масштабными историческими событиями, неоднократно менявшими этническую и политическую карту собственно Монголии» [Дашибалов, Рассадин 2004, 35]. В качестве прародины ученые называют южную часть дальневосточного региона [Дашибалов, Рассадин 2004, 34].
Особое географическое положение территории проживания ойратов и ее природно-климатические условия, образ жизни, степень зависимости благополучия от данного природного явления обусловили отсутствие многообразия номинаций ветра в калмыцком языке: в эпических текстах используется только лексема салъкн ‘ветер’, которая, как известно, имеет праалтайское происхождение [Этимологический словарь 2003, 194; Starostin, Dybo, Mudrak 2003, 1206-1207]. Лексема салъкн восходит к *sal(b)i ‘свободный, несвязанный’ [Starostin, Dybo, Mudrak 2003, 1206-1207], что впоследствии получило разные значения и производные, среди которых можно назвать и анализируемую лексему. В тюркских языках данная лексема приобрела значения ‘холодный, прохладный’, а в монгольских языках сформировалось значение ‘прохладный / холодный / сильный / освежающий ветер’ [Этимологический словарь 2003, 195], которое затем было заимствовано в соседние тюркские языки: уйг. диал. - ‘прохладный ветерок’, тув. - ‘легкий ветерок’, тоф. - ‘тихий освежающий ветерок’, як. -‘ветерок’, чаг. - ‘холодный ветер в жаркий день’, сюг. - ‘холодный ветер’ [Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков 2001, 41].
В отличие от других культур, как, например, древнегреческой мифологии, где Зефир являлся богом западного ветра, а Борей - богом северного ветра, ветер в монгольской мифологии не различается по сторонам света, отсутствуют боги или повелители ветров. Интересно, что в фольклорных текстах содержатся народные наблюдения, что дождь идет после того, как ветер «нагонит» тучи, что соответствует элементам научной картины мира, когда ветер является причиной других атмосферных явлений:
С обеих сторон сочится,
Хонгор увидел.
«Что же это?» - так подумав,
[На скаку] из-под ног [скакуна]
Пригоршню песка выхватив,
К чтимого богдо* стране,
К верховным бурханам** взывая,
К любимым матери и отцу взывая,
Вверх подбросил её -
Драгоценный благодатный дождь
Тут же пролился,
Ветер, что несёт драгоценный дождь,
Тут же поднялся***.
[НА КалмНЦ РАН. Рукопись тома «Цикл песен джангарчи Давы Шавалиева»]
* Богдо - 1) одно из высших званий в иерархии буддийской церкви; 2) святой, божественный; 3) повелитель, властитель.
** Бурхан - 1) Будда; 2) божества буддийского происхождения; 3) божества добуддийского происхождения.
*** Здесь и далее приводится перевод, осуществленный научным сотрудником КалмНЦ РАН Т.А. Михалевой.
В фольклорных текстах концепт ветра выступает в двух когнитивных признаках: с одной стороны, ветер появляется, когда его вызывают те или иные сверхъестественные персонажи, богатыри; с другой стороны, ветер сам определяет погодные условия.
3.1. Виды ветра
Несмотря на первичное значение лексемы, в фольклорных текстах ветер бывает разный: свежий, прохладный - холодный - знойный, сильный. Если свежий, прохладный и холодный имеют положительную коннотацию, то знойный и сильный - отрицательную, ср.:
|
В его, гордого орла, стране покой во |
Обжигающе знойным был ветер, |
|
царился, |
Ни глотка воды не находилось, |
|
Державу свою, как скалу, он укрепил, |
У Бурал Галзана его |
|
Бурханов веру, как солнце [свои лучи], |
На загривке жира не стало, |
|
распространил. |
В трубчатых костях костного мозга |
|
Порывистый холодный ветер |
не стало, |
В вечные четыре времени [года] прохладу нести заставил, Ароматы мускуса и благовоний
Четыре ноги раскорячив, В землю уткнулся он.
Зной нестерпимым был, Не находилось травы, чтобы по-
В вечные четыре времени [года]
По всему Замбативу * распространяя. жевать,
[НА КалмНЦ РАН. Рукопись тома «Ба- Не находилось воды, чтобы губы гацохуровский цикл»]
* Замбатив - Тибет.
намочить.
Солнце его обжигало,
Встречным ветром его обдавало, Золотистое боевое жёлто-пёстрое копьё
Поперёк держа,
Тихим галопом,
Теряя сознание, подъехал.
[НА КалмНЦ РАН. Рукопись тома «Цикл песен джангарчи Ээлян Овла»]
Из приведенных отрывков видно, как в эпических песнях «Джангар» отражено отношение человека к анализируемому природному явлению: с одной стороны, это прохлада, которая крайне важна для кочевника Центральной Азии, а с другой - знойный ветер может быть опасным для жизни человека. Легкий ветерок приносит облегчение и путникам-богатырям, и верным их коням, подобных примеров можно найти множество по фольклорным текстам. Однако следует отметить, что чаще всего, на наш взгляд, описывается прохладный ветер, который является поистине спасением в знойных степях как в Центральной Азии, так и в Нижнем Поволжье. Так, например, в эпосе «Джангар» в описание идеальной погоды включается и ветер, приносящий свежесть:
Страна, где смерти не зная, вечно жили,
Где все двадцатипятилетними всегда были,
Где не было зим, где всегда весна была,
Где не было лета, где осень всегда была,
Где не было стужи,
Где не было зноя,
Где свежий ветер дул,
Где дождь моросил -
Такой Бумба страна была.
[НА КалмНЦ РАН. Рукопись тома «Эпический цикл джангарчи Ээлян Овлы»]
На основе анализа фольклорных материалов важными при характеристике ветра выступают такие характеристики, как влажность, температура, интенсивность, не имеют значения его направление, сезонность, про- должительность и т.д. При этом характеристики влажности и температуры выражены имплицитно, то есть названы не прямо, а через другие номинации, где одной из сем является указание на них. Именно эти признаки являются доминирующими для носителей данной культуры.
3.2. Антропоморфизация ветра
Калмыки, как и другие народы мира, наделяли природные силы, небесные тела антропоморфными свойствами (физическими и/или эмоциональными). Нами был обнаружен только один калмыцкий миф, в которой ветер предстает как живое существо:
[Говорят, что] ветер живёт в огромной красной яме, заткнутой войлоком. За этой ямой следит какая-то старуха. Верх ямы старуха всё время накрывает войлоком от дымохода.
Иногда ветер, сильно задув, сбрасывает войлок и устремляется на волю. В таком случае говорят, что настало время дуть ветру. Тогда старуха берёт из дома войлок и затыкает эту яму. Так она заставляет ветер утихнуть. Некоторые люди так говорят. [Мифы, легенды и предания калмыков 2017, 53-55]
Здесь в тексте ветер предстает как живое существо, на которое переносятся действия человека - жить, сбрасывать, устремляться на волю. Если быть точнее, то как существо, лишенное свободы. Этот момент очень знаменательный в архаичных представлениях, содержащихся в фольклорных текстах. Здесь прямая связь с первичным значением корневой лексемы в праалтайском языке, напомним: *sal(b)i ‘свободный, несвязанный’ [Starostin, Dybo, Mudrak 2003, 1206-1207]. Однако в мифе не описывается внешний облик ветра, что, скорее всего, связано с его невидимостью. В тексте представлена частичная изначальная антропоморфизация на уровне мироустройства [Альшевская 2019, 22]: у ветра есть «дом» - яма, которая имеет ограниченное пространство и которая накрыта войлоком. Здесь представлен весьма интересный этнографический момент: племена, которые населяли юг Дальнего Востока, на основе археологических данных, проживали в жилищах полуподземного типа [Деревянко 1981, 75-110]. Вероятно, что в мифе отражен архаический элемент материальной культуры предков калмыцкого народа. Е.И. Деревянко в своей монографии сопоставляет жилища калмыков и мохэ, приводя цитату из работы В.П. Дарбаковой: «.. .по-луврытое в землю жилище строилось следующим образом: рыли углубление в 1,5 м, затем воздвигались стены (из деревянных брусков или досок), высота которых достигала 0,5-1 м выше уровня земли. Основание стен присыпали землей. Изнутри стены обмазывали глиной, пол также был глиняным. Крышу делали обычно двускатную, земляную» (цит. из работы В.П. Дарбаковой [Дарбакова 1968, 40] по: [Деревянко 1981, 100-101]).
В этом отрывке антропоморфность ветра предстает как данность, так как она не приобретена в ходе каких-либо действий, ветер очеловечивается на уровне плана выражения, то есть на уровне действий, он не наделяется
свойственными для людей чувствами и мыслями, и, следовательно, персонаж не проявляет себя в плане содержания. Человек «делает ближе то, что было для человека чуждым, внешним, “овнешненным”» [Титова 2013, 3], так происходит и с этим природным явлением, когда человек пытался объяснить этиологию ветра, приближая его тем самым к себе и познавая как явление одного и того же толка, что и сам человек. Антропоморфизацию можно рассматривать как прием познания человеком мира, являющимся неотъемлемой частью природы. И ветер, и человек принадлежат природе, хотя нет еще четкого и определенного противопоставления (вербально выраженного), когда человек осознает, что он особенный в этом мире.
Существует и другая интерпретация ямы, в которой живет ветер, согласно мифу. Остановимся подробнее на ней.
Ветер в этом мифе предстает как антропоморфная стихия иного мира. Для тюрко-монгольской мифологии характерно представление о мире, который делится как по вертикали, так и по горизонтали. В вертикальном членении мир состоит из верхнего, срединного и нижнего миров. На первый взгляд, кажется, что ветер - это создание верхнего мира, хотя не совсем ясно, почему он тогда живет в красной яме, традиционно считающейся входом в Нижний мир, через который в него могли попадать сказочные персонажи [Содномпилова 2009, 37]. Красный цвет ямы - это вход в огненный Нижний мир. Яма во многом напоминает могилу: нет входа, нет дымохода, яма накрыта войлоком (аналогичный мотив можно встретить и в эпосе «Джангар» [Кичиков 1994, 229-230]). У племени мохэ, которое проживало на территории юга Дальнего Востока, было распространено несколько обычаев хоронить своих сородичей: 1) погребение в земле сразу после смерти; 2) погребение в помостах, укрепленных в лесу, а затем перезахоронение в земле; 3) кремация [Деревянко 1981, 216-217]. Причем в результате археологических изысканий ученые сталкивались со случаями, когда перед погребением могилы были обожжены, стенки их прокалены докрасна. Такие могилы датируются тюркским временем в Сибири [Деревянко 1981, 220]. Тип захоронения, скорее всего, зависел от социального положения, которое умерший занимал при жизни, а также от половозрастных различий [Деревянко 1981, 219]. Е.И. Деревянко сравнивает это с обычаями, которые практиковались у калмыцкого народа, и приводит цитату из «Сборника обычного права сибирских инородцев»: «В случае кому смерти, делают разные похороны, разбирают людей правых от несправедливых, а также богатых от бедных; первых, как недостойного или бедного человека, в том же самом платье, в коем смерть случится, закапывают в неглубокие ямы, в землю, и кладут вверх лицом на полдень; покрывают войлоками, но землею не засыпают, а покрывают досками и потом уже насыпают землю; богатых же или весьма почетных или достойных поведением сжигают на огне или вешают на лесину обще с оставшеюся его лошадью, на которой он более любил ездить» [Сборник обычного права... 1876, 2].
Поэтому мы склоняемся ко второй интерпретации, что яма - это моги- ла, которая может выступать входом в Нижний мир. И неслучайно старуха прикрывает войлоком эту яму, где живет ветер, чтобы вход в иной мир оставался закрытым и чтобы ветер не покидал эту яму на долгое время. Получается, что ветер происходит из Нижнего мира и является, согласно некоторым представлениям, причиной атмосферных явлений, например, дождя, как и у древних тюрков [Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков 2006, 366]. Так, в одном из мифов говорится, что изначально была пустота, неведомою силою со всех сторон подул ветер, в результате чего образовалась туча и пошел дождь.
До сотворения нашей планеты превыше воздушной сферы существовало неизмеримое пространство, пустота (хоосун). В этом неизмеримом пространстве творческою силою с десяти сторон (то есть с востока, запада, севера, юга, северо-востока, северо-запада, юго-востока, юго-запада, сверху и снизу) подул сильный ветер (выделение автора статьи. - В.К.), который нагнал множество облаков, сплотнившихся в громаднейшую тучу. Туча испустила сильнейший дождь, от которого образовалось величайшее бездонное море, носившееся в воздухе и только им поддерживаемое. Море имело форму сердца, почему и вода в нем называлась златосердечною (алтын дзюркэ туусун) [Смирнов 1999, 57].
В калмыцкой богатырской сказке «Нальхан Цаган Эджи Богатырь Най-хал» к богатырю приходит мус (многоголовое чудовище, оборотень), при этом его приход сопровождается атмосферными явлениями - ветром, который, в свою очередь, вызывает дождь:
Пришли [они] домой. [Оказалось] большая чёрная кибитка с четырёх сторон с подпорками. Семь человек ведя за собой, вошёл он.
-
- Это и есть Нальхан Цаган эджи трёхлетний Найхал! - так говоря, головами с растрепанными чёрными волосами миллион и восемь поклонов отвесили, набожными чёрными головами сто тысяч и восемь поклонов отвесили они.
Наступило утро следующего дня.
-
- Если Нальхан Цаган эджи трёхлетний Найхал явился, не выходите, если не явился, в рот ко мне по одному заходите! - так говоря, сильный ветер поднимая, проливной дождь вызывая, приближался [мус]. [Калмыцкие богатырские сказки 2017,269].
Мус из Нижнего мира обладает магией управлять атмосферными явлениями, как, например, богатырь эпоса «Джангар» - Хонгор, который связан своим происхождением, по одной из песен, через мать Шилтэ Moha хатн (‘ханша Шилтя Змея’) также с Нижним миром, обитателями которого являются змеи [Бакаева 2003, 83].
В интерпретации мифа о ветре возможны две гипотезы: с одной стороны, ветер происходит из Нижнего мира, то есть из «земли как прародительницы всего, что имеется в солнечном мире» [Бакаева 2003, 136]; с другой стороны, в Нижнем мире находится источник создания ветра или управления им. Пока однозначный ответ этому дать невозможно в силу ограниченности фольклорного материала, который был доступен автору данной работы. В пользу первой гипотезы говорит предостережение, которое нам часто приходилось слышать в детстве: ху салък шулм кееж;днд ‘шулма вихрь нагоняет’.
Здесь можно привести в доказательство еще один калмыцкий миф:
В тихие ясные дни в самый зной вдруг поднимается вихрь. Пыль окутывает землю, словно дым, столбом поднимается. Люди пугаются, считая, что в этот момент пробегает шулма, плюют и молятся. [Мифы, легенды и предания калмыков 2017, 55].
Ветер в этом мифе предстает в образе антропоморфного существа, которое нужно контролировать, ограничивать его действие, что делает старуха, которая предстает здесь как сила, которая упорядочивает пространство, позволяя время от времени вырываться этой стихии в срединный мир, что еще раз подчеркивает, что человек осознает свою особость во вселенной.
В некоторых сказках проявляется уже не примитивная модель мышления, а более сложный процесс понимания особого места человека в природе, когда он видит себя более сложным созданием, качественно отличным от других субъектов природы. Так, например, в калмыцкой бытовой «Сказке о селезенке» ветер также антропоморфен (опять на уровне плана выражения, без описания внешнего вида, но в отличие от первого мифа, который приведен выше, ветер здесь отвечает на вопросы персонажа). Человек в этой сказке превосходит других персонажей, что уже говорит о том, что в сказке описано его особое положение и место в природе:
Селезёнка, переваливаясь, до тучи добралась.
-
- Туча, ты сильнее или я сильнее? - спросила. Туча:
-
- Я сильнее, - ответила.
-
- Почему ветер, задув, угоняет вас?
-
- Ветер сильнее, - ответила.
Селезёнка, переваливаясь, добралась до ветра.
-
- Ветер, ты сильнее или я сильнее? - спросила.
Ветер:
- Я сильнее, - ответил.
- Если ты такой сильный, почему не выветришь воду, которая помалу собирается в ложбине?
- Значит, вода, помалу собирающаяся в ложбине, сильнее, - ответил [Бардаев, Кирюхаев 1993, 148].
3.3. Ветер-помощник
Существует еще один калмыцкий миф, в котором дается описание причины появления ветра:
В степи живёт одна хромоногая старуха с дочерью, оказывается. Когда стару- ха выходит [из дома] - ветер поднимается.
А стихает ветер только тогда, когда старуха устанет [Мифы, легенды и предания калмыков 2017, 55].
В этом тексте появление ветра связано с выходом старухи из дома, то есть из освоенного ею пространства, скорее всего, из Нижнего мира. Телесная инаковость обычно рассматривается в фольклорных текстах как визуальный маркер принадлежности персонажа Нижнему миру или избранничества, но при этом дефекты опорно-двигательной системы могут являться признаком «сверхъестественных существ, которые живут в ином пространстве-времени» [Сподина 2016, 129]. Из мифа неясно, сама ли старуха является ветром или она вызывает ветер, когда покидает Нижний мир и появляется в Срединном мире. Однако, скорее всего, старуха живет в Нижнем мире, что еще раз подтверждает точку зрения о том, что ветер -явление Нижнего мира.
Ветер выступает как помощник и у сил зла, и у сил добра. Нет четкого противопоставления в вопросе, кто может управлять ветром. Выше приведен пример, когда ветер вызывался мусом. Также ветер может выступать в качестве помощника и у добрых сил - богатырей, обладающих большой физической силой. Так, например, богатырь Хонгор вызывает дождь не только в момент непосредственной угрозы его жизни, например, сжигания на костре, но и для облегчения преодоления пути:
[Опять] поднимали они его
И, когда, костёр огромный разведя,
Крепко-накрепко связанным
Бросали его туда,
Над ним с войлочное покрывало юрты,
Как лепестки, сложившись, синяя туча появлялась,
[Из неё] дождь, град и ветер
Разом налетали и гасили пламя.
[НА КалмНЦ РАН. Рукопись тома «Багацохуровский цикл»]
Кроме того, ветер может быть помощником и у животных. Так, например, в богатырской сказке верный конь будит своего хозяина легким ветерком и небольшим дождем: «Услышав это, его косматый буланый скакун подумал: “Как же мне его разбудить? Если ляганием будить, можно убить, если ржанием будить, можно испугать”, - и, напустив лёгкий ветерок, вызвав мелкий дождик, разбудил его» [Калмыцкие богатырские сказки 2017, 279].
Образ ветра в мифах и сказках, которые возникли на территории Центральной Азии, отличается от его образа в легендах, которые появились уже на территории Нижнего Поволжья. Здесь ветер уже понимается как

помощник, дающий пропитание. Это уже ветер морской по происхождению, а именно - дующий с Каспийского моря.
В конце 1920-х годов из нашего села Бексюды вышли в море двое рыбаков -пожилой и средних лет. Стояла середина осени. Считается, что ветер с моря приносит рыбу. Поэтому у двоих [этих] мужчин было радостно на душе.
С Каспийского моря дул свежий ветер, покачивая их маленькую лодку с парусом. Рыбаки, придя на берег моря, окинули взором водное пространство, всматриваясь в него, пытались понять, какая будет погода, и, наметив направление движения, поплыли. [Мифы, легенды и предания калмыков 2017, 129].
Здесь уже в этой легенде отражена конкретизация пространственных представлений о ветре, это не просто ветер, а морской. Возможно, что в Центральной Азии, территории проживания ойратов, пространственная конкретизация не имела большого значения в силу удаленности от водных источников, ландшафтного разнообразия, создающих области низкого давления, являющихся причиной появления мира.
3.4. Ветер-опасность
Ветер может представляться в фольклорных произведениях (вне зависимости от жанра: в мифах, волшебных, богатырских, бытовых сказках, сказках о животных) как опасность, смертельная угроза. Так, например, в «Сказке о семнадцатилетнем, [сыне] богатого человека» хан Лусов грозит, что на сына богача он нашлет сильный ветер:
Тот посыльный эрлик доехал и вернулся с ханом Лусов. Когда хан Лусов прибыл, Эрлик Номин-хан: «Семнадцатилетнего, сына богача, непременно должны были доставить в этот мир. Четыре посланца не смогли это сделать. Похоже, не под силу это эрликам. Может, у тебя получится?» - сказал. Хан Лусов ответил: «Что сложного в этом? Я приведу его». Эрлик-хан: «Как ты его достанешь?» -спросил. Хан Лусов ответил: «Я устрою ему большие трудности, нагоню сильный ветер, ударю громом и приведу». «Ну, хорошо, непременно приведи [его]», - сказал и отправил. [Калмыцкие богатырские сказки 2017, 363].
Или ветер может быть такой силы, что может выступать как реальная угроза жизни человека: «Как раз в этот момент, кружась, как веретено, налетел на хотоны [калмыков] ураганной силы ветер и опрокинул войлочную кибитку того человека» [Мифы, легенды и предания калмыков 2017, 105].
Интересно, что двойственность природы ветра осознавалась калмыцким народом: так, в одном тексте он мог выступать и как помощник, приносящий пользу, и как сила, способная разрушить, лишить жизни. В легенде, которая появилась на территории Нижнего Поволжья и которая приведена выше, говорится о том, что ветер, «сменив направление, стал холоднее <.. .> их уносит все дальше и дальше в Каспийское море» [Мифы, легенды и предания калмыков 2017, 131].
3.5. Ветер как метафора
В ходе анализа фольклорных произведений нам встретились две метафоры с ветром, которые очень интересны сами по себе. Так, например, в сказке «Бергин Бёкин Цаган» Харада Мерген, Шарада Мерген, Улада Мерген при виде их убитых птиц и собак вызывают моросящий дождь и сильный ветер, два стихийных явления, которые выражают степень гнева и горя героев [Калмыцкие волшебные сказки 2020, 272-285]. Существует и другая точка зрения, что дождь и ветер являются животворящими, возвращающими из мира мертвых [Калмыцкие волшебные сказки 2020, 524]. Однако анализируя этот фрагмент, мы больше склоняемся к интерпретации дождя и ветра как метафорического изображения горя и гнева. При этом эмоциональное состояние героев (в этой сказке - антагонистов главного героя) не описывается прямыми номинациями, что в принципе не характерно для восточной культуры, которая в эмоциональном плане всегда сдержана в плане проявления тех или иных чувств. Однако через образы природных явлений показываются чувства горя и гнева: через капли дождя создается образ плача по умершим животным-друзьям, а через образ ветра выражается чувство гнева как реакции на неправильный (несправедливый), согласно их мнению, поступок. Психическое равновесие героев можно восстановить через наказание и совершение акта возмездия, как это и происходит в сказке. Неслучайно сразу же после вызывания дождя и ветра три брата требуют, чтобы виновник гибели животных появился перед ними.
Ветер выступает также метафорой скорости в фольклорных текстах («Словно ветер, я буду быстрым, последовав за мной, во-первых, не поспеете...» [Калмыцкие волшебные сказки 2020, 40]; «Поклявшись так, словно пуля, выпущенная из ружья, словно горячий весенний ветер [помчался], там, где ступал [конь], словно старые колодцы, [ямы] оставались, комья земли из-под копыт позади, словно горы, оставались, пар из носа и рта черным шлейфом тянулся за ним, словно тушканчик, бегущий по дороге, помчался он» [Калмыцкие богатырские сказки 2017, 461] и т.д.). Однако в сказках показывается преимущество человека над ветром, быстрее ветра только мысль человека, поскольку ветер дует в одном направлении, в мысль может двигаться в четырех направлениях [Калмыцкие волшебные сказки 2020, 218-221]. Интересно, что между ветром и мыслью человека обнаруживается сходство не только в скорости, но и в отсутствии как таковой материальной формы, однако они все же воспринимаются разными органами чувств, позволяющими человеку «сопоставлять несопоставимое и соизмерять несоизмеримое» [Арутюнова 1990, 19].
Интересно, что эпосе имеется два варианта этой гиперболизированной метафоры, один из которых схож со сказочным вариантом. В более ранних записях, которые традиционно считаются содержащими наиболее архаичные мотивы и сюжеты, кобылица богатыря Тяжелорукого Савара
опережает мысль на полсажени, а ветер на сажень, значит, ветер быстрее, чем мысль:
Алтан Чеджи, ясно всё это видя,
Так сообщал ему, говорят:
-
- Кюрюнг, что ведёт он в поводу,
Мысль на полсажени опережает, говорят,
Ветер на сажень опережает, говорят.
Когда Кюрюнг оседлав,
Тяжёлую жёлтую секиру возьмёт он на плечи,
На всей тверди земной
Каким бы сильным ни был человек,
Валит ударом он его.
[НА КалмНЦ РАН. Рукопись тома «Багацохуровский цикл»]
А в более поздних записях, наоборот, кобылица Кюрюнг Галзан быстрее мысли на сажень, а ветра на полсажени, что значит - мысль быстрее, чем ветер:
Кобылица Кюрюнг Галзан - скакунья его,
Мысль на сажень опережает,
Ветер на полсажени опережает.
[НА КалмНЦ РАН. Рукопись тома «Цикл песен джангарчи Мукебюна Басан-гова»]
В разновременных эпических песнях «Джангар» отражается две противоположные картины мира: в первом отрывке показано, что доминирует природа, а во втором - человек, причем последний осознает уже свою осо-бость, которая проявляется в таких мотивах.
4. Выводы
Внутренняя форма слова салъкн ‘ветер’ отражает семантику свободы, что присуще природе ветра. Важными характеристиками слова являются влажность, температура, интенсивность, в архаичной картине мира наличествуют компоненты научной картины мира. Данное природное явление в некоторых мифах и сказочных текстах предстает как живое существо, наделяется действиями человека, но не эмоциями. Ветер в фольклорных произведениях выступает как положительная, так и разрушительная сила, причем во многих текстах устного народного творчества сохранилась эта амбивалентная структура концепта. В пространственной модели устройства мира ветер занимает не срединное положение, а происходит из Нижнего мира. С течением времени ветер стал восприниматься не только как сила, стоящая на службе положительных и отрицательных героев, но и как самостоятельная стихия, способная дарить пропитание и, следовательно, жизнь.
Список литературы Архаические представления о ветре в калмыцком фольклоре: междисциплинарный подход
- НА КалмНЦ РАН - Научный архив Калмыцкого научного центра
- Альшевская А.С. Типы и степени проявления антропоморфности персонажей // Журнал Белорусского государственного университета. Серия: Филология. 2019. № 2. С. 20-28.
- Арутюнова Н.Д. Метафора // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 19.
- Бакаева Э.П. Добуддийские верования калмыков. Элиста: АПП «Джангар», 2003.
- Бардаев Э.Ч., Кирюхаев В.Л. Русско-калмыцкий разговорник. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1993.
- Басангова Т.Г., Манджиева Б.Б. Свод калмыцкого фольклора - памятник духовного наследия калмыков // Эпическое наследие народов мира: традиции и этническая специфика. Мат-лы Междунар. науч. конф. (г. Якутск, 06-08 июля 2017 г.). Якутск: Алаас, 2017. С. 6-7.
- Басангова Т.Г., Манджиева Б.Б. Эпический репертуар калмыцкого сказителя Давы Шавалиева // Этнопоэтика и традиция. М.: Наука, 2004. С. 83-93.
- Дарбакова В.П. Традиционное западномонгольское жилище и его эволюция в условиях социалистического быта // Проблемы этнографии и этнической истории народов Азии. М.: Наука, 1968. С. 36-48.
- Дашибалов Б.Б., Рассадин В.И. Откуда вышли предки монголов // Восточная коллекция. 2004. № 4. С. 34-41.
- Деревянко Е.И. Племена Приамурья. I тысячелетие нашей эры. (Очерки этнической истории и культуры). Новосибирск: Наука, 1981.
- Душан УД. Избранные труды / сост. Батыров В.В., Шараева Т.И. Элиста: КИГИ РАН, 2016.
- Зарипов Р.Х. Машинный поиск вариантов при моделировании творческого процесса. М.: Наука, 1983.
- Калмыцкие богатырские сказки / вступит. ст. Б.Б. Манджиевой; подготовка текстов, переложение калмыцких текстов, пер. Б.Б. Манджиевой, Т.А. Михалевой, Ц.Б. Селеевой; примеч., комментарии, указатели, словарь Б.Б. Манджиевой, Ц.Б. Селеевой; отв. ред. А.А. Бурыкин, В.Л. Кляус, В.В. Куканова, Г.Ц. Пюрбеев. М.: АО «Первая Образцовая типография», Филиал «Чеховский Печатный Двор», 2017.
- Калмыцкие волшебные сказки / вступит. ст. Б.Б. Горяевой; сост., указатели Б.Б. Горяевой, Д.В. Убушиевой; перевод, примеч., коммент., словарь Б.Б. Горяевой, Т.А. Михалевой, Д.В. Убушиевой; отв. ред. А.А. Бурыкин, В.Л. Кляус, В.В. Куканова, Г.Ц. Пюрбеев. Элиста: КалмНЦ РАН, 2020.
- Калмыцкий героический эпос «Джангар»: Малодербетовский цикл / вступит. ст. Б.Б. Манджиевой; сверка текстов песен с оригиналом на «ясном письме» Б.Б. Горяевой, Б.Б. Манджиевой, Ц.Б. Селевой; перевод Т.А. Михалевой; при-меч., коммент., словарь, указатели Б.Б. Манджиевой, Т.А. Михалевой; отв. ред. Г.Ц. Пюрбеев, С.Ю. Неклюдов, В.В. Куканова. М.: АО «Первая Образцовая типография», Филиал «Чеховский Печатный Двор», 2020.
- Кичиков А.Ш. Великий певец «Джангара» (к 100-летию джангарчи Ээлян Овла) // Великий певец «Джангара» Ээлян Овла и джангароведение: мат-лы науч. конф., посвящ. 110-летию со дня рождения Ээлян Овла. Элиста: Республиканская типография управления по печати при Совете Министров Калмыцкой АССР, 1969. С. 8-28.
- Кичиков А.Ш. Героический эпос «Джангар». Сравнительно-типологическое исследование памятника. Изд. 2-е. М.: Наука, Восточная литература, 1994.
- Манджиева Б.Б. Старокалмыцкая рукопись «Джангара»: малодербетов-ский список // Актуальные проблемы алтаистики и монголоведения (язык и литература): Международный симпозиум, посвященный 400-летию со дня рождения основателя ойратской письменности «тодо бичиг» («ясное письмо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России (Элиста, 14-18 сентября 1999 г.). Элиста: КИГИ РАН, 1999. С. 106-107.
- Мифы, легенды и предания калмыков / подготовка текстов, пер., вступит. ст., примеч., комментарии, указатели, словарь, сверка калмыцких текстов Т.Г. Ба-санговой, Т.А. Михалевой; отв. ред. А.А. Бурыкин, Е.Н. Кузьмина, В.В. Куканова, Г.Ц. Пюрбеев. М.: Наука, Восточная литература, 2017.
- Неклюдов С.Ю. Ойрат-калмыцкая мифология // Мифы народов мира: в 2 т. / глав. ред. С.А. Токарев. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1988. С. 247-248.
- Попова З.Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. Изд. 3-е, испр. и доп. Воронеж: Истоки, 2007.
- Сангаджиева Н.Б. Джангарчи. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1967.
- Сангаджиева Н.Б. Сказитель Мукебюн Басангов и его «Джангар»: авто-реф. дис. ... к. филол. н. М., 1971.
- Сборник обычного права сибирских инородцев / изд. Д.Я. Самоквасова. Варшава: Тип. Ивана Носковского, 1876.
- Смирнов П. Путевые записки по Калмыцким степям Астраханской губернии. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1999.
- Содномпилова М.М. Мир в традиционном мировоззрении и практической деятельности монгольских народов. Улан-Удэ: Издательство БНЦ СО РАН, 2009.
- Сподина В.И. Символическая роль телесной «инаковости» в угорско-са-модийской картине мира // Вестник угроведения. 2016. № 4(27). С. 126-134.
- Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика. 2-е изд., доп. / отв. ред. Э.Р. Тенишев. М.: Наука, 2001.
- Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка / отв. ред. Э.Р. Тенишев, А.В. Дыбо. М.: Наука, 2006.
- Титова Т.А. Антропоморфизм как способ освоения действительности (социально-философский анализ): автореф. дис. ... к. филос. н. Казань, 2013.
- Убушиева Д.В. Багацохуровский цикл «Джангара» в записях XIX века (сюжетика и сохранность эпического текста): дис. . к. филол. н. Элиста, 2009.
- (b) Убушиева Д.В. Текстологический анализ песен из репертуара сказителя Мукебюна Басангова // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2011. № 2. С. 150-153.
- (а) Убушиева Д.В. Песня «О битве богатыря Алого Хонгора с Авланги ханом» в записи от Бадмы Обушинова (к вопросам текстологии) // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2011. № 1. С. 168-173.
- Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на буквы «Л», «М», «Н», «П», «С»). М.: Наука, 2003.
- Chao Gejin. Mongolian Oral Epic Poetry: An Overview // Oral Tradition. 1997. № 12/2. P. 322-336.
- Chao Gejin. The Oirat Epic Cycle of Jangar // Oral Tradition. 2001. № 16/2. P. 402-435.
- Starostin S.A., Dybo A.V., Mudrak O.A. An Etymological Dictionary of Altaic Languages. Leiden; Boston: Brill, 2003.