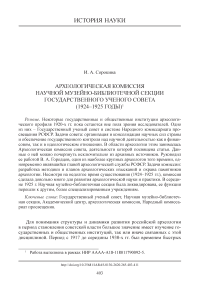Археологическая комиссия Научной музейно-библиотечной секции Государственного ученого совета (1924-1925 годы)
Автор: Сорокина И. А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях
Статья в выпуске: 265, 2021 года.
Бесплатный доступ
Некоторые государственные и общественные институции археологического профиля 1920-х гг. пока остаются вне поля зрения исследователей. Одно из них - Государственный ученый совет в системе Народного комиссариата просвещения РСФСР. Задачи совета: организация и консолидация научных сил страны и обеспечение государственного контроля над научной деятельностью как в финансовом, так и в идеологическом отношении. В области археологии этим занималась Археологическая комиссия совета, деятельности которой посвящена статья. Данные о ней можно почерпнуть исключительно из архивных источников. Руководил ее работой В. А. Городцов, один из наиболее крупных археологов того времени, одновременно являвшийся главой археологической службы РСФСР. Задачи комиссии: разработка методики и планов археологических изысканий и охрана памятников археологии. Несмотря на недолгое время существования (1924-1925 гг.), комиссия сделала довольно много для развития археологической науки и практики. В середине 1925 г. Научная музейно-библиотечная секция была ликвидирована, ее функции перешли к другим, более специализированным учреждениям.
Государственный ученый совет, научная музейно-библиотечная секция, академический центр, археологическая комиссия, народный комиссариат просвещения
Короткий адрес: https://sciup.org/143178283
IDR: 143178283 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.403-411
Текст научной статьи Археологическая комиссия Научной музейно-библиотечной секции Государственного ученого совета (1924-1925 годы)
Для понимания структуры и динамики развития российской археологии в период становления советской власти большое значение имеет изучение государственных и общественных институций, так или иначе связанных с этой дисциплиной. Период с 1917 до середины 1930-х гг. был временем быстрых
1 Работа выполнена в рамках НИР АААА-А18-118011790092-5.
перемен, ознаменовавшимся исчезновением старых и созданием новых органов управления наукой и культурой, а также их постоянной трансформацией. История некоторых учреждений нам хорошо известна, деятельность других еще не получила должного освещения. Работа Археологической комиссии Научной музейно-библиотечной секции Государственного ученого совета (как и самого этого совета) как раз является таким «белым пятном». Архивные документы – пока единственный источник для ее изучения. Имеющиеся упоминания в публикациях помимо общих сведений касаются в основном деятельности В. А. Городцова как ее председателя ( Кузьминых, Белозерова , 2012. С. 23–24; Кузьминых , Белозерова , 2015. С. 189–190). Попробуем несколько дополнить наши представления.
Возникновение Государственного ученого совета (ГУС) имеет свою предысторию. Одним из важнейших направлений деятельности советского государства в первые послереволюционные годы стала организация и консолидация научных сил. Первые шаги в этих направлениях были предприняты уже в 1918 г. При этом ставилась и другая задача: обеспечение государственного контроля над научной деятельностью как в финансовом, так и в идеологическом отношении. Для реализации этих целей в 1918 г. был создан Народный комиссариат просвещения РСФСР (Наркомпрос) и аналогичные комиссариаты в автономиях – государственные учреждения, в подчинении которых оказались не только институции, связанные непосредственно с образованием, но и научные, музейные, архивные, библиотечные и т. д. Организации археологического профиля, как существовавшие до 1917 г., так и вновь сформированные, также перешли под контроль различных подразделений Наркомпроса в зависимости от рода деятельности. Так, Российская академия истории материальной культуры (РАИМК) находилась в ведении Научного отдела. Музеи всех уровней от центральных до местных краеведческих подчинялись Отделу по делам музеев и охране памятников искусства и старины. В составе последнего функционировал созданный также в 1918 г. Археологический подотдел (АПО). Именно этот административный орган был уполномочен выдавать открытые листы на полевые исследования. С 1918 по 1926 г. его возглавлял один из крупнейших ученых-археологов того времени В. А. Городцов. В 1924–1925 гг. он же являлся председателем Археологической комиссии в составе Научной музейно-библиотечной секции ГУС. Это важно, поскольку направления деятельности АПО и секции пересекаются, очевидно, благодаря этому обстоятельству.
По мере преодоления последствий двух революций, Первой мировой и Гражданской войн, экономической разрухи и последствий неурожая 1920 г. ситуация в стране стабилизировалась, что отразилось и на развитии науки, культуры и образования. Ширилась музейная сеть, возникали новые научные и краеведческие организации. Вследствие этих обстоятельств курирующий эти направления Нар-компрос уже к началу 1920-х гг. представлял собой громоздкую многопрофильную структуру и явно нуждался в реформировании и оптимизации, тем более что финансирование и его собственной деятельности, и всех подведомственных учреждений оставляло желать лучшего. Такая необходимость была очевидна и для власти. Главная задача состояла в том, чтобы вместо разрозненных научных сообществ (самым крупным и значимым из которых была Академия наук) создать единый организационно-методический центр. Так появился ГУС.
Он был образован решением отдела ВУЗов Наркомпроса РСФСР от 20.01.1919 г. Этот факт был в марте 1919 г. закреплен Декретом Совнаркома. Но основная задача ГУС в то время состояла в проведении реформы учебных учреждений ( Бастракова , 1973. С. 215). Он утверждал учебные планы, программы и учебные пособия для начальной, средней и высшей школы, а также преподавателей вузов. Таким образом, деятельность научных учреждений практически не затрагивалась до тех пор, пока СНК по инициативе В. И. Ленина не предпринял масштабную реформу Наркомпроса.
Осенью 1920 г. В. И. Ленин выступил с предложением реформировать Нар-компрос. По его инициативе Политбиро ЦК РКП(б) сформировало комиссию для разработки проекта реформы. Таким образом, вопрос решался на самом высоком уровне и имел ярко выраженную политическую направленность. Это не только показывает значимость деятельности Наркомпроса во внутренней политике советского государства, но объясняет последующие метаморфозы – фактический переход к концу 1920-х гг. образования, музейного дела и в значительной степени науки под контроль Главполитпросвета2. В качестве одного из важнейших моментов реформы В. И. Ленин обозначил необходимость создания консультативно-методического органа, в составе которого должны были быть «лучшие спецы, хотя бы буржуазные» (цит. по: Там же). Заметим, что других-то пока еще и не было. Это был переломный момент в деятельности ГУС, поскольку глава государства указал на необходимость расширить его функции и включить в них управление научными учреждениями. Основные положения проекта реформы были зафиксированы в Декрете «О Народном комиссариате по просвещению» от 11.02.19213, в подготовке которого В. И. Ленин принимал активное участие, лично наметив план и содержание будущих изменений (Там же. С. 240–241).
Реформа Наркомпроса, в том числе и ГУС, стартовала в начале 1921 г. Совет теперь позиционировался как руководящий научно-методический орган Наркомпроса РСФСР, ведавший политикой государства в области науки, искусства, образования и социалистического воспитания масс. Его организатором еще в 1919 г. выступил заместитель наркома просвещения историк-марксист М. Н. Покровский4, который тогда же и стал его руководителем. В 1921 г. ГУС вошел в состав нового органа – Академического центра в той же системе Нарком-проса, созданного тем же М. Н. Покровским и просуществовавшего до 1925 г. После ликвидации его ГУС опять был напрямую подчинен Наркомпросу. Совет был упразднен постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 19.01.1933 г. Причина – в очередной реорганизации Наркомпроса. Функции ГУС перешли к Комитету по высшей технической школе, Учебно-методическому совету Наркомпро-са РСФСР, Ученому методическому совету и экспертным комиссиям по делам высшей школы.
Академический центр Наркомпроса (Акцентр, как его называли) – такая же малоизученная структура, как ГУС. Объем и тема статьи не предполагают подробного освещения его деятельности, но краткая характеристика необходима. В результате реформы он получил очень широкие полномочия и стал фактически основным подразделением Наркомпроса. Согласно «Положению об Академическом центре Наркомпроса», утвержденному коллегией Наркомпроса в январе 1921 г. (ГАРФ. Ф. 2308. Оп. 1. Д. 14. Л. 9–10), «коллегия Академического центра рассматривает и утверждает все проекты и планы организационного характера в области научного и художественного образования и научной работы в РСФСР». Таким образом, в нем сосредоточилось общее теоретическое и программное руководство музейным строительством, наукой и архивным делом. Работой Акцентра в целом и ГУСа в частности до их ликвидации руководил основатель этих учреждений М. Н. Покровский. Вопросу о кадровом составе Акцентра придавалось государственное значение, он рассматривался в СНК с предварительным обсуждением по инициативе В. И. Ленина в Политбюро РКП(б) ( Бастракова , 1973. С. 242).
Как указано в том же «Положении», ГУС «ведет теоретическую работу по вопросам научной жизни, научного и научно-технического образования» и разделяется на 3 секции: научно-политическую, научно-техническую и научно-педагогическую. Секции состояли из председателя и членов, назначаемых наркомом Наркомпроса по представлению Акцентра. Научно-политическая секция была основной, ее возглавил сам М. Н. Покровский. Состав ее полностью формировался из коммунистов. В этой секции и было сосредоточено руководство гуманитарными областями. В дальнейшем их число возросло, а состав менялся. Это было обусловлено спецификой учреждений, находящихся в подчинении ГУС. Так, в конце 1922 г. была образована научно-художественная секция, ведавшая в том числе музейными организациями. На заседаниях секций определялись типы научных, музейных и учебных учреждений, обсуждались их планы и отчеты, рассматривались поступавшие с мест проекты новых направлений и институций, намечались планы по проведению экспедиций, изданиям (ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 1. Д. 2101. Л. 7071). Обсуждались также меры по оптимизации и рационализации работы подведомственных организаций. Такой широкий спектр задач делал ГУС наиболее значимым подразделением Акцентра. Особенностью работы совета было привлечение ведущих научных сил, в том числе из «буржуазных спецов», что повышало его статус как экспертного, теоретического и методологического центра. Значительную роль также играли слушатели Коммунистической академии5. Существовали, конечно, и предусмотренные упомянутым выше Декретом от 11.02.1921 г. технические подразделения Акцентра (и ГУС), ведающие финансами, снабжением, делопроизводством. Но уникальность совета состояла в том, что это была не очередная чиновничья структура, а многопрофильное учреждение, основу которого составляли именно специалисты в различных областях: науки, различных направлений культуры, музееведения. Это и объясняет характер деятельности и повестку секций ГУС.
Научная музейно-библиотечная секция ГУС появилась в 1924 г. Председателем ее стал сам М. Н. Покровский. Первое ее заседание состоялось 24.07.1924 г. Состав секции утвержден постановлением Наркомпроса № 38/590 от 23.07.1924 г. «Положение о научной музейно-библиотечной секции ГУСа» утверждено Президиумом коллегии Наркомпроса 08.05.1924 г. Определены следующие задачи: «Научная музейно-библиотечная секция ГУСа разрешает программно-методические вопросы, связанные с музейным и библиотечным делом, а равно с научным и просветительным использованием музеев, памятников и библиотек» (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1068. Л. 11). В составе секции 8 комиссий, в том числе археологическая. Задачи последней: «разработка метода и планов археологических изысканий и раскопок и охрана памятников археологии». Членами археологической комиссии стали В. А. Городцов, Ф. В. Баллод, С. П. Григоров, Н. Я. Марр, Б. В. Фармаковский6. Вся практическая деятельность комиссии отражена в протоколах ее заседаний, хранящихся в ОПИ (Отдел письменных источников) ГИМ. Они проанализированы в отношении участия и роли В. А. Городцова ( Кузьминых, Белозерова , 2012; Кузьминых, Белозерова , 2015). Мы же рассмотрим некоторые общие аспекты, представленные в протоколах заседаний (пленумов) научной музейно-библиотечной секции.
После обсуждения плана работы научной музейно-библиотечной секции возник вопрос о разграничении ее полномочий с Отделом по делам музеев, охране памятников искусства и старины, подчиненным другому подразделению Акцентра – Главнауке7. Его руководитель Н. И. Троцкая – член ГУС. Пересечений действительно много, особенно с учетом того, что и там, и там привлекались одни и те же специалисты, например В. А. Городцов. Уже на первом заседании секции М. Н. Покровский отметил, что «музейно-библиотечная секция ГУСа, не занимаясь непосредственно сама исследовательской работой в области археологии, истории искусства и пр., имеет в виду опираться на деятельность научно-исследовательских учреждений, обращаясь к ним за справками или давая им для разработки те или иные задания» (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1068. Л. 42). В этой связи закономерно, что после того, как на втором заседании секции 13 декабря 1924 г. В. А. Городцов изложил план работ археологической комиссии, возник вопрос о связи или разграничении сферы действий ее и РАИМК. Интересна реакция председателя РАИМК Н. Я. Марра, присутствовавшего на этом заседании: он, «принимая участие в составлении плана археологической комиссии, не считал необходимым особо ограждать в плане права РАИМК как учреждения, дающего заключения предварительно выдачи Музейным отделом открытых листов на раскопки, поскольку это предусмотрено действующим законоположением» (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1068. Л. 47). Н. Я. определенно имел в виду Декрет СНК об образовании РАИМК от 18.04.1919. Подобное упование на соблюдение закона, как оказалось, было напрасно, поскольку с начала 1920-х гг. при активном участии В. А. Городцова постепенно разгорался конфликт между АПО РАИМК как раз на почве разграничения полномочий (Сорокина, 2016. С. 250–252; 2019. С. 105–106). Апогей его пришелся на 1923–1926 гг. На заседании же секции противоречие разрешила Н. И. Троцкая (непосредственный начальник В. А. по работе в АПО), дав указание учесть в плане сотрудничество археологической комиссии и РАИМК.
Второй важный момент в представленном плане комиссии, вызвавший резкую реакцию, это «вмешательство в дела музеев» (по определению И. Э. Грабаря) со стороны археологической комиссии, казалось бы, неоправданное при существовании в ГУС специальных музейных комиссий. Ответ Городцова был обоснован: вопросы об археологических музеях и археологических отделах должны находиться именно в ведении археологической комиссии как наиболее компетентного органа в этой области. Имелось в виду отнюдь не вмешательство в дела музеев, но «преподание принципиальных норм», ибо только археологи знают специфику археологического материала (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1068. Л. 47 об. – 48). Н. Г. Машковцев, член музейной комиссии ГУС и сотрудник Отдела музеев Главнауки, предложил поправку: «в вопросах музейной экспозиции и построения самих археологических музеев и археологических отделов прочих музеев» обеспечить сотрудничество археологической комиссии с комиссиями по музеям. В таком контексте понятно, почему так много времени в работе археологической комиссии было отведено именно музейной проблематике. В. А. Го-родцов многократно обращался к этой теме, и в значительной степени благодаря ему были заложены правильные основы в отношении археологических коллекций в музеях8.
В принятом с поправками плане работ археологической комиссии на 1924/ 1925 г. «в области руководства археологическими работами и музеями в отношении археологических коллекций» значились следующие направления (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1068. Л. 56, 57):
проект общих мероприятий по охране археологических памятников, находящихся вне музеев и проекты специальных постановлений по охране мест археологических раскопок и внемузейных памятников исключительного научного значения;
общий план археологических работ на 1925 г. на основании заявок на производство археологических изысканий со стороны отдельных исследователей, научных обществ, музеев и институтов;
принципы построения единого общегосударственного плана археологических работ и согласование с ним плана работ на 1925 г.;
планы отдельных археологических работ, вошедших в общий план на 1925 г.; мероприятия, обеспечивающие проведение в жизнь наиболее совершенных в научном отношении методов археологических работ;
разработка анкеты, выясняющей состав специальных археологических отделов музеев и наличие археологических коллекций в музеях, не имеющих таких отделов;
определение общих принципов распределения археологических находок и коллекций по центральным, областным, губернским, уездным и сельским музеям;
организация Государственного археологического фонда;
разработка вопроса о Центральном археологическом музее;
проверка ряда провинциальных музеев («ознакомление» с их экспозицией и условиями хранения коллекций);
методические вопросы по научной экспозиции археологических материалов в музеях археологических и иных; дополнение археологических коллекций в экспозиции иллюстрациями для наглядности исторического процесса.
Практически все пункты составляли суть деятельности В. А. Городцова как руководителя АПО. Таким образом, у него появилась возможность продвигать свои идеи, использовать свой опыт и наработки и в новом органе, более статусном, чем подотдел в составе Отдела по делам музеев. Чтобы оформить это официально, в Отдел музеев от секции посылаются запросы на предоставление материалов, нужных комиссии: списков археологических памятников, «требующих индивидуальной охраны» в связи с разработкой методов охраны археологических памятников; общегосударственного плана археологических раскопок, всех имеющихся в АПО заявок на производство раскопок в 1925 г. для ознакомления с характером предстоящих археологических работ в общегосударственном масштабе (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1070. Л. 91, 102).
Каковы же были результаты работы археологической комиссии? Судя по общему отчету музейно-библиотечной секции с октября 1924 по март 1925 г., она успела сделать довольно много (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1069. Л. 34–36 об.), особенно если учесть, что время с середины года по октябрь было занято как полевым сезоном, так и общими установочными мероприятиями (составление плана работы комиссии и т. д.). Состоялось 12 заседаний. Рассмотрен проект общего плана мероприятий по специальной охране археологических памятников, находящихся вне музеев, и мест археологических раскопок исключительного научного значения (доклад С. П. Григорова). Решено: составить список таких памятников, объявить их заповедниками, принять меры к «техническому» ограждению, организовать охрану-наблюдение силами «местного педагогического персонала» и администрации, передать общее научное наблюдение ближайшим государственным музеям или научным обществам, установить совместно с центральными научно-исследовательскими учреждениями порядок и форму их исследования. А также: провести укрепление наземных частей памятников, организовать периодическое наблюдение из центра, начать разработку и проведение через местные органы специальных постановлений, запрещающих разрушение местным населением. В качестве типового составлен проект постановления по Херсонесу. Продолжена разработка единого общегосударственного плана полевых исследований (начатая В. А. Городцовым еще в 1919 г. в АПО). В нем как «общие работы для установления основных культурных напластований на территории Республики», так и разрешение отдельных научно-исследовательских проблем (доклад В. А. Городцова о плане). Он предусматривает «закономерное выявление археологической карты РСФСР». План предполагалось утвердить в Главнауке, пока же он представлен на утверждение Пленума музейно-библиотечной секции. «В связи с выяснением вопроса о реальном проведении в жизнь» этого плана рассмотрена общая сводка заявок на получение открытых листов на 1925 г. от лиц, музеев, научных обществ и институтов «с точки зрения соответствия их данному основному плану» (доклад А. С. Башкирова). Приступили к рассмотрению мероприятий по разработке методики полевых и иных исследований (доклад В. А. Городцова). Городцову поручена разработка нового руководства. Обсуждались вопросы о типах центрального и местного археологических музеев, о распределении коллекций по музеям, об экспозициях музеев (доклады В. А. Городцова).
Существовала научная музейно-библиотечная секция недолго и в июле 1925 г. была заменена музейной комиссией непосредственно при Президиуме ГУС «в целях сохранения за ГУСом идеологического и программно-методического руководства музейным, реставрационным и археологическим делом» (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1068. Л. 14). Очевидно, это связано с дальнейшим успешным развитием музейного строительства, разрастанием музейной сети и, соответственно, необходимостью более действенного контроля в этой области. В то же время библиотечное дело подминал под себя Главполитпросвет, в ведении которого находились избы-читальни и библиотеки. Тогда же началась подготовка к преобразованию РАИМК в ГАИМК, что сделало ее в 1926 г. ведущим археологическим учреждением страны. При таком укреплении позиций Академии необходимость в несравнимо менее мощном самостоятельном археологическом подразделении в рамках научной музейно-библиотечной секции отпала.
Список литературы Археологическая комиссия Научной музейно-библиотечной секции Государственного ученого совета (1924-1925 годы)
- Бастракова М. С., 1973. Становление советской системы организации науки. М.: Наука. 294 с.
- Кузьминых С. В., Белозерова И. В., 2012. В. А. Городцов об идеальном типе археологических музеев и единой системе экспозиции археологических памятников // Образы времени. Из истории древнего искусства. К 80-летию С. В. Студзицкой / Отв. ред. И. В. Белоцерковская. М.: ГИМ. С. 22-34. (Труды ГИМ; т. 189.)
- Кузьминых С. В., Белозерова И. В., 2015. По страницам доклада В. А. Городцова "Скрытая энергия археологических ПАмятников" // ПА. № 3 (13). С. 189-204.
- Сорокина И. А., 2016. Археологический подотдел в системе Наркомпроса (1918-1926 годы) // КСИА. Вып. 245. Ч. I. С. 244-256.
- Сорокина И. А., 2019. Работа археологического подотдела в системе Наркомпроса РСФСР в 19231926 годах: планы и реальность // Известия Самарского научного центра РАН. Исторические науки. Т. 1. № 4. С. 101-108.