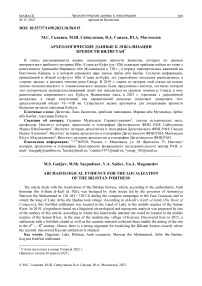Археологические данные к локализации крепости Билистан
Автор: Гаджиев М.С., Сайпудинов М.Ш., Саидов В.А., Магомедов Ю.А.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 15, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос локализации крепости Билистан, которую по данным авторитетного арабского историка Ибн А’сама ал-Куфи (ум. 926) осаждали арабские войска во главе с наместником Арминийи Марваном ибн Мухаммадом в 738 г., в период завоевательных кампаний на Восточном Кавказе, и в которой укрывался царь лакзов Арбис ибн Басбас. Согласно информации, приведённой в «Китаб ал-футух» Ибн А’сама ал-Куфи, это укреплённое поселение располагалось в«стране лакзов» в среднем течении реки Самур. В 2019 г. одним из авторов этой статьи на основе лингво-этимологического и топонимического анализа была предложена гипотеза, согласно которой этот исторически засвидетельствованный пункт мог находиться на среднем течении р. Самур, в зоне расположения современного сел. Куйсун. Выявленное здесь в 2023 г. городище с укреплённой цитаделью, а также полученный там керамический комплекс позволяют датировать этот археологический объект VI-VIII вв. Существуют веские аргументы для локализации крепости Билистан на месте городища Куйсун.
Дагестан, лакз, билистан, арабские завоевания, марван ибн мухаммад, арбис ибн басбас, городище куйсун
Короткий адрес: https://sciup.org/14129218
IDR: 14129218 | DOI: 10.53737/1698.2023.18.58.015
Текст научной статьи Археологические данные к локализации крепости Билистан
МАИАСП № 15. 2023
Археологические данные к локализации крепости Билистан защитники Билистана сдали крепость, им была гарантирована безопасность (араб. аман), «их оставили в своем городе» и «обязали ежегодно доставлять в город ал-Баб 10 тысяч [мудд]1 провианта» (Абу Мухаммад Ахмад ибн А’сам ал-Куфи 1981: 57—59).
В выше упомянутой статье предполагаемая локализация Билистана на месте современного селения Куйсун опиралась как на соответствие его местоположения в топографически стратегическом месте на среднем Самуре, так и на топонимические и лингвистические доводы. Согласно последним, известные наименования данного ойконима — Куйсун и Куюстан — являются кальками персидского названия Билистан и означают «место в низине», что отражает географическое положение объекта и определенные политические доминанты и культурноязыковые влияния, представляющие три хронологических уровня: перс. Билистан , очевидно, относящееся ко времени правления Хосрова Ануширвана (середина VI в.), тюрк.-перс. Куюстан , восходящее, вероятно, к сельджукскому периоду (вторая половина XI — первая половина XII в.), и тюрк.-монг. Куйсун , возникшее, видимо, в монгольский / золотордынский период (XIII—XIV вв.) (Гаджиев, Абдулгамидов 2019: 8—16). Как отмечают авторы статьи, «смысловое совпадение тюрко-персидского и тюрко-монгольского названий, сохранившихся до наших дней, с иранским по происхождению топонимом Билистан, и их соответствие географо-топографическим условиям дают, как представляется, серьезные основания для локализации этой раннесредневековой крепости, упомянутой ал-Куфи, «в среднем течении реки Самур» в месте расположения современного селения Куйсун (Куюстан)» (Гаджиев, Абдулгамидов 2019: 14).
Селение Куйсун расположено на левом берегу среднего течения р. Самур, в низине, в пойме и на надпойменной террасе, у края Самурской долины на границе равнинной и предгорной зон. Здесь отрог Самурского хребта, тянущегося параллельно руслу реки, наиболее близко, почти вплотную подходит к пойме, оставляя относительно узкий проход между рекой и хребтом (Гаджиев, Абдулгамидов 2019: 14) (рис. 1). Это важное, как в военно-стратегическом, так и торгово-экономическом (контроль торгового пути) отношениях место могло обусловить возникновение здесь значимого укрепленного населенного пункта, особенно в свете колоссального фортификационного строительства на Кавказе и создания хорошо эшелонированной оборонительной системы в правление шаханшаха Хосрова I Ануширвана (531—579), направленной против Тюркского каганата и его союзников — арабские авторы IX—X вв. сообщают о строительстве им 360 крепостей, фортов в стратегически важных местах Кавказа (Гаджиев 2013: 58—64). Напомним и сообщение исторической хроники «Ахты-наме» (список А. Бакиханова) о возведении в Ахты (лезг. Ахцагь ), расположенном на расстоянии ок. 55 км от Куйсуна выше по течению р. Самур, по приказу шаханшаха Хосрова I Ануширвана наместником Шахбани крепости и размещении здесь 60 семей из Фарса и 300 воинов- сипах ов; остатки крепости «все еще видны на вершине горы», до сих пор носящей название лезг. КІелез хев — «гребень крепости» (Шихсаидов, Айтберов, Оразаев 1993: 69, прим. 2).
В упомянутой статье исследователи акцентировали внимание на важности археологических разысканий в этой зоне, которые, «возможно, выявят остатки укрепленного поселения Билистан, в котором весной 738 г. укрывался от амира Марвана ибн Мухаммада царь лакзов Арбис ибн Басбас» (Гаджиев, Абдулгамидов 2019: 14). И такие визуальные археологические изыскания были проведены, но, к сожалению, в связи с разрушением выявленного археологического объекта.
М.С. Гаджиев, М.Ш. Сайпудинов, В.А. Саидов, Ю.А. Магомедов
МАИАСП № 15. 2023
Городище Куйсун
-
2 марта 2023 г. в Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН поступила информация о выявлении и разрушении в ходе несанкционированных земляных работ близ сел. Куйсун Магарамкентского района Республики Дагестан древнего поселения и обнаружении большого количества керамической посуды. Об этом немедленно был поставлен в известность уполномоченный орган — Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан. 4 марта группа археологов Института и специалистов Агентства выехала на место обнаружения объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия. В результате визуального осмотра территории было зафиксировано раннесредневековое укрепленное поселение, получившее наименование по близрасположенному селению — городище Куйсун.
Городище расположено на южной окраине сел. Куйсун (рис. 1, 2), большая часть его находится под современными домостроениями и приусадебными участками – осмотр территории, обнажений и информация местных жителей об обнаружении у них на участках обломков керамической посуды, позволяет предварительно определять размеры памятника в 3,5—4,0 га. Оно находится непосредственно перед узким, шириной 200—300 м, дефиле, образуемом с СЗ отрогом Самурского хребта и с ЮВ руслом реки Самур, на относительно высоком обрывистом левом берегу поймы реки, который периодически подмывается и разрушается в результате паводков. Очевидно, значительная часть южной, примыкающей к руслу территории городища и его цитадели ранее были разрушены водной стихией. Судя по расположению городища, оно перекрывало проход в горы по течению р. Самур со стороны Прикаспийской равнины и, тем самым, контролировало этот стратегический участок. Заметим, что с противоположной, юго-западной стороны этого дефиле за юго-восточной окраиной сел. Гильяр, также на пойменной террасе на левом берегу р. Самур расположено средневековое Гильярское поселение, которое остается неизученным.
В сохранившейся южной части городища над руслом реки располагалась цитадель (рис. 2, 3: 1), представлявшая собой первоначально, очевидно, круглую курганообразную возвышенность, высотой до 3,5 м и диаметром около 50 м, обведенную заплывшим рвом (рис. 3: 3), шириной 8—10 м и глубиной 2,5—3 м. К северу от цитадели располагалось собственно поселение (рис. 3: 2), на территории которого встречается красноглиняная керамика. В результате указанных несанкционированных работ цитадель была практически полностью срыта (рис. 3: 1), но ранее сохранявшаяся ее половина осталась запечатленной на космоснимках (рис. 2). По проведенному осмотру местности, предоставленным информаторами фотографиям и их рассказам, цитадель по периметру была защищена каменной оборонительной стеной (рис. 4: 2, 5: 2), возведенной из речного булыжника на глиняном растворе и достигавшей сохранявшейся высоты до max.2,5 м при толщине до 1,0 м. По сообщению информаторов, за разрушенной обводящей стеной в восточной и юговосточной частях цитадели располагались рядами до 30 крупных тарных сосудов, высотой 70—80 см (рис. 9: 3), очевидно, представляющих хранилище воды или зерна. Кроме того, были зафиксированы остатки стен, уходящих в массив культурного слоя цитадели (рис. 4: 1, 5: 1), расположенных перпендикулярно оборонительной стене и также возведенных из булыжника на глиняном растворе. Толщина культурного слоя цитадели, представлявшего серо-коричневый, со следами обожженности суглинок, достигала до max. 3,5 м. Сверху культурный слой был перекрыт слоем гумуса толщиной 15—20 см; в основании культурного слоя лежал слой речного булыжника аллювиального происхождения (рис. 4: 1, 5).
МАИАСП № 15. 2023
Археологические данные к локализации крепости Билистан
Керамический комплекс городища Куйсун
Из культурного слоя цитадели происходит, кроме упомянутых тарных сосудов—хумов, большое количество красноглиняной и коричневоглиняной посуды (рис. 6—8), представленной как целыми экземплярами, так и фрагментами. Значительная часть целых сосудов, как и целые тарные сосуды, разошлась по рукам местных жителей. Нам удалось осмотреть и сфотографировать некоторые из этих сосудов и собрать фрагменты керамики, описание которой приводится ниже.
Керамический комплекс городища представлен тарной, столовой и кухонной керамикой. Сразу отметим, что вся керамика изготовлена на гончарном, в том числе быстровращающемся, круге и равномерно обожжена в окислительной среде, вследствие чего она имеет красно-коричневые поверхность и излом.
Столовая керамика изготовлена из хорошо отмученного теста, без заметных примесей, имеет качественный красно-коричневый обжиг. Представлена она плоскодонными кувшинами и мисками. В большом количестве представлены кувшины—ойнохои высотой от 15 см до 45—50 см с налепными «глазками», «ушками» по бокам слива, придающими сосуду зооморфный облик, декорированные врезным обводящим орнаментом в основании горла и по плечикам (рис. 6, 7). Среди целых и почти целых экземпляров сосудов:
-
• крупный (h = 35 см) гладкостенный кувшин—ойнохоя (рис. 6: 5, 7: 5) с невысоким высоким горлом (⅕ высоты сосуда) с пуговичными налепами—«глазками» по бокам слива и круглой в сечении вертикальной ручкой, расположенной на противоположной сливу стороне и крепящейся к краю венчика и плечику; основание горла подчеркнуто пояском из косых насечек;
-
• крупный (h = ок. 45—50 см) гладкостенный кувшин-ойнохоя (рис. 6: 6, 7: 6) с высоким горлом (¼ высоты сосуда) с пуговичными налепами—«глазками» и «ушком» по бокам слива и несохранившейся круглой в сечении вертикальной ручкой, расположенной на противоположной сливу стороне и крепящейся к краю венчика и плечику; кувшин по основанию горла и плечикам украшен врезными многорядными линейно-волнистыми орнаментальными обводящими поясками, сделанными 4—5-зубым гребешком; налепные «глазок» и «ушко» обведены точечным пояском из наклонно нанесенных гребешковых вдавлений;
-
• небольшой (h = ок. 15 см) кувшинчик—ойнохоя (рис. 6: 1) со сферическим туловом, орнаментированным в верхней половине врезными обводящими поясками из попеременно расположенных многорядным прямых и волнистых линий, нанесенных гребнем, с высокой (ок. ½ высоты сосуда) горловиной с пуговичными налепами—«глазками» по бокам слива и круглой в сечении вертикальной ручкой (обломана), расположенной на противоположной сливу стороне и крепящейся к краю венчика и плечику.
Миски однотипны — они округлобокие, с невыделенным закругленным венчиком и с обводящими чередующимися тремя канавками и тремя валиками, расположенными ниже венчика и образованными при формовке сосуда на гончарном круге (рис. 8: 1—3, 12: 1, 2). Миски различаются размерами – небольшие миски имеют d устья = 10—15 см, d наибольшего расширения тулова = ок. 18 см, высоту = ок. 8 см (рис. 8: 2, 12: 1), крупная миска имеет d устья = 20 см, d наибольшего расширения тулова = 24 см, h = 10,5 см (рис. 8: 3, 12: 2). Фрагмент маленькой мисочки (d устья = 10 см) имеет по верхнему валику косые точечные насечки, нанесенные 4-зубым гребешком (рис. 8: 1, 12: 1).
К специфическим, редким формам столовой посуды можно отнести два сосуда. Это:
-
• усеченно-сферической формы маленький (h = ок. 10 см) плоскодонный сосуд с широким устьем, окаймленным тонкой канавкой, закругленным венчиком и двумя, расположенным на противоположных сторонах немного ниже устья, ручками-выступами с вертикальными отверстиями для подвешивания (рис. 9: 2);
-
• усеченно-сферической формы маленький (h = ок. 8 см, d наибольшего расширения тулова = ок. 11 см) плоскодонный сосуд—чайник с невыделенным венчиком, приподнятым сливным носиком и ленточной ручкой, расположенной сбоку (почти под прямым углом к
М.С. Гаджиев, М.Ш. Сайпудинов, В.А. Саидов, Ю.А. Магомедов
МАИАСП № 15. 2023
носику) и украшенной поверху врезным орнаментом из пересекающихся прямых вертикальной и наклонных линий (рис. 9: 1).
Тарная керамика представлена крупными хозяйственными сосудами яйцевидной формы, с низким горлом, широким устьем с утолщенным наружу венчиком и узким плоским дном. Среди имеющихся экземпляров – это сосуды со сплошной одно- и двусторонней штриховкой тулова многозубым гребнем (рис. 10: 3), с косыми точечными насечками таким же гребнем на плечиках, гладкостенные сосуды с налепным опоясывающим валиком с пальцевыми вдавлениями. Они изготовлены по частям (горло с плечиками, средняя часть тулова, основание), затем соединенных, из хорошо отмученной глины, без крупных примесей, имеют красно-коричневый обжиг. В этой категории керамики представлен также весьма крупный, со светлокоричневым тестом, гладкостенный, покрытый бежевым ангобом сосуд, с невысоким раструбовидным широким горлом (h = 22 см, d устья = 39 см, наружный d венчика = 51 см), подчеркнутым в основании чередующимися валиками и канавками, с утолщенным и отогнутым наружу, с верхней широкой (6 см) горизонтальной площадкой венчиком, под наружным краем которого проходит налепной поясок с палечными вдавлениями (рис. 10: 1, 12: 6); сосуд орнаментирован по плечикам и в верхней части тулова налепными лентами-валиками с точечными, вертикальными и косыми вдавлениями (рис. 10: 2, 12, 6), а в тесте представлены заметные добавки отощителей (дресва, песок).
К категории тарной керамики относятся и крупные горшковидной формы двуручные или без ручек сосуды типа корчаги с низкой (h = 3,3—4 см) широкой (d устья = 11,5—26 см) раструбовидной или немного отогнутой прямой горловиной и утоньшенным невыделенным венчиком (рис. 8: 4, 5, 12: 3, 4); основание их горловин и плечиков декорировано опоясывающим валиком с косыми вдавлениями (рис. 10: 1), насечками (рис. 8: 4, 5, 11: 5, 6, 12: 3—5), врезными многорядными линиями (рис. 11: 2, 3), линейно-волнистыми поясками (рис. 11: 7, 8). Горизонтальные, круглые в сечении ручки этих сосудов, крепившиеся на противоположных сторонах к плечикам, украшены вдавленно-врезным орнаментом, сделанным валиком с тонкими зазубринами (рис. 11: 6, 12: 5), многозубым гребешком (рис. 11: 7) или заостренным предметом (рис. 11: 8). Обратим внимание, что эти сосуды отличаются высоким качеством изготовления, что сближает их со столовой керамикой; они имеют чистое, хорошо отмученное тесто, равномерный обжиг, звонкий черепок.
Кухонная керамика представлена фрагментами и целым плоскодонным горшком (h = ок. 16 см, d наибольшего расширения тулова = ок. 16 см) с невысокой раструбовидной горловиной с невыделенным венчиком и усеченно-сферическим туловом, орнаментированным по основанию горла и в верхней половине тулова четырьмя обводящими точечными поясками, сделанными зубчатым колесиком по сырой глине (рис. 8: 3).
Датировка керамического комплекса и городища Куйсун
Представленный керамический комплекс городища Куйсун хронологически весьма показателен. Представленные кувшины—ойнохои, в том числе декорированные врезным линейно-волнистым орнаментом и с налепными «глазками» и «ушками» по бокам слива, получили широкое распространение в Южном Дагестане в VI—VIII в. и представлены, в частности, в слоях этого времени Дербента, в материалах могильников близ селений Яраг, Мугерган, Сардаркент, Чувек, Сыртыч, Кулиф, Ерси (Пикуль 1959: 68, 103; Гаджиев 1984: 56, 57, табл. IV; 1986: 72). Также и красноглиняные округлобокие чаши с обводящими устье канавками получили распространение в Южном Дагестане в указанное время и известны, в частности, в Мугергане (Гаджиев 1984: 58, 59, табл. V: 10, 11). Описанный сосудик-чайник с носиком и боковой ручкой известен среди материалов раннесредневековой Кавказской Албании (Нуриев 2009: 317, табл. 31: 2).
Представленные в керамическом комплексе городища Куйсун тарные сосуды—хумы, сплошь покрытые одно- или двусторонней штриховкой тулова многозубым гребнем,
МАИАСП № 15. 2023
Археологические данные к локализации крепости Билистан появляются, судя по стратиграфическим наблюдениям в Дербенте, в IV—V в., получают широкое распространение в позднесасанидский период (VI—VII вв.) (см., напр.: Гаджиев и др. 2018: рис. 13: 4, 10, 11) и продолжают бытовать вплоть до времени монгольских завоеваний. Они представлены и в позднесасанидских слоях 1-го Паласа-сыртского городища (Малашев, Болелов 2017: 95, 100, рис. 6: 5), расположенного на р. Рубас в прикаспийской зоне Южного Дагестана. Среди тарных сосудов особый интерес представляют фрагменты крупного сасанидского хума (рис. 9: 1, 2) со специфическим тестом, декором и бежевым ангобным покрытием, который находит аналоги среди сасанидской тарной керамики Дербента и уже упомянутого 1-го Паласа-сыртского городища (Малашев, Болелов 2017: 95, 98, рис. 4: 6, 11).
Таким образом, керамический комплекс городища Куйсун датируется в рамках VI—VIII вв. Вместе с тем, следует обратить особое внимание на тот немаловажный факт, что здесь совершенно отсутствует, с одной стороны, глазурованная керамика, появляющаяся в Южном Дагестане в конце VIII в. (Гаджиев, Кузеева 2007: 194—198; Гаджиев и др. 2018: 194—198), и, с другой, красноглиняная красноангобированная и каннелюрованная лощеная посуда, пик распространения которых на Северо-Восточном Кавказе приходится на IV—V вв. и которая доживает до начала VI в. (Гаджиев 1998: 267—276). Эти две даты — начало VI в. и конец VIII в. — определяют хронологический диапазон описанного керамического комплекса и terminus post quem и terminus ante quem бытования городища Куйсун, его нижнюю и верхнюю даты.
Заключение
Тем самым, археологические материалы — наличие городища, датируемого по керамическому комплексу VI—VIII вв., соотношение археологических данных со сведениями нарративного источника о местоположении памятника, с результатами ранее проведенного лингво-этимологического и топонимического анализа позволяют достаточно веско локализовать на месте открытого городища Куйсун, расположенного в стратегически важном месте в среднем течении р. Самур, раннесредневековую крепость Билистан, в которой в 738 г. непреклонный царь лакзов Арбис ибн Басбас укрывался от амира Марвана ибн Мухаммада. Коррелируя информацию письменных источников о масштабной фортификационной деятельности Хосрова I Ануширвана на Восточном Кавказе в середине VI в. и сообщение ал-Куфи об осаде Билистана в 738 г. этими датами можно предварительно ограничить время существования городища Куйсун — одного из оплотов царства Лакз.
Правда, следует отметить, что ал-Куфи не пишет о гибели крепости Билистан, а наоборот, сообщает, что защитникам была предоставлена безопасность (араб. аман ) с возложенной на них обязанностью ежегодной выплаты налога ( харадж , джизья ), и «их оставили в своем городе» (Абу Мухаммад Ахмад ибн А’сам ал-Куфи 1981: 57—59). Но археологические материалы городища Куйсун могут свидетельствовать об обратном — следы пожарища (обильная обожженная супесь в культурном слое), наличие немалого количества оставленных целых тарных и других керамических сосудов, в том числе побывавших в огне (что свойственно поселениям, покинутым в спешке и затем разрушенным, сожженным) могут указывать на гибель поселения. И в этом случае информация ал-Куфи может быть воспринята как неправдивая, подчеркивающая милосердие победителя над побежденными, взятыми под покровительство (араб. зимма ), впрочем, как и приводимая им история убийства царя Арбиса пастухом, представляющая, скорее, вариацию фольклорного сюжета «Царь и пастух».
Обратим внимание на то, что ал-Куфи применяет к Билистану не только термин «город» (араб. балад ), но также определения «крепость» (араб. хисн ) и «селение» (араб. карья ), что, очевидно, отразило трудность в обозначении статуса Билистана, как социального организма, источником, из которого арабский автор черпал свои данные о Билистане, несомненно
М.С. Гаджиев, М.Ш. Сайпудинов, В.А. Саидов, Ю.А. Магомедов
МАИАСП № 15. 2023
являвшимся значимым военно-стратегическим, административно-политическим и, вероятно, торгово-экономическим центром страны Лакз. Судя по малым размерам городища Куйсун, представляющего небольшое поселение с обособленной цитаделью, к нему не может быть применимо определение «город». И оно, очевидно, выступало одной из резиденций правителя Лакза, расположенной в стратегически важном месте, связывавшей равнину с горными областями и контролировавшей торговый путь по Самуру, который вел к перевалам Большого Кавказа и на Прикаспийскую низменность.
В завершении отметим, что, возможно, будущие археологические исследования неповрежденных участков этого, безусловно, важного объекта археологического наследия, подвергшегося в наше время варварскому разрушению в результате несанкционированных земляных работ и неконтролируемой раздачи земельных участков и последующей застройки, откроют новые страницы его истории, истории царства Лакз, несмотря на то, что значительная историко-археологическая информация оказалась уничтоженной ковшом экскаватора и ножом бульдозера. Пример с городищем Куйсун продемонстрировал грубейшее нарушение законодательства в области охраны памятников истории и культуры и безответственное отношение к прошлому своего народа. Но послужит ли этот случай еще одним назидательным уроком?
Список литературы Археологические данные к локализации крепости Билистан
- Абу Мухаммад Ахмад ибн А'сам ал-Куфи. 1981. Книга завоеваний. Баку: Элм.
- Аликберов А.К. 2003. Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака'ик» (XI—XIIвв.). Москва: Восточная литература.
- Гаджиев М.С. 1984. Столовая керамика Южного Дагестана рубежа албанского и раннесредневекового времени. В: Мамаев М.М. (отв. ред.). Древние промыслы, ремесло и торговля в Дагестане. Махачкала: Институт истории, языка и литературы, 47—72.
- Гаджиев М.С. 1986. Погребальные памятники Южного Дагестана позднеалбанского и раннесредневекового времени (I—VII вв.). В: Агларов М.А. (отв. ред.). Обряды и культы древнего и средневекового Дагестана. Махачкала: Институт истории, языка и литературы, 71—89.
- Гаджиев М.С. 1998. О хронологии красноангобированной керамики Северо-Восточного Кавказа. В: Сташенков Д.А. (отв. ред.). Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия н.э. (вопросы хронологии). Материалы II Международной археологической конференции 17—20 ноября 1997 г. Самара: Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, 267—276.
- Гаджиев М.С. 2013. Градостроительная и фортификационная деятельность Сасанидов на Восточном Кавказе. В: Рудаков В.Г. (отв. ред.). Город и степь в контактной евроазиатской зоне. Материалы III Международной научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения Г. А. Федорова-Давыдова (1931—2000) Москва: ГИМ, 58—64 (Труды Государственного исторического музея 184).
- Гаджиев М.С., Абдулгамидов Н.А. 2019. К локализации крепости Билистан. История, археология и
- этнография Кавказа 15 (1), 8—16. Гаджиев и др. 2018: Гаджиев М.С., Абиев А.К., Будайчиев А.Л., Абдуллаев А.М. 2018. Раскопки
- Дербентского поселения в 2016 г. История, археология и этнография Кавказа 14 (3), 128—149.
- Гаджиев М.С. Кузеева З.З. 2007. Ранняя глазурованная керамика Дербента (по материалам раскопок форта 1). В: Гаджиев М.С. (ред.). Археология, этнология и фольклористика Кавказа: Материалы Международной научной конференции «Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе». Махачкала: Эпоха, 194—198.
- Гаджиев М.С., Кузеева З.З. 2018. О хронологии ранней глазурованной керамики Дербента. В: Кочкаров У.Ю. (отв. ред.). Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье. Материалы Международной научной конференции XXX «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Карачаевск, 22—29 апреля 2018 г. Карачаевск: Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева, 426—428.
- Малашев В.Ю., Болелов С.Б. 2017. 1-е Паласа-сыртское городище в Южном Дагестане. КСИА 248, 91—110.
- Нуриев А.Б. 2009. Ремесло Кавказской Албании (III—VIII вв.). Баку: Институт Археологии и Этнографии НАНА.
- Пикуль 1959: НА ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 100. Пикуль М.И. 1959. Итоги археологических разведок в Южном Дагестане в 1959 г.
- Шихсидов А.Р. 1980. Вопросы исторической географии Дагестана X—XIV вв. (Лакз, Гумик). В: Садыки М.Г., Саидов М.С., Шихсаидов А.Р. (ред.). Восточные источники по истории Дагестана. Махачкала: Институт истории, языка и литературы, 65—81.