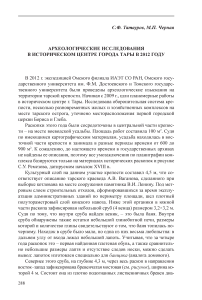Археологические исследования в историческом центре города Тары в 2012 году
Автор: Татауров С.Ф., Черная М.П.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521871
IDR: 14521871
Текст статьи Археологические исследования в историческом центре города Тары в 2012 году
В 2012 г. экспедицией Омского филиала ИАЭТ СО РАН, Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского и Томского государственного университета были проведены археологические изыскания на территории тарской крепости. Начиная с 2009 г., шли планомерные работы в историческом центре г. Тары. Исследована оборонительная система крепости, несколько разновременных жилых и хозяйственных комплексов на месте тарского острога, уточнено месторасположения первой городской церкви Бориса и Глеба.
Раскопки этого года были сосредоточены в центральной части крепости - на месте воеводской усадьбы. Площадь работ составила 100 м2. Судя по имеющимся картографическим материалам, усадьба находилась в восточной части крепости и занимала в разные периоды времени от 600 до 900 м2. К сожалению, до настоящего времени в государственных архивах не найдены ее описания, поэтому все умозаключения по планиграфии комплекса базируются только на материалах исторических раскопок и рисунке С.У. Ремезова, датируемом началом XVIII в.
Культурный слой на данном участке крепости составил 4,5 м, что соответствует описанию тарского краеведа А.В. Ваганова, сделанного при выборке котлована на месте сооружения памятника В.И. Ленину. Под метровым слоем строительных отходов, сформировавшихся за время эксплуатации административных зданий по периметру площади, шел плотный полутораметровый слой конского навоза. Ниже этой органики в южной части раскопа зафиксирован небольшой сруб (4 венца) размером 3,2×3,2 м. Судя по тому, что внутри сруба найден веник, – это была баня. Внутри сруба обнаружены также остатки небольшой глинобитной печи, размеры которой и количество глины свидетельствуют о том, что баня топилась по-черному. Находок в срубе было мало, но одна из них весьма любопытна: в дальнем углу от входа лежал небольшой лапоть. Учитывая, что за четыре года раскопок это - первая найденная плетеная обувь, а также сравнительно небольшие размеры лаптя и отсутствие следов носки, можно сделать вывод: лапоток изготовлен специально для банщика (аналога домового).
Севернее этого сруба, на глубине 4,3 м, через весь раскоп в направлении восток-запад зафиксирована бревенчатая мостовая (см. рисунок ), ширина которой 4 м. Состоит она из плотно подогнанных лиственничных бревен диа- 288
Рис. Тарская мостовая XVII века.
метром около 0,2 м и длиной 4,7 м. Верхняя часть бревен стесана. Крайние бревна находились выше остальных на 0,05 м и выполняли колесоотбойную функцию. Очевидно, мостовая является самым ранним сооружением и уложена на непотревоженную почву. Мостовая существовала достаточно долго, т.к. дно из бревен сильно изношено и сверху укреплено лиственничной дранью. С северной части мостовая прорезана пристройкой из тщательно выстроганного бруса (толщина 0,2, ширина 0,5 м), служившей сенями дома. Сам дом представлен срубом из мощных (диаметр около 0,5 м) лиственничных бревен (длина более 6 м). Судя по тщательности, с какой выструган брус для сеней и подобраны бревна для дома, это жилой комплекс представительского уровня. Сохранились два венца сруба. Верхние бревна сильно пострадали от огня: вероятно, дом уничтожен одним из многочисленных тарских пожаров.
Отличная сохранность деревянных конструкций в раскопе этого года позволила восстановить многие элементы комплекса. Однако мы столкнулись с целым рядом трудностей при датировании культурных горизонтов и интерпретации всего исследованного комплекса в плане соотнесения с имеющимися планами крепости. Прежде всего, сказалось отсутствие хороших датирующихся материалов. В ходе раскопок 2011 г. в острожной части города каждый культурный горизонт датировался хорошим монетным материалом и другие находки (торговые пломбы, металлический инвентарь, украшения) хорошо укладывался в эти хронологические отрезки. В этом году не найдено ни одной монеты, более того, практически отсутствуют вещи, которые указывают на престижность владельцев или особую значимость исследуемого комплекса. В ходе раскопок прошлых лет в полученных коллекциях есть мужские серебряные перстни, металлические торговые пломбы с фамилиями владельцев, китайский и русский фарфор. Из раскопок подоб- ных комплексов в других городах Сибири, например, воеводской усадьбы Томского кремля, происходит замечательная коллекция изразцов [Черная, 2002, с. 56–69]. В этом году мы ничего подобного не нашли.
Данная ситуация объясняется тем, что в 2012 г. раскоп заложили на периферийной (хозяйственной) части усадьбы. На картах XVII–XVIII вв. положение комплекса устойчиво привязано к этому району крепости, но она показана одним массивом, без разделения на отдельные строения. Исключение представляет рисунок С.У. Ремезова, где усадьба показана в виде четырех строений, связанных друг с другом и вытянутых перпендикулярно террасе р. Иртыш. Очевидно, мы вышли в раскопе на самую южную часть усадьбы, вдоль которой была проложена мостовая. В пользу этого говорит и то, что воеводская изба не могла быть расположена непосредственно рядом с мостовой. Скорее всего, к мостовой могли выходить только ворота усадьбы. По материалам раскопок, усадьба несколько раз меняла планиграфию, и первоначально мостовая была центральной улицей крепости. После значительного расширения крепости (предположительно в конце XVII в.) необходимость в мостовой исчезла: она была завалена мусором, а затем погребена под огромными напластованиями навоза.
Тем не менее, полученная в ходе раскопок 2012 г. коллекция оказалась достаточно представительной. В первую очередь, следует отметить большое количество предметов из дерева, бересты, кожи, фрагменты тканей, которые сохранились благодаря значительной мощности культурного слоя и полутораметровой толще навоза. Во время раскопок предыдущих лет мы тоже находили достаточно много изделий из дерева и кожи [Татауров, 2009, 2010, 2011], но в этом году добавилось еще несколько моментов.
Впервые мы нашли окрашенные вещи. Наиболее интересны несколько предметов. Остатки верхней одежды красного цвета из тонкого войлока представлены многочисленными (17 шт.) фрагментами. Все они небольшого размера и, к сожалению, реконструировать одежду по ним невозможно. Другая находка – мужские сапоги, у которых колодка выкрашена краской на основе золотого порошка. Еще одно изделие – деревянная солонка в виде грибка, окрашенная голубой краской.
В этом году найдена деревянная бирка с надписью «хмель». Предмет имеет вид прямоугольной дощечки с двумя отверстиями, которую привязывали к мешкам с товаром. Надпись достаточно небрежно выполнена острым режущим предметом, скорее всего, ножом. Судя по начертанию букв, ее можно датировать началом XIX в. Это первая бытовая надпись. До нее при раскопках г. Тары нами обнаружены лишь надписи в виде клейм на посуде и торговых пломбах.
Еще одна категория находок – детские игрушки и предметы досуга. Из игрушек к традиционным корабликам из сосновой и лиственничной коры и альчикам со свинцом для игры в бабки в этом году добавился лук с набором стрел из сосновой дранки. К предметам досуга можно отнести шахматные фигурки коня и пешки. Эти шахматные фигуры поставили г. Тару в один ряд с «шахматными столицами» Западной Сибири – Мангазеей [Виз-галов, Пархимович, 2008, с. 97–103] и Томском [Черная, 2004].
Отдельно остановимся на обуви. В 2012 г. коллекция тарской обуви пополнилась еще на 200 образцов, из которых около 20 целых форм. Практически все они найдены в нижних слоях культурного слоя и в целом соответствуют выделенным нами типам обуви, которые мы датируем допетровским временем [Богомолов, Татауров, 2010]. Выделяется сапог, о котором написано выше: с колодкой, окрашеннной золотой краской. У сапога несколько особенностей: он имеет ажурные ботфорты, расшитые швы и наборный высокий каблук из 15 слоев толстой кожи. По всей вероятности, обувь носил тарский щеголь. Это практически единственный предмет, который указывает на то, что хозяин усадьбы занимал высокий пост в городе.
Раскопки 2012 г. предопределили направление дальнейших исследований – раскопки всего комплекса воеводской усадьбы. Сохранность деревянных конструкций позволяет предельно точно восстановить всю планиграфию усадьбы. Коллекции предметов существенно расширяют наши представления об облике тарчан, их занятиях, досуге и т.д. На наш взгляд, имеется хорошая возможность создать на основе этого объекта в г. Таре археолого-историко-архитектурный ансамбль.