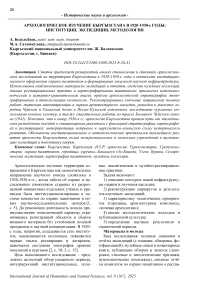Археологическое изучение Кыргызстана в 1920-1930-е годы: институции, экспедиции, методология
Автор: Бедельбаев А., Сатимкулова М.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 8 (107), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья предлагает развернутый анализ становления и динамики археологических исследований на территории Кыргызстана в 1920-1930-е годы в контексте институционального оформления охраны памятников и формирования локальной научной инфраструктуры. Использованы опубликованные материалы экспедиций и отчётов, сведения музейных коллекций, данные реставрационных практик и картографирования памятников; применены источниковедческий и историко-сравнительный анализ, приёмы археологической стратиграфии, топографирования и типологизации комплексов. Реконструированы ключевые направления полевых работ: первичная инвентаризация и охрана архитектурного наследия, разведки и раскопки городищ Чуйской и Таласской долин и Иссык-Кульской котловины, исследование курганных могильников кочевых культур, а также спасательные работы на трассе Большого Чуйского канала (1941). Показано, что к концу 1930-х гг. археология Кыргызстана прошла путь от эпизодических разведочных выездов к стационарным раскопкам с фиксацией стратиграфии, картографией и реставрацией; интерпретации встроены в марксистско-ленинскую схему исторического развития. Обозначены институциональные и методологические предпосылки дальнейшего развития археологии Кыргызстана, вклад межрегиональных и локальных учреждений в организацию экспедиций и подготовку кадров.
Кыргызстан, Киргизская АССР, археология, Турккомстарис, Средазкомстарис, охрана памятников, городища, курганы, Баласагун (Ак-Бешим), Узген, Бурана, Семиреченская экспедиция, картография памятников, музейные коллекции
Короткий адрес: https://sciup.org/170210850
IDR: 170210850 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-8-26-31
Текст научной статьи Археологическое изучение Кыргызстана в 1920-1930-е годы: институции, экспедиции, методология
Археологическое изучение территории современного Кыргызстана как самостоятельное направление научного поиска сложилось в 1920-1930-е гг., когда забота об охране и исследовании памятников старины из разрозненной инициативы отдельных учёных и краеведов была институционализирована в системе комитетов по охране памятников и новых научно-исследовательских центров [1, с. 5]. До революции деятельность носила преимущественно эпизодический характер, ограничиваясь регистрацией объектов и сбором вещевого материала без устойчивой полевой программы и научной интерпретации. В 1920е годы, напротив, складывается сеть институтов, накапливаются коллекции, появляются первые опыты реставрации и датировок, намечается системная топография древних поселений и курганов [2, с. 10; 3, с. 15].
Цель выполненного исследования - предложить целостный обзор указанного периода, интегрирующий институциональные, поле- вые, аналитические и музейно-реставрационные практики.
Задачи включают:
-
1) описание контуров новой инфраструктуры охраны и изучения наследия;
-
2) реконструкцию маршрутов и результатов ключевых экспедиций;
-
3) характеристику тематических приоритетов (городища, архитектурные комплексы, «кочевая археология»);
-
4) анализ методологических подходов и публикационной культуры;
-
5) определение научных результатов и ограничений периода.
Материалы и методы
База исследования: полевые дневники и отчёты экспедиций (с планами, обмерами, фотофиксацией), музейные описи и инвентарные книги, публикации обзоров и заметок (датировки, стилевые и типологические признаки, нумизматические комплексы), сводные отчёты комитетов по охране памятников о рестав- рационных работах [4, с. 30; 5, с. 25; 6, с. 40; 3, с. 15]. Методы: источниковедческий и историко-сравнительный анализ, археологическая стратиграфия, топографирование (картографирование) памятников, сравнительнотипологическое сопоставление материалов и корреляция с письменными источниками [7, с. 50; 8, с. 20].
Историографический контекст и источ-никовая база
Рассматриваемый этап характеризуется сочетанием трёх групп источников:
-
а) полевые дневники и отчёты экспедиций, сопровождавшиеся планами, обмерами, фотофиксацией и краткими сводками находок;
-
б) музейные описи и инвентарные книги, фиксировавшие поступление коллекций из Чуйской и Таласской долин, Иссык-Кульской котловины и южных районов;
-
в) публикации обзоров и заметок, где обобщались датировки, стилевые и типологические признаки архитектуры и мелкой пластики, а также нумизматический материал.
На рубеже 1920-1930-х гг. заметное место занимают сводные отчёты комитетов по охране памятников о реставрационных работах, в которых уже присутствуют элементы научного анализа: сопоставления с аналогами Средней Азии и Казахстана, апелляция к средневековым письменным свидетельствам и ранним путешественническим описаниям [9, с. 36; 10, с. 45].
Историографическая традиция последующих десятилетий зафиксировала ключевые имена и вехи периода: П.П. Иванов, В.Д. Городецкий, Б.П. Денике, Б.Н. Засыпкин, М.Е. Массон, М.П. Грязнов, М.В. Воеводский, А.И. Тереножкин, С.Е. Малов, А.Н. Берн-штам, Б.М. Зима, М.Э. Воронец и др. [8, с. 20]. В отсутствие масштабных дореволюционных раскопок именно их полевые инициативы и реставрационные опыты задали стандарты документирования и исследовательской логики.
Институциональные предпосылки: от комитетов охраны к локальным научным центрам
Комитеты охраны памятников
Первоначальный импульс к систематизации работ исходит от структур по охране старины – Турккомстариса и позднее Средазком-стариса, действовавших в тесной координа- ции с местными органами управления [1, с. 5; 9, с. 35]. Их мандат включал учёт памятников, организацию ремонтно-реставрационных работ, наблюдение за состоянием архитектурных объектов, а также поддержание полевых разведок. В первой половине 1920-х гг. на территории Киргизской АССР (далее – Кыргызстан) усилиями этих комитетов были выявлены и поставлены на учёт наиболее значимые архитектурные и археологические объекты: узгенский ансамбль, башня Бурана, городища Ак-Бешим и Ак-Тепе и др. [3, с. 16].
Формирование локальной инфраструктуры
Качественный сдвиг наступает с появлением в самом регионе научных «якорей»: в 1927 г. во Фрунзе учреждается Музей краеведения, начавший целенаправленный приём археологических коллекций, а в 1928 г. – Научно-исследовательский институт краеведения, ставший организационной опорой для маршрутов, отчётности и публикаций [11, с. 62; 12, с. 70]. С этого момента регистрация и хранение находок, их первичная научная обработка и популяризация в музейном пространстве обретают устойчивую институциональную рамку.
Межрегиональные научные центры
С середины 1930-х гг. заметно усиливается участие центральных научных учреждений – Института (Академии) истории материальной культуры и Государственного Эрмитажа. Их вклад выражается в методическом сопровождении экспедиций, экспертизе датировок и реставрационных решений, а также в привлечении специалистов по нумизматике, эпиграфике и древним руническим письменам [13, с. 80; 14, с. 90].
Ранние маршруты и разведки 19231926 гг.
Первые послереволюционные выезды в пределах нынешнего Кыргызстана были нацелены на уточнение локализации и состояния уже известных по описаниям объектов, и фиксацию новых находок. В 1923 г. П.П. Иванов обследовал комплекс памятников в Чуйской долине, уделив внимание городищам (Ак-Тепе), могильникам и отдельным находкам нумизматического и эпиграфического характера. Особый интерес вызвали сведения о древних горнорудных разработках и каменная колонна из Ак-Тепе, позволившая привязать объект к более широкому кругу средневековой архитектурной пластики [15, с. 105].
В 1924 г. В.Д. Городецкий осмотрел место находок серебряных сосудов у с. Покровского, обследовал близлежащее городище и башню Бурана, акцентируя внимание на стратиграфических срезах и планировке (возможности для их наблюдения в пределах разрушенных участков) [16, с. 110]. В том же году Ферганская археологическая экспедиция под руководством Б.П. Денике и Б.Н. Засыпкина исследовала узгенский архитектурный комплекс – минарет и три мавзолея, выполнив обмеры и зафиксировав состояние кладки и декоративных элементов [5, с. 25; 3, с. 15].
В 1925 г. М.Е. Массон обследовал башню Бурана и мазара Манаса, сопоставив конструктивные решения с аналогами в Средней Азии и предложив аргументы для датировки буранского памятника ранним XI в. Важной частью его работы было картографическое описание ближайших укреплённых поселений и фиксация обломков архитектурного декора [2, с. 10].
В 1926-1927 гг. П.П. Иванов предпринял систематическое обследование Иссык-Кульской котловины, составив первую археологическую карту района и собрав сведения о подводных археологических объектах озера. Фиксация затопленных участков древних поселений (по сообщениям местных жителей и визуальным наблюдениям) расширила представления о динамике береговой линии и палеогеографии региона. Одновременно были осмотрены ряд городищ Чуйской долины, намечены ориентиры для будущих раскопок и сравнительного анализа керамики [4, с. 35].
Реставрационные практики и датировки: Ак-Бешим – Баласагун, Узген, Бурана (1927-1930)
Работы Средазкомстариса
В 1927-1928 гг. деятельность Средазком-стариса сосредоточилась на реставрации башни Бурана и узгенского ансамбля [17, с. 121]. В случае Бураны археологический надзор за вскрытием нижних частей и наблюдение за структурой кладки осуществлял М.Е. Массон, подтвердивший датировку начала XI в. на основе технико-технологических и стилистических признаков [6, с. 41]. По узгенскому комплексу под руководством Б.Н. Засыпкина были укреплены аварийные участки кладки всех трёх мавзолеев, выполнены обмеры и фотофиксация, выработаны регламенты допустимых вмешательств [3, с. 16].
Идентификация Ак-Бешима и вопрос о Баласагуне
Важным результатом обследований стало сопоставление развалин Ак-Бешима с письменными сведениями о средневековом Бала-сагуне, что в историографии закрепилось прежде всего благодаря работам М.Е. Массона. Данная атрибуция опиралась на комплекс признаков: локализацию на трассе древних путей, планировочные параметры городища, керамические комплексы и нумизматические данные [18, с. 133].
Нумизматика и эпиграфика
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. накапливается нумизматический материал, позволяющий уточнять хронологию городищ и памятников архитектуры, а также вероятные торговые связи. Особняком стоит случай сохранения небольшого предмета с руническими письменами, обнаруженного на руднике Ачик-Таш в долине р. Талас и переданного для чтения С.Е. Малову [19, с. 143]. Этот эпизод показал потенциал эпиграфики и древнетюркской письменности для локальной истории [19, с. 144].
Курганные исследования (1928-1929)
В 1928-1929 гг. впервые в масштабе республики были предприняты целевые раскопки курганов в Чуйской долине и Иссык-Кульской котловине (М.П. Грязнов, М.В. Воеводский), давшие разнообразный материал по культуре ранних кочевников – усуней. Фиксировалась структура курганов, особенности погребального инвентаря, намечались типологические ряды и региональные варианты [20, с. 151; 21, с. 164].
Разведочное изучение археологических памятников Чуйской долины в 1929 г. проводил А.И. Тереножкин, зарегистрировав значительное число оседлых поселений и курганов; впервые у г. Фрунзе обнаружены следы поселений эпохи бронзы, а в районе Аламедин-ской ГЭС – каменные орудия неолита [22, с. 175]. В 1930 г. М.Е. Массон изучал древние горнорудные разработки Таласской долины; все эти годы он вёл изучение нумизматического материала на территории Киргизии [18, с. 135]. Им же сохранена уникальная палочка с руническими письменами (Ачик-Таш, 1932), надпись прочитал С.Е. Малов [19, с. 145].
1930-е годы: консолидация подходов и приход А.Н. Бернштама
В 1930-е годы археологические исследования в республике проводятся историческим факультетом Киргизского государственного педагогического института и Комитетом наук Киргизской ССР при участии ИИМК и Государственного Эрмитажа [13, с. 80; 14, с. 90]. С 1933 г. изучением памятников материальной культуры Киргизии начал заниматься А.Н. Бернштам, на протяжении почти двух десятилетий руководивший экспедициями на территории республики [7, с. 50]. В 1937 г. археологическая экспедиция пединститута (рук. Б.М. Зима) обследовала многие районы Северной и Южной Киргизии; открыты новые памятники, выполнена фотофиксация и обмеры архитектурных объектов и развалин городищ, собран подъемный материал, в т.ч. бронзовые предметы сакского периода [23, с. 180].
Семиреченская археологическая экспедиция (1938-1940)
Семиреченская экспедиция, организованная в 1936 г., приступила к изучению памятников Киргизии в 1938 г. За три полевых сезона 1938-1940 гг. изучена историческая топография оседлых поселений Чуйской и Таласской долин, Иссык-Кульской котловины, долин Малого и Большого Кемина; обследована Кочкорская долина; на городищах Ак-Бешим, Краснореченское, Новороссийское, Шельджи, Орловское, Ак-Тепе и др. проведены раскопки. Установлено, что часть из них – остатки поселений VI-XII вв. Одновременно обследованы памятники кочевого населения: в верховьях Таласа изучен Кенкольский могильник (I в. до н.э. – II в. н.э.); в долинах Кемина и Иссык-Куля зарегистрированы каменные изваяния – балбалы [8, с. 25].
Работы экспедиции позволили составить первую археологическую карту Северной Киргизии, наметить этапы развития культуры; датировать основные памятники кочевого и оседлого населения; отождествить развалины некоторых городищ с древними центрами; выявить согдийскую и киданско-каракитай-скую компоненты; установить трассы древних торговых путей [8, с. 25].
Петроглифы юга Кыргызстана (1939)
В 1939 г. М.Е. Массон и М.Э. Воронец изучали наскальные изображения в районах сс. Араван, Охна, Лимбур и г. Ош; зафиксированы сюжеты, техника исполнения и контексты расположения [24, с. 195; 25, с. 205].
Спасательная археология на трассе БЧК (1941)
Экспедиция археологического надзора на трассе строительства Большого Чуйского канала, организованная постановлением СНК Киргизской ССР в апреле 1941 г., прошла по зонам древней плотной застройки; на протяжении ~150 км осуществлялся надзор, велась фиксация находок и полевые исследования с участием ИИМК, ЛГУ и местных учреждений. Собран богатый материал, охватывающий четырёхтысячелетний период истории Северной Киргизии – неолит, бронза, ранние кочевники, средневековье; на базе коллекций БЧК создан историко-археологический отдел Исторического музея г. Фрунзе; результаты обобщены в публикациях [26, с. 173].
Методология и практика фиксации
В начале 1920-х гг. полевая работа ограничивалась описательными маршрутами и инвентаризацией. К концу 1930-х стандарт включает:
-
1) раскопы с контролируемой стратиграфией;
-
2) планиграфическую съёмку и черчение;
-
3) фотофиксацию и масштабные обмеры;
-
4) нумизматический и типологический анализ;
-
5) сопоставление с письменными источниками и региональными аналогами.
Реставрация архитектуры (Бурана, Узген) ведётся вместе с исследованием кладки, декора и конструктивных узлов; ограничивается реконструктивное вмешательство, подчёркивается приоритет консервации [3, с. 15]. Картографирование (Иванов по Иссык-Кулю; Се-миреченская экспедиция на севере) переводит разрозненные точки в систему пространственного анализа: городища тяготеют к древним путям и воде; курганы формируют «поля» вдоль долин; кластеры балбалов маркируют зоны длительной кочевой активности [4, с. 32; 8, с. 21].
Исследования 1920-1930-х годов в археологии Кыргызстана выявили ряд ключевых направлений. Анализ архитектурного наследия средневековья позволил уточнить дати- ровку башни Бурана (XI в.) и изучить узген-ский ансамбль, включая планы, обмеры мавзолеев и минарета, а также фиксацию декоративных мотивов и строительных техник [6, с. 43; 3, с. 16]. Раскопки и обследования городищ VI-XII вв., таких как Ак-Бешим, Красно-реченское, Новороссийское, Шельджи, Орловское и Ак-Тепе, определили типологию укреплённых оседлых центров, их ремесленные и торговые функции, а также их роль в системе древних путей [8, с. 23]. Изучение курганных могильников способствовало реконструкции социальных и культурных практик кочевых сообществ, а сопоставление с оседлыми центрами выявило зоны культурного обмена и контактов [20, с. 152]. Обнаружение следов неолитических и бронзовых поселений в районе Аламедина и окрестностей Фрунзе включило Кыргызстан в научные дискуссии о распространении технологий и форм хозяйства в доисторический период [22, с. 174]. Создание первых археологических карт и проведение спасательных работ на трассе Большого Чуйского канала закрепили стандарты полевой работы на линейных объектах и практику археологического надзора [26, с. 174].
Кадры, публикации и дисциплинарные рамки
Переход от кружков любителей к профессиональному сообществу сопровождался курсами, стажировками в центральных институтах, совместными экспедициями и публикациями; узловые фигуры – А.Н. Бернштам, М.Е. Массон, Б.Н. Засыпкин и др. – сформировали практики топографической фиксации и типологического анализа [7, с. 55]. Идеологический контекст 1930-х задавал интерпретационную рамку: внимание к стадиям, производственным отношениям, этногенезу на основе «материальной культуры» (формационный подход) [13, с. 83]. При всех ограничениях эта схема обеспечила связность матери-
Ограничения и вызовы периода
Неравномерность полевых усилий, фрагментарность фиксации, ограниченное время на памятниках (логистика, ресурсы) [8, с. 25]; балансирование реставрации между консервацией и реконструкцией [3, с. 20]; зависимость публикаций от сводных отчётов и заметок. К концу 1930-х многое преодолено стандартизацией отчётности, развитием музейных отделов и подготовкой специалистов [8, с. 25].
Заключение
Период 1920-1930-х гг. стал основанием археологии Кыргызстана как дисциплины с собственной инфраструктурой, методами и тематическим кругом. От учётной регистрации и «первой помощи» архитектурным памятникам регион пришёл к системным раскопкам, картированию, спасательной археологии и междисциплинарным синтезам с нумизматикой, эпиграфикой и исторической географией. Работы П.П. Иванова, В.Д. Городецкого, Б.П. Денике, Б.Н. Засыпкина, М.Е. Массона, М.П. Грязнова, М.В. Воеводского, А.И. Тереножкина, С.Е. Малова, А.Н. Бернштама, Б.М. Зимы, М.Э. Воронец и др. сформировали «археологический корпус» республики; выработанные практики фиксации, реставрации и публикации задали рамки дисциплины на десятилетия [8, с. 20; 26, с. 173]. Ключевое достижение – превращение отдельных наблюдений и эпизодических разведок в последовательную программу исследования пространства – от Иссык-Кульской котловины и долин Чуя и Таласа до горных районов и южных оазисов; участие центральных институтов и создание музеев/НИИ вписали археологию Кыргызстана в общесреднеазиатский и общеевразийский контекст, обозначив её вклад в проблему взаимодействия кочевых и оседлых миров, трансфера технологий и длительности культурного процесса [8, с. 20].
ала.