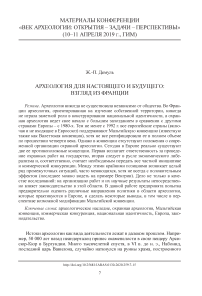Археология для настоящего и будущего: взгляд из Франции
Автор: Демуль Ж.-П.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Материалы конференции «Век археологии: открытия - задачи - перспективы» (10-11 апреля 2019 г., ГИМ)
Статья в выпуске: 259, 2020 года.
Бесплатный доступ
Археология никогда не существовала независимо от общества. Во Франции археология, ориентированная на изучение собственной территории, никогда не играла заметной роли в конструировании национальной идентичности, а охранная археология ведет свое начало с большим запозданием в сравнении с другими странами Европы - с 1980-х. Тем не менее с 1992 г. все европейские страны (включая и не входящие в Евросоюз) поддерживают Мальтийскую конвенцию (известную также как Валеттская конвенция), хотя не все ратифицировали ее в полном объеме по прошествии четверти века. Однако в конвенции отсутствуют положения о современной организации охранной археологии. Сегодня в Европе реально существуют две ее противоположные концепции. Первая возлагает ответственность за проведение охранных работ на государство, вторая следует в русле экономического либерализма и, соответственно, считает необходимым передать все частной инициативе и коммерческой конкуренции. Между этими крайними позициями возникает целый ряд промежуточных ситуаций, часто меняющихся, хотя не всегда с положительным эффектом (последнее можно видеть на примере Венгрии). Дело не только в качестве исследований: на организацию работ и их научные результаты непосредственно влияет законодательство в этой области. В данной работе предпринята попытка предварительно оценить различные направления политики в области археологии, которые практикуются в Европе, и сделать некоторые выводы, в том числе в перспективе возможной модификации Мальтийской конвенции.
Археологическое наследие, охранная археология, мальтийская конвенция, коммерческая конкуренция, национальная идентичность, европа, законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/143173132
IDR: 143173132
Текст научной статьи Археология для настоящего и будущего: взгляд из Франции
Истоки археологии как вида деятельности лежат в далеком прошлом. Например, 50 000 лет назад неандерталец принес окаменелости в свою пещеру Арси-сюр-Кюр в Бургундии. Много тысячелетий спустя, в VI в. до н. э., Набонид, последний царь Вавилона, случайно наткнулся на руины храма, построенного http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.259.7-15
1500 годами ранее знаменитым царем Хаммурапи в городе Ларса на территории современной Сирии. Так в одночасье Набонид «изобрел» археологию во всех ее аспектах: как науку и как язык для описания наших древнейших корней. В его надписях находим и волнение первооткрывателя, и описание техники раскопок и реставрации, и, наконец, манипулирование прошлым для достижения целей настоящего.
Когда археология, на этот раз – в современном понимании, начала действительно развиваться в эпоху Возрождения, она отчасти представляла по сути своей проявление научного интереса со стороны ученых, светских правителей и духовных сановников к прославленным древностям греко-римского мира, которые как раз в то время открывали заново. Именно это престижное прошлое, которому предстояло заполнить музеи, изначально – частные музеи по всей Европе, и вдохновило на первые организованные археологические раскопки, подобные тем, что проводились в Помпеях.
Однако вскоре после этого, в конце XVIII в., вместе с подъемом романтизма и с Великой французской революцией стало развиваться понятие «нации». До этого времени короли управляли своими подданными согласно «Божественному праву», т. е. по воле Бога они расширяли или сокращали свои королевства посредством войн и браков. Теперь же мы видим подъем наций, которые рассматривались как сообщества граждан, вдохновленные общей судьбой, а иногда общей «расой», происхождение которой сокрыто во мраке далекого прошлого.
Археология отныне наделена новой миссией: обосновать существование этих самостоятельных наций, описывая их славное прошлое. Таким образом выстраивалось то, что мы часто называем теперь «национальным нарративом».
В то время как у каждой нации был свой национальный нарратив, французский имел особенно неблаговидную вводную главу ‒ поражение при Алезии. В марте 2012 г. в своем выступлении на церемонии открытия нового музея в Алезии, созданного по проекту Б. Чуми, премьер-министр Франсуа Фийон объявил это «основополагающим поражением» (несколькими неделями спустя он сам потерпел поражение на президентских выборах). Впервые раскопки в Алезии проводились в 1860-х гг. во время правления императора Наполеона III, который приказал воздвигнуть грандиозную статую побежденного галльского вождя Верцингеторикса в самой высокой точке на территории памятника.
Историческое поражение в Алезии стало фактически лишь первым звеном цепи: несколькими столетиями позже римские завоеватели были, в свою очередь, побеждены германскими армиями под руководством короля франков Хлодвига. Франкам как носителям своеобразной культуры суждено было раствориться в массе побежденных галло-римлян, оставив лишь несколько германских слов во французском языке, выросшем из латыни. Вот почему, в отличие от всех других столиц мира, во французском Национальном музее в Лувре в центре Парижа нет предметов, найденных на французской земле, но есть предметы, привезенные (или захваченные в результате разграбления) из Италии, Греции и стран Востока, – именно там французские элиты XIX и XX вв. видели свои истинные культурные корни.
Национальный нарратив Германии, напротив, начинается победой – победой германца Арминиуса над римскими легионами во главе с Варусом в 9 г. н. э.
Это событие представлено, например, на барельефном фризе, который до сих пор украшает лестницу Старой национальной галереи в Берлине. Кроме того, недавно, почти одновременно с открытием музея в Алезии, канцлером Ангелой Меркель был открыт Музей битвы в Тевтобургском лесу (Varusschlachtsmuseum) в Калькризе. Однако в ее речи не было упоминания об «основополагающей победе», скорее в ней прозвучал призыв к миру.
Говоря о Франции, нужно признать, что в окрестностях Парижа все же есть Национальный музей археологии, но он расположен в отдаленном жилом пригороде в Сен-Жермен-ан-Лэ, и его низкий статус полностью соответствует небольшому количеству посетителей, переступающих его порог, – факт, который недавно отметила даже национальная Счетная палата.
Этим объясняется, почему траектория развития охранной археологии во Франции отличается от того, что происходит во многих других странах.
Фактически вплоть до 1980-х гг. бόльшая часть археологических памятников, обнаруженных в ходе работ по масштабным проектам, таких как строительство подземных автостоянок, автомагистралей, высокоскоростных железных дорог или карьеров, в более или менее изученном виде попала под нож бульдозера. Зато теперь мы знаем, что в среднем на каждый километр предполагаемого строительства, например любой железной или автомобильной дороги, приходится один важный археологический памятник. Конечно, следует признать, что при послевоенном восстановлении страны приоритет отдавался удовлетворению неотложных нужд, в первую очередь ‒ обеспечению жильем и восстановлению промышленной инфраструктуры.
Только в 2001 г. был принят закон о защите археологического наследия, который обязывает застройщиков финансировать охранные раскопки, предшествующие крупномасштабным работам. Именно благодаря этому закону был создан Национальный институт охранной археологии (INRAP), примерно через 150 лет после открытия Французской археологической школы в Афинах, которая провела широкие раскопки в Дельфах, на Делосе и в Маллии. Однако как только 17 января 2001 г. закон был принят, он сразу же подвергся нападкам со стороны нового консервативного парламентского большинства, которые не прекращаются до сих пор.
Наиболее символичной мерой было «открытие рынка» охранных раскопок, когда законом было разрешено создание частных археологических фирм. На практике это выглядит так: если Министерство культуры сочтет необходимым проведение археологических раскопок до начала застройки, именно компания-застройщик выбирает, кто будет проводить раскопки, объявляя конкурс среди участников этого рынка. Равные шансы на выбор имеют INRAP, региональная археологическая служба или коммерческая археологическая фирма. Последняя обычно предлагает более дешевое и более быстрое исследование в ущерб научным результатам. Министерство культуры сохраняет статус наблюдателя, но из-за недостатка средств и персонала ему трудно выполнять эту роль эффективно.
Более того, частные фирмы могут пользоваться значительными налоговыми льготами, предоставляемыми организациям, занимающимся научными исследованиями (CIR), что позволяет им предлагать более низкую цену работ. Другими словами, бюджетные деньги, полученные от французских налогоплательщиков, используются для того, чтобы помочь частным фирмам конкурировать с государственными службами, а иногда и угрожать самому существованию последних, например Институту INRAP или региональным службам. Одновременно снижается качество археологических раскопок и, как следствие, ослабляется степень защищенности нашего археологического наследия. Конечно, предоставление налоговых льгот коммерческим фирмам зависит от мнения научных экспертов, которым поручено определять, действительно ли деятельность фирм представляет собой научное исследование. Однако это мнение имеет исключительно консультативный характер, и чиновники Министерства финансов в своем ультралиберальном рвении (когда-то время они были против создания INRAP) часто игнорируют его и, таким образом, субсидируют коммерческие структуры. Тем не менее в результате этой коммерческой войны цен несколько частных археологических фирм уже свернули свою деятельность, и даже крупнейшая из них сейчас испытывает серьезные финансовые трудности.
Наконец, пусть пока никаких реальных изменений в этой сфере нет, тем не менее всем известно о настойчивых аргументах в пользу либерализации нормативных требований. Это прослеживается и в недавно принятом законе, регулирующем «развитие жилищного, территориального и цифрового планирования». Закон уже привел к снижению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями и, в случае с архитектурным наследием, к замене так называемого заключения о соответствии, выдаваемого архитекторами, ответственными за архитектурное наследие (architects of Bâtiments de France), на простую, ни к чему не обязывающую рекомендацию. В данном контексте все это заставляет опасаться дальнейших посягательств на охранную археологию в ближайшем будущем.
Однако дополнительные расходы и затягивание сроков строительства вследствие осуществления охранных раскопок сами по себе не могут создать серьезных преград для застройщика. На практике существует множество ограничений (устранение последствий загрязнения, уровень грунтовых вод, геологические испытания, экологические нормативы и т. д.), которые никто не считает лишними, и организованная компания-застройщик всегда может предусмотреть их при составлении общего плана работ. Что касается затрат на археологические исследования, то в действительности они редко превышают 1–2 % от общей стоимости строительства и в любом случае будут позже включены в стоимость билетов на скоростной поезд, комиссионные сборы или в цену жилья. Крупные застройщики прекрасно знают об этом и используют свое участие в археологических работах как возможность для саморекламы.
Более того, из 50 000 гектаров земли, застраиваемой во Франции ежегодно (за десять лет складывается площадь, сопоставимая с территорией среднего департамента Франции), только около 15–20 % подвергаются археологическим разведкам, а из этого числа только в одном случае из пяти дело реально доходит до раскопок. Это означает, что лишь на 4 % застраиваемой площади фактически ведутся археологические раскопки, и эта работа обычно занимает несколько недель или, самое большее, несколько месяцев. Наконец, некоторые области хозяйственной деятельности полностью избегают вмешательства археологов, такие как крупномасштабная вырубка лесов и особенно сельскохозяйственные работы. А ведь современная сельскохозяйственная техника проникает глубоко под поверхность и способна постепенно превращать древние стены в пыль, что подтверждается аэрофотосъемкой. Такое «тихое» уничтожение фактически приводит к утрате более чем половины археологических ресурсов.
Было бы полезно иметь соответствующие статистические данные по всем европейским странам, с тем чтобы сопоставить площади, на которых ведутся строительные работы в течение года, и площади, на которых осуществлены археологические разведки и проведены фактические раскопки. Для некоторых стран такие данные существуют, но в других такая статистика имеет существенные пробелы. Однако эти цифры чрезвычайно важны для определения реальной политики в отношении охранных раскопок, особенно в контексте деятельности Европейской ассоциации археологов.
За последние 30 лет в отсутствие «национального нарратива» археология действительно полностью перевернула наше понимание того, что происходило на территории Франции, и разрушила многие укоренившиеся штампы. Доисторические люди не были грубыми дикарями, они жили в равновесии с окружающей средой, питались здоровой пищей, и фактически все мы несем в себе гены неандертальцев. Изобретение земледелия и скотоводства на протяжении тысячелетий – тех тысячелетий, которые часто игнорируются в наших школьных программах и в нашей культуре, – представляет собой наиболее радикальную революцию в нашей истории. В результате ее произошел, среди прочего, демографический взрыв, распространение насилия и появление первых социальных иерархий. Галлы жили не в лесных хижинах (и не ели диких кабанов, как Обеликс, герой комиксов про Астерикса), а в настоящих городах с сельской округой, которая была очищена от лесов на территории большей, чем в наше время, и которая была разделена на большие фермы. Поздняя античность – это не период набегов кровожадных варваров, а эпоха длительного прогрессивного этнического переустройства и культурного смешения. Средневековье не было темной эпохой, оно представляло собой первую промышленную революцию, которая проложила путь к промышленной революции XIX в. Этот ряд примеров можно легко продолжить.
Археология предоставляет (или может предоставлять), среди прочего, возможность поразмышлять о самобытности обществ и их постоянной эволюции, о миграциях и постепенных процессах смешения, о распаде обществ и их отношениях с окружающей средой, а также о власти и о сопротивлении власти.
Однако проблема охранной археологии – это не исключительно французский, но общеевропейский вопрос.
С 1992 г. эта деятельность регулируется Мальтийской конвенцией (также известной как Ла-Валлеттская конвенция), принятой для всех европейских стран, а не только для Европейского союза. Тем не менее в этой конвенции ничего не говорится ни о финансировании охранной археологии, ни о ее организации. Вот почему организация этой деятельности может значительно разниться в зависимости от различных национальных традиций. В настоящее время в разных странах выявляются две основные модели: с одной стороны, государство рассматривается в качестве основного субъекта не только в сфере надзора, но и в организации археологических изысканий; с другой стороны, археология рассматривается почти как экономическая деятельность, подобно любой другой хозяйственной деятельности, и поэтому является частью рыночной экономики.
Эти две обобщенные модели также отражены в более широком смысле в административных и политических структурах Европейского союза. Казалось бы, оптимальный вариант – делегировать Европейскому союзу функции крупных государственных служб путем объединения различных национальных государственных служб, с тем чтобы создать, например, единую европейскую почтовую систему, единую систему общественного транспорта, единый орган, ответственный за энергоснабжение, единую систему медицинского страхования и т. д. Но был выбран практически противоположный этому второй вариант. Мы решили постепенно ликвидировать государственные службы в каждой европейской стране и передать их функции конкурентоспособному частному сектору (на брюссельском жаргоне это называется «свободной и справедливой конкуренцией»). Некоторые страны продвинулись по этому пути дальше, чем другие. Следовательно, должно существовать множество конкурентоспособных частных компаний, каждая из которых может действовать в любой точке в пределах европейского экономического пространства. При развитии по первому варианту мы имеем дело с государственными службами, единственная цель существования которых – служить общественным интересам. Во втором случае мы имеем дело с частными компаниями, единственной целью существования которых является получение прибыли, но которые, получая эту прибыль, должны предлагать потребителю наилучшие услуги при условии, что этот потребитель действительно обладает всей полнотой объективной информации.
Первая модель принадлежит социал-демократической политической традиции или ее разбавленной версии, которую иногда называют «Рейнской моделью капитализма»; вторая модель следует британо-американской традиции экономического либерализма или ультралиберализма, которая была особенно развита при Рональде Рейгане и Маргарет Тэтчер. Удивительно, но граждане Европы не извлекли никакой выгоды из открытых политических дебатов по основному вопросу о том, какой тип общественного развития следует выбрать, и на практике именно либеральная модель вышла на первый план в общеевропейской политике.
В случае с археологией приватизация принесла довольно негативные плоды во многих европейских странах. Как видно на примере Франции, качество и условия труда ухудшаются, научная документация рассеяна, а уровни документирования значительно разнятся от компании к компании и от памятника к памятнику. За пределами Европы эта тенденция еще более заметна в Соединенных Штатах, где некоторые компании известны тем, что никогда не находят археологических памятников для раскопок при проведении разведок для застройщика! В отличие от этого в Японии, также промышленно развитой стране, которая уделяет больше времени и ресурсов археологии (1 миллиард евро и 6000 археологов), археология долгое время была в основном государственной службой под управлением местных властей, и до начала осуществления ультра-либеральной политики нынешнего правительства страны в этой сфере практически не было частных компаний.
В таком более широком контексте проблемы археологии являются лишь симптомом гораздо более серьезных и тревожных недугов.
Следует добавить, что положение охранной археологии в Европе далеко не самое плохое в сравнении с остальным миром. В развивающихся странах сложилась гораздо более тревожная ситуация. На всем африканском континенте работают лишь несколько десятков археологов, и это на территории в три раза большей, чем Европа в географическом смысле, и в шесть раз большей, чем Европейский союз, где насчитывается от 25 000 до 30 000 специалистов. Даже в Китае, который отличается высокой степенью государственного контроля, на площади, сопоставимой с географической Европой, работают всего 2000 профессиональных археологов.
Подчеркнем, что среди ряда Конвенций ЮНЕСКО, регламентирующих различные вопросы, нет ни одного документа, посвященного охранной археологии, за исключением весьма старых Рекомендаций о международных принципах, применимых к археологическим раскопкам (Нью-Дели, 1956 г.), которые, как указывает название документа, являются ни к чему не обязывающими рекомендациями и практически не действуют.
Однако под эгидой ЮНЕСКО был принят ряд решений, которые подчеркивают интерес государств к археологическому наследию. В 1964 г. в Венеции была подписана Международная хартия по вопросам сохранения и реставрации памятников и достопримечательных мест (известная как Венецианская хартия ), что, в свою очередь, привело к созданию Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) в Варшаве в 1965 г. Кроме того, в рамках ЮНЕСКО в 1964 г. был дан старт мощнейшей кампании по спасению храмов в Нубии и Египте, которым угрожал подъем уровня вод озера Насер после строительства Асуанской плотины. В этой кампании приняло участие немало стран, и парадоксально, что за прошедшие с тех пор полвека не было организовано ни одной столь же масштабной международной спасательной операции. Например, большие плотины, возведенные на Евфрате в 1990-х гг., затопили тысячи археологических памятников без какого-либо серьезного вмешательства. В древнегреческом городе Зевгма на территории Турции были проведены лишь краткие и недостаточные по масштабу охранные раскопки, предпринятые в очень сложных условиях международными группами исследователей.
В начале 1970-х гг. появились Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (конвенция ЮНЕСКО 1970 г.), подписанная в Париже в 1970 г., и Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, также подписанная в Париже (конвенция ЮНЕСКО 1972 г.). Благодаря последней ровно сорок лет назад был создан Центр всемирного наследия, за время своего существования составивший список из почти 1000 археологических памятников по всему миру, которые, как считается, имеют глобальное значение для человечества. Некоторые из этих объектов, такие как Ангкор в Камбодже, были включены в отдельный список, а именно в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Недавно рассматривался вопрос о включении в этот список пещеры Ласко во Франции. В любом случае, включение в список не означает, что памятник получит финансовую помощь ЮНЕСКО, поскольку сама эта организация располагает ограниченными средствами. Идея списка в другом – побудить каждую заинтересованную страну более эффективно охранять включенные в него памятники. Следует также отметить, что все 1000 памятников в списке – это всемирно известные памятники с престижным статусом. Но если мы экстраполируем статистику, приведенную выше для Франции, вполне вероятно, что без преувеличения около 1000 археологических памятников в мире уничтожаются каждый день в результате строительных работ, и это разрушение не сопровождается никакими охранными раскопками.
Вот почему археологи не могут оставаться изолированными в своих «башнях из слоновой кости», но должны быть ответственными субъектами защиты археологического наследия не только в своих странах, но и на международном уровне. Они также должны взять на себя смелость бороться против манипулирования прошлым в интересах неблаговидных идеологий.
Не хотелось бы заканчивать на пессимистической ноте. В последние годы археологические исследования продолжают вносить существенный вклад в наше понимание прошлого Европы. Хотя археологическое наследие по определению не возобновляемо, охранная археология дала возможность сохранить многочисленные памятники, по крайней мере, посредством их документирования. Кроме того, методы и приемы, используемые в археологических исследованиях, постоянно развиваются. Например, применение технологий лазерного и лидарного сканирования ( Laserand Lidarprospection ) в ходе разведки позволяет обнаруживать памятники в горных и лесных районах. Физико-химический анализ дает все больше и больше информации о составе и циркуляции сырья. Анализ изотопов стронция позволяет выявить родственные связи. Палеогене-тические исследования не только проливают свет на семейные отношения, но и помогают понять передвижения отдельных людей или целых групп населения. Однако нужно быть осторожным, чтобы не повторить ошибок физической антропологии XIX в., которая приравняла понятие «народ» к «расе» в рамках так называемой «модели Коссины». Результаты генетических исследований материалов культуры колоколовидных кубков, опубликованные в этом году, ясно показывают, что корреляции между генетическим наследием и материальной культурой не существует.
Если мы хотим развиваться, очевидно, что перед лицом этих проблем европейские археологи должны сыграть фундаментальную и конкретную роль в будущем, в частности, посредством уточнения некоторых положений Мальтийской конвенции.
About the author
Demoule Jean-Paul, Institut Universitaire de France & Université de Paris I, UMR du CNRS 8215 Trajectoires, Institut d’Art et Archéologie, 3 rue Michelet, 75006 Paris; e-mail: jean-paul.demoule@ univ-paris1.fr
J.-P. Demoule
ARCHAEOLOGY FOR THE PRESENT AND THE FUTURE: A VIEW FROM FRANCE