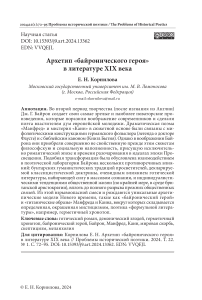Архетип «байронического героя» в литературе XIX века
Автор: Корнилова Е.Н.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
Во второй период творчества (после изгнания из Англии) Дж. Г. Байрон создает свои самые зрелые и наиболее новаторские произведения, которые поразили воображение современников и сделали поэта властителем дум европейской молодежи. Драматическая поэма «Манфред» и мистерия «Каин» в сюжетной основе были связаны с мифологическими конструкциями германского фольклора (легенда о докторе Фаусте) и с библейским каноном (Книга Бытия). Однако в воображении Байрона они приобрели совершенно не свойственную прежде этим сюжетам философскую и социальную наполненность, присущую исключительно романтической эпохе и времени разочарования в идеалах эпохи Просвещения. Подобная трансформация была обусловлена взаимодействием в поэтической лаборатории Байрона нескольких противоречивых влияний: бунтарских гуманистических традиций просветителей, декларируемой классицистической доктрины, очевидным влиянием готической литературы, набирающей силу в массовом сознании, и индивидуалистическими тенденциями общественной жизни (по крайней мере, в среде британской аристократии), вплоть до полного разрыва прежних общественных связей. Из этой взрывоопасной смеси и рождаются уникальные архетипические модели Нового времени, такие как «байронический герой» и «титанические образы» Манфреда и Каина, вокруг которых складывается определенная, окрашенная мистицизмом, поэтика «формульной литературы», например, герметичный хронотоп.
Готический роман, демонический злодей, герметичный хронотоп, байронический герой, байрон, манфред, каин, мировая скорбь, скептицизм, меланхолия
Короткий адрес: https://sciup.org/147243497
IDR: 147243497 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13362
Текст научной статьи Архетип «байронического героя» в литературе XIX века
С первых шагов на литературном поприще лорд Байрон сумел поразить читательское воображение бездной новых идей и мыслей, красотой картин и необычностью суждений, но главное, чем привлекали его сочинения, — необычный герой, поразительно похожий на автора. Надменный аристократ, получивший блистательное образование, наделенный внушительным умом и чувствительным сердцем, которое приходилось прятать под маской равнодушия и лицемерия, неожиданно порывает со своей средой и отправляется странствовать в неведомые края. Гарольд, исполненный скептицизма и презрения, разрушает героический канон привычной просветительской литературы и при этом самым неожиданным образом возбуждает симпатию и сочувствие читателей. Он будто бы незнакомец и одновременно до дрожи знакомый тип, персонаж новой романтической литературы и отпрыск готики. Наиболее проницательные критики продолжают находить в «байроническом герое» черты, присущие образам центральных действующих лиц готических романов, имевших широкую популярность в Британии, начиная с последних десятилетий XVIII в. Постепенно из юношеских творений («Паломничество Чайльд-Гарольда» и цикл «восточных поэм») складывается формульный канон «байронического героя», пребывающего в разладе со всем миропорядком, с действительностью, которая внушает скорбь, героя, тщетно пытающегося отыскать какую-либо цель, достойную его дремлющих духовных сил (см.: [Корнилова]). Этот канон, возникший из реального жизненного опыта эпохи, включающий в себя щемящее чувство одиночества, горькое разочарование в мире, пылкое отрицание светских ценностей, презрение к нормам общественной морали, отчуждение, вольнолюбие и независимость, бунтарство, скептицизм, мрачность, безбожие, губительные страсти, стремление к тайному знанию, наконец, демонизм, Байрон продолжает укреплять и развивать на совершенно умозрительном материале в своих зрелых творениях.
В истории мировой литературы было не так много писателей, которые сумели создать в индивидуальном творчестве архетипические модели, равные, по значению и частотности обращения к ним других художников, архетипам, сложившимся в недрах мифологии. Среди подобных творцов-визионеров можно назвать Сервантеса (Дон Кихот) и Шекспира (Гамлет), Дефо (Робинзон Крузо) и Свифта (Гулливер), Распе (Мюнхгаузен) и Байрона (Гарольд/байронический герой). Даже такие литературные гиганты как Тирсо де Молина (Дон Жуан) и Гете (Фауст) не входят в этот круг избранных художников, поскольку воплощенные ими модели были первоначально сформированы в фольклоре (или даже имели исторических прототипов).
С точки зрения современников и потомков Дж. Г. Байрон неслучайно стал олицетворением романтической эпохи. Он ярче других романтических поэтов сумел почувствовать и выразить тенденции и трагедии собственного поколения. Гарольд и Манфред стали символами эпохи, потому что в них выразилось время, потому что с помощью созданных воображением поэта достаточно условных персонажей эпоха осознала самое себя. Тоска Гарольда, щемящее чувство одиночества, упорно преследующая его мысль, что он в разладе со всем миропорядком, действительность, которая внушает скорбь, тщетность попыток отыскать какую-либо цель, достойную дремлющих духовных сил, — вот тот байронический комплекс, на котором зиждется «мировая скорбь», обуявшая Манфреда и Каина. Другой вопрос, что сходные чувства переживал и готический злодей — персонаж, отвергнувший мораль, полудемон, разрушитель и титанический узурпатор, исчадье ада, полумистический продукт массовой готической литературы.
Появление формульной литературы — процесс, свидетельствующий об утрате художественным словом сакральной ценности, о расширении элитарной литературой прежней читательской аудитории, вернее, о невероятном расширении этой аудитории (до обслуживания потребностей массового читателя) и желании авторов потрафить вкусам и запросам публики. Таких эпох в истории европоцентричной литературы было несколько, и с ними связано появление разнообразных жанровых вариаций, которые чаще всего по структуре наррации соотносимы с моделями фольклорной сказки (роман дороги). К «формульной литературе» можно отнести античный любовно-авантюрный роман, или, как его называли современники, «вторую софистику» — объект злой сатиры Петрония, а также поздний рыцарский роман, который пародировал М. де Сервантес, и, наконец, готический роман, вызвавший уже при самом своем возникновении массу карикатурных сочинений, например, «Аббатство кошмаров» Т. Пикока.
В своем творчестве Байрон, глубоко погруженный в традицию европейского гуманизма и классической словесности, под влиянием гениев Эсхила («Прометей прикованный»), Шекспира («Гамлет») и Мильтона («Потерянный рай») преображает модель готического злодея в тип «байронического героя» — разочарованного, отвергнутого миром носителя страдания и сомнения. Этот новый архетип стал важнейшей моделью героического характера в литературной практике писателей XIX — начала XX в.
Обзор литературы
Еще при жизни Байрона целый ряд современников, непосредственно реагировавших на выход новых сочинений поэта, отметил связь байронического героя с демоническим злодеем готики. Одним из первых был Френсис Джеффри, создатель и литературный критик «Эдинбургского обозрения», который видел в «мрачных, презрительных» героях Байрона «сатанинских персонажей» и находил в них связь с «падшим Ангелом»1. В том же духе пародировал сочинения лорда Байрона и приятель поэта Томас Лав Пикок в «Аббатстве кошмаров»2. Позднее специалисты по творчеству Байрона, несмотря на актуальность готических исследований (см.: [Revisiones Postmodernas]), сосредоточились на других проблемах, но зарубежные специалисты по готическому роману, П. Торслев, П. Кочрен, Е. МакЭндрю и другие, не прекращали указывать на использование го тических прие мов и образности в творчестве мятежного поэта3.
В России это родство отмечали В. М. Жирмунский, Н. А. Соловьева и Б. Р. Напцок4, однако исследования поэтических приемов при развитии подобного архетипа присутствовали фрагментарно.
В июне 1817 г. была напечатана драматическая поэма Байрона «Манфред», в которой отразился новый этап жизни автора и его швейцарские впечатления. Вместо средиземноморского зноя и слепящих отблесков морской глади читатель погружается в прозрачную прохладу высокогорья, во мрак и туман, окутывающие стены древнего замка, где обитает колдун, «грозный и могучий и чернокнижник», владыка духов граф Манфред5. В его образе жизни, внешности и характере преобладают черты героя готического романа — таинственное прошлое и несмываемые грехи:
«Аб б ат
Ты, говорят, предался
Греховным и таинственным наукам, Вступил в союз с сынами преисподней, С нечистой силой демонов и бесов, Блуждающих в долине сени смертной» (43).
В этой драматической поэме автор, как никогда прежде, погружает читателя в мир оккультных наук, магии и алхимии. Колорит отчуждения и таинственности, так живо напоминающий романы Мэтью Г. Льюиса и Чарльза Р. Метьюрина, прекрасно гармонизирован с помощью драматической формы6. В отличие от поэм в драме лирический герой отсутствует, и читатель не находит ни традиционных байроновских излияний, ни иронических комментариев. Он волен сам размышлять над условностью и фантастичностью изображенных в сценах собы тий.
На жестко регламентированной с точки зрения времени действия (неопределённо, нет привязки к истории) и количества персонажей воображаемой сцене появляется в таинственном освещении мрачной готической залы не монах, но аскет и отшельник, чернокнижник, повелитель духов. Герметичный хронотоп, находка готической литературы, и прежде использовался в «восточных поэмах» Байрона, но здесь доведен до совершенства. В этом замысле Байрон активно эксплуатирует готическую тему сверхъестественного, и прежде мелькавшего в полунамеках, например, в цикле восточных поэм («Лара»).
В своем стремлении к тайному знанию Манфред выходит за пределы человеческого, которое он презирает всей душой:
«…От самых юных лет
Ни в чем с людьми я сердцем не сходился
И не смотрел на землю их очами;
Их цели жизни я не разделял, Их жажды честолюбия не ведал, Мои печали, радости и страсти Им были непонятны. Я с презреньем Взирал на жалкий облик человека…» (27).
Вот она, квинтэссенция романтического индивидуализма и его порождения — «мировой скорби»! Байрон доводит тенденцию, навеянную готикой, до логического конца. Впечатление усугубляется еще и тем, что Байрон держит в уме титанический образ Эсхилова Прометея с его богоборческим пафосом, Прометея поверженного, но не сломленного, того самого, что в балладе Байрона «Прометей» (1816) «не слабел от страшных мук, / И стон, срывающийся вдруг, / Не дал им повода для смеха»7.
Презрение к человеческой природе вообще — немыслимый онтологический слом даже для демонического злодея готики! Тезка героя драматической поэмы Байрона в романе Г. Уолпола никогда не подвергает сомнению и отрицанию человеческий род в целом. В романе «Замок Отранто» князь Манфред — необузданный, жестокий феодал, обуреваемый неистовыми страстями гордыни, честолюбия, эгоцентризма, живое воплощ ение зла. Его предки узурпировали княжество
Отранто, и цель Манфреда сохранить титул и владения для наследников. Однако в самом начале романа единственный сын князя погибает странной смертью, придавленный гигантским рыцарским шлемом с черным плюмажем. Это происшествие вызывает ужас прислуги, но Манфред почти не проявляет эмоций, безмолвно взирая не столько на обезображенное тело сына, сколько на необычайный предмет. Это интерес естествоиспытателя к неординарному явлению, внутреннее убеждение в невозможности проявлений сверхъестественного, попытка понять, какие силы могли спровоцировать подобное происшествие. Средневековый злодей уж слишком напоминает скептика постпросветительской эпохи с его рассудочной аналитикой и холодной логикой. Он готов презирать традиционную мораль и нарушать ее запреты, но слом метафизических конструкций ему не по плечу.
И вновь повторим, что, несмотря на почти равнодушное отношение к погибшему сыну и оскорбительное пренебрежение к жене, кроткой Ипполите, Манфред в этом романе не является законченным злодеем. Уолпол несколько раз возвращается к этой мысли, приучая к ней читателя:
«Манфред не был одним из тех свирепых тиранов, которые черпают наслаждение в жестокости, предаваясь ей просто так, безо всякого повода. Обстоятельства его жизни привели к тому, что он очерствел, но от природы он был человечен; и добрые начала в его душе тотчас давали себя знать, когда страсти не затмевали его разума» 8 .
Зло подается Уолполом в руссоистской манере естественного проявления неистовства страстей.
Совсем иначе подан тот же мотив в балладе Байрона «Прометей» на античный сюжет («Беде и злу противоборство, / Когда, силен о дним собой, / Всем черным силам даст он бой»)9
и в драматической поэме «Манфред». Герой, достигший высшего могущества с помощью магии, в своих экспериментах порвал все человеческие связи, а теперь с ужасом понимает, что сам стал причиной довлеющего над ним страшного мистического проклятия, несущего горе близким к нему людям:
«…Я только тех губил,
Кем был любим, кого любил всем сердцем, Врагов я поражал, лишь защищаясь, Но гибельны мои объятья были» (25).
Изначально Манфред не злодей или погрязший в бездне порока алхимик (ср. Клода Фроло у В. Гюго), а человек, влекомый собственным интеллектом, способностью проникать в таинства природы, постигать ее законы и способы воздействия на нее и оттого порвавший с миром. Кстати, авторы готической прозы часто наделяли своих героев — от Франкенштейна М. Шелли до Дюпена Э. По или Шерлока Холмса А. К. Дойла — неординарными и не постижимыми для читателя талантами. Итог подводит Охотник за сернами:
«И с такою
Душой, высокой, нежной, быть злодеем, Кровавой местью тешиться? — Не верю!» (25).
Трагедия Манфреда заключается в его непреодолимом стремлении повелевать стихиями. Как Ватека в романе Бекфорда10 и Фауста в драме Гете, его влечет страсть к познанию кратчайших путей для достижения неземного могущества, и для этой цели он готов пренебречь всеми запретами и табу. Но, как было скептически подмечено еще в четвертой песни «Паломничества Чайльд-Гарольда», «ум, отравленный собственной красотою, становится пленником лжи. Того, что создано мечтою художника, нет нигде, кроме как в нем самом»11. На этом пути Манфред теряет Астарту (случайно губит, приносит в жертву, убивает равнодушием?), единственного родного человека в его жизни12. Как в готическом романе, зло, свершенное героем, покрыто завесой тайны, недосказанности. Он овладевает властью над духами и самим Ариманом, демоном зла в зороастризме. Но колдовские чары приносят лишь проклятие и боль:
«…скорбь — наставник мудрых;
Скорбь — знание, и тот, кто им богаче, Тот должен был в страданиях постигнуть, Что древо знания — не древо жизни» (10).
Вот он, романтический ответ провидческим претензиям Просвещения:
«О да, отец, и я лелеял грезы, И я мечтал на утре юных дней: Мечтал быть просветителем народов
…Все прошло, И все это был сон» (46).
Байрон наполняет глубоким философским содержанием известный европейский миф о неудачно прожитой жизни, о стремлении начать все сначала, об отчаянии, приводящем к сделке с чертом. Обычно в рассуждениях о байроновском «Манфреде» принято говорить о влиянии на создателя драматической поэмы гетевского «Фауста». Всем известен эпизод пребывания Льюиса на вилле Диодати, ставшей прибежищем Байрона на Женевском озере, прозаический пересказ ранней редакции «Фауста». И действительно, первая сцена в готической галерее в полночь, где Манфред произносит заклинания и велит духам явиться, как будто подтверждает версию прямого влияния. Но сам веймарский олимпиец безоговорочно при знает оригина льность творения английского поэта:
«Удивительное, живо меня тронувшее явление — трагедия Байрона "Манфред". Этот своеобразный талантливый поэт воспринял моего "Фауста" и, в состоянии ипохондрии, извлек из него особенную пищу. Он использовал мотивы моей трагедии, отвечающие его целям, своеобычно преобразив каждый из них; и именно поэтому я не могу достаточно надивиться его таланту» 13 .
Впрочем далее он замечает как убежденный просветитель и сторонник классицистической доктрины, что читатель в конце концов начинает «тяготиться мрачным пылом бесконечно глубокого разочарования. Однако наша досада всюду сочетается с восхищением и уважением»14 . В своей оценке Гете сходится с Френсисом Джеффри, писавшим в рецензии 1817 г. на драматическую поэму Байрона: «…в главном герое слишком много вины и слишком много уныния»15. И далее, с глубоким пониманием замысла мятежного лорда: «…он чувствовал, что нужно иметь дело только с сильнейшими страстями — взлетами смелой фантазии и ошибками высокого интеллекта, с гордостью, ужасами и муками сильных эмо-ций…»16. Неистовые страсти готики и «замкнутый», или, как любят выражаться английские критики, «герметичный» хронотоп, использующий скрытые от толпы места — подземелья, пещеры, таинственные дома или затерянные в пространстве и времени замки, тут как нельзя кстати.
Созданию замкнутого хронотопа, в котором с неизбежностью страдает и гибнет достигший высшего могущества чернокнижник, подчинена и вся композиция драматической поэмы. Сцена максимально сужена, практически до авансцены. Здесь появляются редкие герои, олицетворяющие собой символические варианты человеческой судьбы: охотник в окружении идиллической природы, олицетворением которой становится фея Альп, и монастырский аббат — воплощение человеческих с трахов и рабского служения ложным кумирам.
Поднимаясь на вершину Юнгфрау, Манфред презрительно порывает с человеческими страхами, покорностью, терпением и с презрением заявляет подвластным духам, что всего достиг лишь своим разумом и волей. Он существо иной породы — «хищных птиц», а не «вьючных скотов». В каждой из созданных в драматической поэме сцен Байрон ставит акцент на глубине разочарований, мучений, трагического непонимания, доводящих до безумия байронического бунтаря [MacAndrew: 81]. Стремление умереть и тем окончить круг земных страданий (гамлетовская тема) — это только его собственный выбор, и это отличает его от Фауста, который воззвал к силам преисподней, чтобы жить. Манфред взывает к погубленной им Астарте, чтобы умереть.
Этот призыв — пожалуй, самое пронзительное любовное признание в мировой литературе:
«Услышь меня, Астарта!
Услышь меня, любимая!..
Взгляни вокруг — мне бесы сострадают, Я вижу ад, но полон лишь тобою» (39).
Таков трагический финал романтического индивидуума, соединившего в себе стремление к сверхчеловеческому могуществу и байроническую страсть:
«…Могущество и страсти, Добро и зло — все, что волнует мир, — Все для меня навеки стало чуждым В тот адский миг. Мне даже страх неведом, И осужден до гроба я не знать
Ни трепета надежд или желаний, Ни радости, ни счастья, ни любви» (10).
Это отзвук речений мильтоновского Сатаны, падшего ангела, без участия которого вряд ли могла бы сложиться фигура готического злодея в начальных версиях готического романа.
Присущие прежде исключительно готическим злодеям мрак и скептицизм, охватившие общественное сознание европейцев после крушения Наполеона, воплощаются Байроном в титанические фигуры несломленных бунтарей Манфреда,
Люцифера и Каина. В предисловии к мистерии поэт сам сошлется на эпическую поэму своего предшественника, пережившего крах революции, в которую он верил, — на «Потерянный рай» великого Мильтона.
Обращение поэта к Книге Бытия и вовсе закономерно — для самого прославленного бунтаря романтической эпохи лорда Байрона явление Князя Тьмы собственной персоной стало логическим завершением интереса поэта к демоническому злодею готики и разрешением эволюции этого образа в его творческой лаборатории. В мистерии «Каин» сам библейский сюжет призывает автора вывести из глубин преисподней поверженного, но не сломленного бунтаря, в коем в сакральном повествовании выразились страдания и сомнения личности, вступившей в открытое столкновение с авторитетом, властью и могуществом.
Падший ангел, некогда светоносец, Люцифер не признает никаких авторитетов, он считает себя равным Богу и утверждает, что управляет миром наравне со Всевышним. Он отрицает, что является носителем зла, и обвиняет в этом сущность Творца:
«Люцифер
Так кто ж злой дух? Тот, кто лишил вас жизни, Иль тот, кто вам хотел дать жизнь, и радость, И знание?» (104).
Все речи Люцифера построены на антиномиях. Он остроумно опровергает и развенчивает традиционные нравственные постулаты и легко доказывает Каину, что Создатель скорее разрушитель («ведь он творит затем, чтоб разрушать» — 107) и к тому же «тиран» (102)17, опасающийся разума и знания, а также их инструмента — сомнения, поэтому церковь традиционно противопоставляет знанию «любовь», а на самом деле — слепую и бессмысленную веру (117). Любить Бога, по Люциферу, — значит не подвергать сомнению смешные сказочки, внушаемые Адамом и Евой, и слепо выполнять все ритуалы. В уста Люцифера Байрон смело вкладывает развенчание вымысла Евы о змие. Сама женщина — это соблазн, и ей для впадения в грех не нужны никакие змии.
Впрочем, дух, сеющий сомненья, готов говорить с людьми на их языке и достаточно демократичен, чтобы использовать близкие им понятия:
«Люцифер
Нет, Ада,
Змий вам не лгал: дало же древо знанья Познание.
Ада
На горе нам!
Люцифер
О да.
Но это горе — знание, и, значит,
Змий вам не лгал; он истиной прельстил вас, А истина, по существу, есть благо» (113).
Князю Тьмы в мистерии Байрона придана психологическая неоднозначность, присущая характеру демонического злодея в традиционном готическом романе. В интеллектуальном превосходстве Люцифер неотразим:
«Ада
Бессмертному, стоящему пред нами, Я не могу ответить, не могу
Проклясть его; я с сладостной боязнью
Любуюсь им — и не могу бежать:
В его глазах — таинственная прелесть, И я не в силах взора отвести
От этих глаз; в груди трепещет сердце, Мне страшно с ним, но он влечет меня, Влечет к себе все ближе… Каин! Каин! Спаси меня!» (116).
Так в английской литературе Нового времени (Мильтон, Бекфорд, Байрон) формируется особый, невероятно привлекательный образ Князя Тьмы — тираноборца, страдальца, скептика, защитника разума и знания. Столь неожиданно Байрон, получивший пуританское воспитание, трансформировал в своем воображении евангельский образ дьявола, искушавшего Христа в пустыне: «И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее…» (Лк. 4:5–6). В Евангелии присутствует и тема полета, правда, со стены иерусалимского храма (Лк. 4:9–10). Тем не менее древняя архетипическая модель злого демона, используемая в христианстве, переосмысливается Байроном под влиянием готики; именно она получит распространение в литературе XIX–XX вв. Более того, создатель «Каина» соединяет христианский миф о мироздании с мифом германским. Люцифер демонстрирует Каину множество миров, «миры громадней, / Чем мир земной», «созданья выше, / Чем человек» (125), наконец, мир «привидений, / Существ еще не живших и отживших» (132). Увы, теория Кювье, на которую ссылается Байрон в «Предисловии» к мистерии, не объемлет созданной картины, вызывающей ассоциации с Элизиумом Вергилия и с более древней германской доктриной космических циклов и мифом о повторяющихся сотворениях и разрушениях мироздания (см.: [Элиаде: 23]). Более того, Люцифер заронил в душу Каина странные откровения о творении и Творце:
«А жизнь древней, чем ты, чем я, и даже Древней того, что выше нас с тобою» (131).
Эта мысль не будет иметь продолжения, но и сказанного достаточно. И еще: Дух сомнения несчастлив, как и его первый ученик (100–101), но это уже скорее примета времени слома эпох, породившего все философские и поэтические глубины, нашедшие место в текстах Байрона.
Герой мистерии, чье имя вынесено в название пьесы, Каин дерзок и строптив, а также необычайно активен, сметлив и последователен в далеко идущих выводах:
«…я томлюсь
В трудах и думах; чувствую, что в мире Ничтожен я, меж тем как мысль моя Сильна, как бог!..» (102–103).
Он постоянно задает «неудобные» вопросы и в этом целиком выпадает из представления о богобоязненном и измученном борьбой за выживание человеке архаических времен. Его полемика с близкими в первом акте мистерии напоминает скепсис позднепросветительской эпохи. Этот байронический герой вовсе не похож на до смерти перепуганного стычкой с братом бедолагу библейского оригинала. Каин постпросветительской эпохи хочет заглянуть за границу доступного человеку мира, понять, что такое смерть и есть ли существование после смерти? Он сам невольно призывает Люцифера, ведущего его в недоступные для смертных вселенные внеземного пространства и давно прошедшего времени. Герои Байрона совершают фантастический вояж в глубины космоса, где можно увидеть в настоящем то, что исчезло тысячелетия назад. Поразительная по своей проницательности модель! Пожалуй, еще только Мильтон в «Потерянном рае», описывая, что видит Люцифер, стремящийся проникнуть в Эдемский сад, способен на подобные картины: из темного пустынного космического пространства враг человеческий видит землю как мерцающую вдали голубоватым светом точку, напоминающую светлячка. Для Каина этот полет — рывок к свободе, потому что летать и видеть другие миры могут только боги. Теперь он может вообразить себя равным богу.
В развитии сюжета странствие по загробному миру необходимо Люциферу, чтобы доказать человеку, что Всевышний не есть воплощение разума, добра и справедливости («Всесилен, так и благ?» — 98), что его прежние творения были погублены Им же самим и навсегда забыты. При всех очевидных аллюзиях на великие творения Эсхила, Мильтона и Кювье, а также на тексы Евангелия, модель, выстроенная здесь Байроном, категорически не совпадает с мифом, которого придерживается официальное христианство. Затронутая Каином проблема теодицеи остается для богословия неразрешимой. Однако утверждение Р. Саути о том, что Байрон является «главой сатанинской школы», приведшее к болезненному конфликту между поэтами, было явным преувеличением, раздраженной репликой, продиктованной прежде всего личной обидой поэта- лауреата. Для вдохновения Байрона-поэта, который, к слову, был до конца дней последовательным кальвинистом [Дьяконова: 15–16], важнейшим является не полемика с христианским богословием, а готическая традиция изображения Властителя Тьмы в его собственной среде, в Царстве мрака, где он полноправный владыка и куда уготован путь братоубийце Каину. Во время странствия по запредельному миру Каин еще безгрешен, но Люцифер уже знает, что предначертано этой душе:
«Ты все же мой: непоклоненье богу Есть поклоненье мне» (110).
Смелость и дерзость Каина приведут его к последнему акту мистерии — трагической истории братоубийства. Итог печален. Каин оказался игрушкой в руках «обиженного» на него Бога и мстящего Всевышнему Сатаны. Убийство брата мотивировано в мистерии Байрона со святотатственной точностью, по которой каждый разумный читатель определит, выражаясь языком современной криминалистики, «заказчика» убийства. В письмах поэта можно обнаружить очень горькую, хотя и несколько наивно сформулированную, с позиций нашего времени, мысль: «…Каин, вернувшись, убивает Авеля, частью из недовольства политической обстановкой в раю (букв. — “the politics of Paradise”), <…> частью потому <…>, что жертва Авеля оказалась более угодной богу»18. Ненавидевший смерть первым ввел ее в человеческий мир. Бог покарал бунт против Себя пролитием братской крови, проклятием и изгнанничеством дерзнувшего. Результат бунта Разума и попытки восстать против учрежденного Богом (Вечным Законом) порядка — кровь жертв революции, проклятие осмелившемуся, ужас осуществленной утопии в стране Нод, на Восток от Эдема.
Мистерия «Каин» произвела в Европе эффект разорвавшейся бомбы. Все спорили о титанизме, бунтарстве, антихристианском пафосе. Более глубокие читатели отметили просвети тельский раци онализм и скептицизм в облике байроновского
Каина. Практически никто не обратил внимания на «готический след» в библейской мистерии. Но сегодня, когда споры утихли, Байрон, создатель «Каина» — непререкаемый классик, становятся очевидны составляющие элементы поэтики и роль готических компонентов в поэтическом багаже великого английского романтика.
Архетип «байронический герой»
Уникальные открытия Байрона, его эмоциональная заразительность, сформировавшиеся в скрещении лучей самых разнонаправленных явлений в европейской литературе, не могли не поразить воображение современников — и тех, кто создавал самые высокие образцы поэзии, и тех, кто трудился на ниве массовой литературы. Этому способствовала и мифологизация образа самого поэта, мистификации вокруг его личности и необычная трагическая судьба. Аристократ самых голубых кровей навсегда покидает родину, порывает связи с собственной средой, умирает в борьбе за свободу греческого народа.
Широкое использование Байроном готических мотивов и средств поэтики сделало готику источником сюжетных ходов у многих английских писателей самого высокого ранга: «Кристабель» С. Т. Кольриджа, «Ченчи» П. Б. Шелли, «Канун св. Агнессы», «Изабелла, или Горшок с базиликом» Дж. Китса.
Мифологизация «байронического героя» начала складываться со времени прочтения публикой и критикой первых стихов «Паломничества…» и отождествления автора и героя [Корнилова: 93–99]. Этому способствовали письма, дневники, шутки Байрона, его намеки на преодоление запретов, выход за пределы всех норм морали, нарушение всяческих табу. «Байронический» аристократ, пораженный гордыней герой-любовник появляется в 1813 г. в романе «Гордость и предубеждение» (мистер Дарси) Дж. Остин, а также в романах А. Радклиф (см.: [Максимов]).
Особую роль в мифологизации фигуры мятежного лорда сыграл роман-месть оставленной возлюбленной поэта леди
Кэролайн Лэмб «Гленарвон», где герой показан как вампир19, впоследствии попавший на корабль мертвецов (мифологема «Летучий голландец»). Позднее идеей воспользовался Ф. Марриет в романе «Корабль-призрак». Самому Байрону идея леди Кэролайн очень польстила, и после знаменитого спора на берегу Боденского озера он работает над романом о вампире, который был опубликован позднее под псевдонимом Гордон Г. «Фрагмент романа» (Август Дарвелл). Идея привлекает и врача Байрона Дж. Полидори, написавшего первую в коллекции новеллу «Вампир» (1819). Так что роман Брэма Стокера «Дракула» (1897) имел множество предшественников, включая «Кармиллу» (1872) Шеридана ле Фаню и «Замок в Карпатах» (1892) Жюля Верна.
Тема вампиризма не была изобретена английской готикой, а имела в основании опыт столкновений людей с кровососущими насекомыми и животными. В мифологии ряда народов существовали представления о магических существах, питавшихся человеческой кровью: шумерские акшары, армянские даханавары, индийские веталы, китайские цзяньши, римские ламии и проч. Обыкновенно их смертоносный укус был причиной гибели женщин или детей. Дж. Полидори как врач не мог не знать этих преданий и, вдохновленный задумкой Байрона, в 1819 г. в новелле «Вампир» воплотил идею повести о мертвеце, пьющем человеческую кровь. Интересно, что портрет героя был написан с Байрона: бледный красавец-аристократ с изысканными манерами, кроваво-красным ртом и завораживающим взглядом. Усилия леди Кэролайн не пропали даром. Неудивительно, что «поцелуем вампира» на бытовом уровне стали объяснять распространение эпидемии чахотки — смертельной болезни, от которой умирали тысячи людей в Европе и в обеих Америках. Уже почти на рубеже ХХ в. в США был зафиксирован случай, когда жители поселения обвинили умершую девочку-подростка Мерси Браун в вампиризме, эксгумировали ее труп и совершили над ним ритуальные действия [Bell: 17]. Очевидно, что древнейший мифологический архетип напрямую связывался с поэтом и приобрел его личностные черты.
В Англии тип «байронического героя» (особенно после драматических поэм «Манфред» и «Каин») по преимуществу ассоциировался с демоническим злодеем, измученная душа которого страдала сатанизмом и оккультизмом. Стирфорт в «Дэвиде Копперфильде» Ч. Диккенса, мистер Рочестер в «Джейн Эйр» у Шарлотты Бронте и Хитклифф у ее сестры Эмили Бронте в «Грозовом перевале», герои О. Уайльда («Портрет Дориана Грея»), Р. Л. Стивенсона в «Странной истории доктора Джекилла и мистера Хайда», Дж. Роулинг в «Гарри Поттере» (особенно, как считают исследователи ее творчества, — Лорд Волан-де-Морт, василиск, паук Арагог, инфери) являются отголосками демонических героев Байрона. Была даже высказана мысль, что и сам Гарри Поттер отображает аспекты байронического героя своей эмоциональностью и опрометчивостью.
Несомненно, характеры героев французских романов «Граф Монте-Кристо» А. Дюма, «Жан Сбогар» Ш. Нодье, «Адольф» Б. Констана, Октава де Т. в «Исповеди сына века» А. де Мюссе имели аллюзии на «байронических злодеев». И, конечно, «неистовые» герои О. де Бальзака (Вотрен, да и Эжен де Растиньяк) были продолжением той же традиции.
Николаус Ленау в поэмах «Фауст» (1836) и «Савонарола» (1837) — в Австрии и драматург Кристиан Дитрих Граббе (1801–1836) — в Германии находились под обаянием байронических героев, хотя их сочинения и не стали столь популярны. В Испании в творчестве Хосе де Эспронседы «Саламанский студент» и «Мир-дьявол» (“El estudiante de Salamanca”, 1837, “El diablo mundo”, 1841) присутствует полемика с персонажами позднего Байрона. Как и в романтической литературе США — персонажи Э. А. По («Аннабель Ли», 1849, «Сердце-обличитель», 1843) и одержимый мономанией капитан Ахав в романе Г. Мелвилла «Моби Дик» (1851) напоминают байронических титанов.
В России «Чайльд-Гарольд» и «восточные поэмы» имели множество поклонников и подражателей. Байрон становится властителем дум поэтов русского романтизма, и это увлечение отразились на замысле «Цыган» А. С. Пушкина (Алеко), в поэмах «Демон» и «Мцыри» М. Ю. Лермонтова, а также в его драме «Маскарад» (Арбенин). Однако более глубокий след архетип «байронический герой» в его перекличке с готическим злодеем оказал на чисто русское литературное явление — тип «лишнего человека», появление которого традиционно принято связывать с именем И. С. Тургенева («Дневник лишнего человека», 1850). Онегин А. С. Пушкина, Печорин М. Ю. Лермонтова, Бельтов А. И. Герцена, Рудин И. С. Тургенева, Лаевский А. П. Чехова — это одна сторона медали. Другой является Ставрогин из романа Ф. М. Достоевского «Бесы» — вот уж воистину готический злодей под маской байронического скептика!
Заключение
Джордж Гордон Байрон оказался уникальным поэтом эпохи романтизма, то есть поэтом Нового времени, которому удалось создать не просто запоминающиеся образы высокой поэтической силы и значимости, но и архетипические модели, определившие движение времени. Архетипы — порождения мифологического архаического сознания, или, точнее, коллективного бессознательного, и только величайшим художникам прошлого, таким как Сервантес или Шекспир, удавалось достигнуть визионерских прозрений, создав архетипы Дон Кихота или Гамлета.
В своем творчестве Байрон достовернее и последовательнее всех изобразил героя только формирующейся буржуазной эпохи, трагедию индивида, находящегося в конфликте с миром, его окружающим, с социальной системой, с общественной средой, его породившей. Бунтарь, противопоставивший себя нравственным законам и формам общежития коллектива, должен был быть либо титаном, либо демоном. Так и случилось в позднем творчестве Байрона, в его драматической поэме «Манфред» и в мистерии «Каин». Эти произведения, наряду с ранними («Паломничество Чайльд-Гарольда»
и цикл «восточных поэм»), оказали такое влияние на современников и потомков, что в Европе на протяжении двух последующих веков не было значительных поэтов, так или иначе не вступавших в диалог или в полемику с Байроном. Он оказался, наряду с Э. Т. Гофманом и В. Скоттом, властителем дум целого ряда поколений молодых европейских писателей. Архетип «байронический герой» прочно вошел не только в высокую литературу, но и в массовую культуру, что является очевидным показателем жизнеспособности и востребованности данной модели героического характера.
205 p. (In English)
Список литературы Архетип «байронического героя» в литературе XIX века
- Дьяконова Н. Я. Байрон: опыт психологического портрета // Великий романтик: Байрон и мировая литература: сб. ст. М.: Наука, 1991. С. 10–22.
- Жирмунский В. М. Английский предромантизм // Жирмунский В. М. Из истории западноевропейских литератур. Л.: Наука, 1981. С. 149–174.
- Корнилова Е. Н. Готический злодей и байронический герой // Проблемы исторической поэтики. 2022. Т. 20. № 4. С. 90–111 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1669627633.pdf (04.10.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2022.11662. EDN: VGSYBS
- Максимов Б. А. Переосмысление просветительской концепции «ужасного» в романах А. Радклиф // Вестник Томского гос. ун-та. Филология. 2022. № 76. С. 306–328 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49233852_90092751.pdf (04.10.2023). DOI: 10.17223/19986645/76/14. EDN: ATHVFU
- Напцок Б. Р. Английский «готический» роман: к вопросу об истории и поэтике жанра // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 2: Филология и искусствоведение. 2008. № 10. С. 139–144 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_11991024_37167489.pdf (04.10.2023). EDN: JCEDVB
- Соловьева Н. А. Английский предромантизм: дис. … д-ра филол. наук. М., 1983. 385 с.
- Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М.: Академический проект, 2021. 254 с.
- Bell M. E. Food for the Dead: On the Trail of New England’s Vampires. New York: Carroll and Graf Publ., 2001. 332 p.
- [Cochran P.] The Gothic Byron / ed. by P. Cochran. Сambridge: Сambridge Scholars Publishing, 2009. 205 p.
- MacAndrew E. The Gothic Tradition in Fiction. New York: Columbia University Press, 1979. 289 p.
- Revisiones Postmodernas del Gótico en la Literatura y las Artes Visuales / ed. José María Mesa Villar, Ana González-Rivas Fernández, Antonio José Miralles Pérez. Salamanka: Universidad de Salamanca, 2022. 218 p.
- Thorslev P. L. The Byronic Hero: Types and Prototypes. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1962. 228 p.