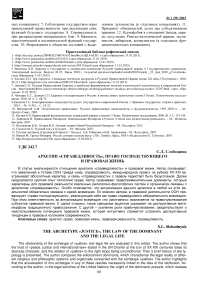Архетип "справедливость", право господствующего и правовая жизнь
Автор: Слободнюк С.Л.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются отношения архетипа «справедливость» и правовой жизни. Автор показывает, что заявленная в Уставе ООН триада «мир, справедливость, международное право» на рубеже XX-XXI вв. утрачивает абсолютный характер, и связь «справедливости» с правом перестает быть безусловной. Далее предлагается краткий опыт типологии права. Автор сравнивает правоприменительные доминанты, которые характерны для правовой реальности различных религиозно-философских систем и органически связаны с архетипом «справедливость». Особо отмечается, что актуализация данного архетипа в любой из этих реальностей обязательно связана с идеей возмездия. По мнению автора, в правовой деятельности ООН превалирует «право господствующего», реализующее себя как право справедливого избирательного возмездия. При этом ответственность за актуализацию возмездия «по умолчанию» возлагается на правочувствование субъектов правовой жизни. С одной стороны, такое смещение акцентов указывает на деструктивные метаморфозы традиционного правосознания. С другой - усиление роли правочувствования, свидетельствует о неиспользованном потенциале правовой жизни, которая интуитивно стремится устранить деструктивные тенденции в правовых коллизиях современности.
Архетип, право, правовая жизнь, правовая реальность, справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/142232591
IDR: 142232591
Текст научной статьи Архетип "справедливость", право господствующего и правовая жизнь
S.L. Slobodnyuk
THE ARCHETYPE «JUSTICE», THE LAW OF THE DOMINANT
AND THE LEGAL LIFE
The relationship of the archetype of «justice» and legal life are analysed in this article. The author shows that the triad of «peace, justice and international law» stated in the UN Charter at the turn of XX-XXI centuries loses its absolute character, and the relation of «justice» to the right stops being unconditional. Then a brief history of law typology is presented. The author compares the enforcement dominants, which characterise the legal reality of different religious and philosophic systems and organically connected with the archetype «justice» The author highlights that the actualisation of this archetype in any of these realities necessarily linked to the idea of the retribution. According to the author, in the legal activities of the United Nations the «right of the dominant» prevails, which realises 60
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика

Современную правовую жизнь вряд ли можно назвать образцом стабильности. Усиление противоречий между геополитическими идеалами сверхдержав и желание отдельных участников процесса отменить объективные законы развития негативно влияют на все области общественного бытия, расшатывая относительно устойчивые структуры, сформировавшиеся за последние полвека. Для подтверждения этой мысли обратимся к документам ООН. Согласно принятому в 1945 г. Уставу, эта организация изначально была полна решимости «избавить грядущие поколения от бедствий войны <…> и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, <…> в равенство прав больших и малых наций, и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе» [1]. Поскольку первой целью своей деятельности Организация назвала поддержание международного мира и безопасности, улаживание «международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира» «мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права», «все Члены Организации Объединенных Наций» приняли обязательство разрешать «свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость» [2, ст. 1.1; 2.3].
Нетрудно заметить, что в преамбуле «справедливость» выступает в единой связке с источниками международного права; в первой статье уже сама становится источником неких принципов, коррелирующих с международным правом; а во второй – справедливостью как таковой. Можно ли считать это проявлением некой тенденции? Вряд ли. И все же Устав ООН дает определенную пищу для размышлений; особенно если соотнести приведенные выше положения с реалиями XXI столетия.
Итак, согласно Уставу, мир, справедливость и международное право находятся в единой связке. Однако в известных резолюциях Совета безопасности по Ираку и бывшей Югославии эта триада куда-то исчезает. Исключением является разве что резолюция 2009 по Ливии, где Совет безопасности «приветствует заявления Национального переходного совета, призывающие к единству, национальному 61
примирению и справедливости, а также его призыв к ливийцам всех вероисповеданий и слоев общества воздерживаться от актов мести» [3, с. 3].
В выступлениях политических лидеров вопрос о справедливости тоже имеет довольно любопытную интерпретацию. Так, Николя Саркози склонен к конкретике. Он предлагает «судить о мире с точки зрения справедливости», поясняя: «Справедливость в том, чтобы палестинцы могли воссоздать свою страну и построить свое государство. Справедливость в том, чтобы израильский народ имел право жить в безопасности. <…> Справедливость в том, чтобы иракский народ <…> нашел изнутри путь к примирению и путь к демократии» [4, с. 27–28] etc.
Махмуд Ахмадинежад, напротив, предпочитает оперировать предельными категориями – справедливость «лежит в основе создания человечества и всей вселенной. Справедливость равнозначна общему упорядочению всех явлений и предоставлению людям возможностей реализовать все свои богоданные способности. Без нее вселенский порядок рухнет и исчезнет возможность для самосовершенствования. <…> Справедливость является несущим столпом общественной жизни, и в ее отсутствие общественная жизнь не сможет продолжать развиваться» [5, с. 11].
Как видим, заданная Уставом связь справедливости с правом в приведенных высказываниях отсутствует. Тем любопытнее проявление этой связи в выступлении нобелевского лауреата Оскара Ариаса Санчеса. Напомнив, что в преамбуле Устава «государства, входящие в состав этой Организации, обязуются создать условия, при которых может соблюдаться справедливость», Ариас Санчес переходит к условиям соблюдения, подчеркивая, что, «может быть, самое важное из этих условий» есть воля: «воля требовать соблюдения наших обязательств; воля заявлять о нарушениях международного права; и, самое главное, воля добиваться того, чтобы акты, являющиеся оскорблением для всего человечества, не оставались незамеченными» – «наше недавнее прошлое отмечено ужасными, остающимися безнаказанными преступлениями, которые взывают не к мщению, а к справедливости» [6, с. 50].
Нетрудно заметить, что в использованных примерах справедливость выступает в самых разных ипостасях, связь которых с правом не всегда очевидна. Однако при переносе рассуждения в сферу, где происходит взаимодействие правовой реальности и правовой жизни, картина меняется. Чтобы подтвердить правомерность этого утверждения, мы

предлагаем проделать опыт типологии права, источником которого являются определенные религиозные и религиозно-философские системы. В этом случае мы можем говорить, что монотеистические религии порождают право господствующего, или право справедливого избирательного возмездия. Пантеизм суфиев, Лейбница и софианства дает жизнь праву сущего, или праву проявляющейся справедливости. А жизнеотрицающие системы (ис-маилизм, эригенизм и др.) неразрывно связаны с правом «становящихся» разумов, или правом восстанавливаемой справедливости [7, с. 137-170]. И особое значение здесь имеет родство правоприменительных доминант, неразрывно связанных с архетипом справедливости, который, свободно актуализируясь в любой возможной реальности, так или иначе связан с идеей возмездия.
Перенося рассуждение в определенный ранее контекст, мы можем уверенно говорить о том, что в правовой деятельности ООН, скорее всего, доминирует первый тип права, представляющего собой возведенную в закон волю господствующего, чью роль принимает на себя совокупная воля господствующих государств. Следовательно, справедливость должна быть необходимым образом связана с избирательным возмездием, но это противоречит Уставу ООН, хотя и воплощается в жизнь под эгидой резолюций Совета безопасности. Явное, на первый взгляд, противоречие, на деле таковым не является. Это становится очевидным, если принять мысль о том, что правовая реальность находится в отношениях взаимодополнительно-сти с правовой жизнью. Первая актуализирует себя в
правовой действительности и необходимым образом связана с правосознанием. Вторая стремится к непрерывному становлению, многообразию проявлений и синтезу правосознания и правочуствования, которое зачастую оказывается наиболее адекватным инструментом познания общественного бытия. С учетом последнего обстоятельства мы получаем возможность подвести рассуждение к финалу.
Итак, анализ мировых событий показывает, что многообразие целей непрекращающейся борьбы против тоталитаризма, диктатуры и прочих форм государственного единовластия (особенно в последние 25 лет) легко укладывается в два императива: 1) установим справедливость; 2) восстановим справедливость. Первый императив очевидно связан с правом господствующего, в то время как второй может быть соотнесен и с правом сущего, и с правом «становящихся разумов». Но во всех случаях обязательным следствием восстановления/установления выступает возмездие тем, кто справедливость попирал. При этом обязанность актуализировать необходимость возмездия «по умолчанию» возлагается на правочувствование субъектов правовой жизни.
С одной стороны, подобное смещение акцентов вызывает тревогу, поскольку свидетельствует о метаморфозах традиционного правосознания. С другой стороны, усиление роли правочувствования заставляет задуматься об использовании потенциала правовой жизни, интуитивно стремящейся нейтрализовать деструктивный элемент в правовых коллизиях современности.
Список литературы Архетип "справедливость", право господствующего и правовая жизнь
- Устав Организации объединенных наций. Преамбула. www.un.org/ru/documents/charter/preamble.shtml> (дата обращения: 1.10.2014).
- Устав Организации объединенных наций. Глава I: Цели и принципы. www.un.org/ru/documents/charter/chapter1.shtml> (дата обращения: 1.10.2014).
- ООН. Совет безопасности: S/Res/2009 (2011). - Нью-Йорк: ООН, 2011. www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/ 2009(2011)> (дата обращения: 1.10.2014).
- ООН. Генеральная ассамблея. Сессия (62; 2007-2008; Нью-Йорк). Официальные отчеты: A/62/PV.4. - Нью-Йорк: ООН, 2007. www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/62/PV.4> (дата обращения: 1.10.2014).
- ООН. Генеральная ассамблея. Сессия (63; 2008-2009; Нью-Йорк). Официальные отчеты: A/63/PV.6. - Нью-Йорк: ООН, 2008. www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/63/PV.6> (дата обращения: 1.10.2014).
- ООН. Генеральная ассамблея. Сессия (63; 2008-2009; Нью-Йорк). Официальные отчеты: A/63/PV.8. - Нью- Йорк: ООН, 2008. www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/63/PV.8> (дата обращения: 1.10.2014).
- Слободнюк С. Л. Ориентальная духовность и европейская утопия: философия-право-литература. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2013.
- EDN: SONTOV