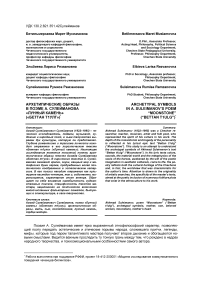Архетипические образы в поэме А. Сулейманова "Лунный камень" ("Беттан т1улг")
Автор: Бетильмерзаева Марет Мусламовна, Эльбиева Лариса Резвановна, Сулейманова Румиса Рамзановна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2020 года.
Бесплатный доступ
Ахмад Сулейманович Сулейманов (1922-1995) - чеченский исследователь, педагог, музыкант, художник и народный поэт, в чьем творчестве выражен дух культуры, которую он представлял. Глубина романтизма и трагизма личности находит отражение в его лироэпическом тексте «Беттан т1улг» («Лунный камень»). Настоящее исследование является попыткой понять архетипические образы текста Ахмада Сулейманова «Беттан т1улг». В лирических текстах А. Сулейманова оживают краски, звуки, вещный мир и метафизика души героев, пробужденных волей поэтического воображения в эстетическом катарсисе. В его поэзии находит отражение как культурное наследие чеченцев, так и, собственно, мировоззрение, характерное эпохе автора. Обращает на себя внимание самобытность художественных поисков, специфичность текстов мастера, нацеленного на поэтическое включение многочисленных фольклорных сюжетов, бытующих в этнокультуре, в свое творчество.
Ахмад сулейманович сулейманов, поэма "лунный камень" ("беттан т1улг"), архетипические образы, мать, сын, возлюбленная, лунный камень, сердце матери
Короткий адрес: https://sciup.org/149134877
IDR: 149134877 | УДК: 130.2:821.351.42Сулеймано6 | DOI: 10.24158/fik.2020.9.6
Текст научной статьи Архетипические образы в поэме А. Сулейманова "Лунный камень" ("Беттан т1улг")
Поэзия А. Сулейманова имеет ярко выраженный этнофилософский характер, позволяющий поэту передать эстетические и этические порывы народа, сложившего притчи, легенды, мифы, которые под пером талантливого мастера получают второе дыхание и обогащаются новыми смыслами. Видится важным проследить ту тонкую грань между тем, что рождено в недрах народного творчества, и психоэмоциональными особенностями самого автора.
Целью статьи является целостное и системное рассмотрение структуры поэмы «Беттан т1улг» («Лунный камень») [1] как текста, который, будучи реминисценцией известной в различных этнокультурах легенды, несет в себе сакральные смыслы, отражающие в архетипике своих образов ментальные особенности, характерные для народа.
Для достижения этой цели авторы предполагают:
-
• выявить особенности архетипических образов поэмы в культурном контексте;
-
• раскрыть их содержательную сущность.
Понятие «архетип», введенное К.Г. Юнгом в 1919 г., определяется как «то бессознательное содержание, которое изменяется, становясь осознанным и воспринятым; оно претерпевает изменения под влиянием того индивидуального сознания, на поверхности которого оно возникает» [2, с. 97]. Архетип генетически присущ как отдельному человеку, так и всем людям в целом. Носителем архетипа выступает индивидуальное или коллективное бессознательное, обнаруживаемое в комплексе действий человека или коллектива при анализе его психокультурного поведения. Архетип служит основой для формирования ментальности, которая есть феноуменальная характеристика единства психического и физического в человеке, причинно обусловливающая информационное взаимодействие человека и мира [3, с. 172]. Трансформация архетипа в образ происходит через мифотворчество.
Слово «образ» в словаре М. Фасмера выводится от «об-» и «раз», связанного чередованием с «резати» [4, с. 106], то есть нечто обрезанное, вырезанное, нечто равное одному «разу», который, как удар, дает один отпечаток чего-то в чем-то. В том же словаре М. Фасмера слово «раз» имеет много подгоняемых друг к другу смыслов: в сербохорватском языке «лопатка для отмеривания зерна», «отвал плуга», в чешском - «удар, отпечаток, чеканка, тип, характер» и т. д. [5, с. 432]. И в этом смысле образ выступает как единица опыта познания и реализуется в вещи, символе, или идее. Во взаимосвязи образа и вещи - идеального и материального - каждый раз образ есть субъективное выражение реально существующей вещи, и в одной и той же вещи можно вскрыть различные образы, обусловленные мировоззренческими позициями субъекта.
Особую роль играет образ в искусстве, для которого художественная образность является основной формой отражения и познания действительности. Художественный образ - это не копия жизни, как считал Платон, а какая-то другая форма жизни, которая, с одной стороны, связана с реальностью, а, с другой, не совпадает с обычной жизнью.
В поэме «Беттан т1улг» («Лунный камень») много образов, несущих в себе глубокие смыслы: образ любимой, но коварной возлюбленной, любящего молодого человека, любящей матери, лунного камня, сердца матери, в которых очерчены архетипические силуэты коллективного сознания как уникального проявления традиционной народной культуры.
Вначале обратимся к образу, вынесенному в название поэмы. Исследуя феномен «лунного камня», мы не обнаружили в чеченском фольклоре идентичного образа, хотя сам образ луны весьма распространен и актуален как для народного, так и авторского творчества. Вспомним известную в 60-е годы прошлого века песню «Лунный камень»: «Отыщи мне лунный камень, сто преград преодолев...» [6].
В фольклоре некоторых народов существует поверье о том, насколько важно для молодого человека подарить своей избраннице лунный камень. Возможно, образ лунного камня навеян поэту песней «Лунный камень» и обыгран для усиления экспрессии требовательности возлюбленной и жертвенности любящего:
«Зумсойн махкахь боьжна боху, Чохь шен сурт гуш Беттан т1улг, Сан г1ург1езан к1айчу логах и Беттан т1улг товр ма бу...».
«Говорят, что с неба упал в краю Зумсо * лунный камень, На белой лебединой шее моей он был бы очень кстати» ** .
Сюжет поэмы «Беттан т1улг» имеет кумулятивный характер фиксации событий, которые выстраиваются по оси времени как хроника. Поэт наращивает одно за другим события, которые в своей концентрации готовят нас к чему-то большему. Образы, ассоциирующиеся с луной, имеют далеко не случайный характер:
-
• «седа, беттан ах» («звезда, осколок луны»)
«Гуьржийн махкахь ша-ламанаьхь Седа боьжна сийсара...
Дерриг адам, и хазбелла, Боху, цуьнга хьуьйсура...
Новкъавала! Ломахь лахий, Схьаба седа, беттан ах!»;
«В грузинских горах прошлой ночью, говорят, звезда упала, И людей она своей красотой очаровала.
В путь отправься в горный край и доставь мне часть луны»;
-
• «беттан басахь» («цвета луны»)
«Бацойн махкахь гучудевлла Беттан басахь цхьогаллаш...»;
«В краю бацой * появились лисы цвета луны»;
-
• «дашо ц1ока» («золотая шкура» // «лунного цвета шкура»)
«Ц1аьн хьунхара экха дууш, Цхьа буьрса ц1окъ даьлла бах...
Цунна т1ера дашо ц1ока Схьаял, д1алой боьхху мах!»;
«В красном лесу, поедая всех зверей, объявился грозный барс.
Золотую шкуру с него любой ценой добудь мне в дар».
Образ лунного камня, проходящий через всю поэму, имеет глубокий сакральный смысл, который интуитивно или осознанно используется А. Сулеймановым. В представлениях разных народов луна понималась как символ женского начала. В античной традиции луна «воплощалась» в трех богинях:
-
• Артемида (Диана) - богиня дневной, светлой луны;
-
• Селена - богиня лунного света;
-
• Геката - богиня черной луны, владычица призраков и покровительница колдовства.
Прозвище Гекаты - Трехликая - традиционно соотносится с тремя фазами луны: новолуние, полнолуние, ущерб, - равно как и с тремя фазами женской физиологии и тремя стадиями женского возраста: юность, зрелость, старость [7, с. 28]. Луна - это символ изменчивости и женского начала. Также луна - это небесное тело, которое мы наблюдаем только с одной стороны, и потому в ней всегда есть тайна.
В поэме сталкиваются архетипические образы сына, возлюбленной и матери. Мать, по К.Г. Юнгу, является бесконечно разнообразным архетипом, с которым ассоциируются такие качества, как материнская забота и сочувствие до самопожертвования. Каждый из нас бессознательно ассоциирует себя со своей матерью. В качестве архетипа мать имеет магическую власть над сыном больше, чем над дочкой. Как пишет К.Г. Юнг, для мужчины мать с самого начала имеет явный символический смысл, чем, вероятно, и объясняется проявляющаяся у него сильная тенденция идеализировать ее [8]. Идеализация сыном матери, согласно К.Г. Юнгу, объясняется скрытым, бессознательным страхом быть изгнанным. Понимание данной метафоры - «быть изгнанным» -обращает нас к глубинам психофизиологической драмы мужчины, который в своем опыте адаптации к миру априори появляется в заданных условиях зависимости от конкретных обстоятельств, в которых женское начало довлеет над его Эго.
К.Г. Юнг считал, что архетип матери образует основу так называемого комплекса матери. Для того, чтобы стать сознательным, взрослым человеком, мужчина должен изо всех сил бороться со своим материнским комплексом. При этом он должен осознавать, что эта борьба происходит внутри, иначе он обязательно будет проецировать ее на отношения с женщинами - либо подчиняя себя их желаниям, либо стремясь доминировать над ними, - оба случая свидетельствуют о власти материнского комплекса.
Герой поэмы подчинил себя желаниям любимой женщины, к которой ушел от матери, и жертвенность в следовании желаниям возлюбленной объяснима бессознательным страхом опять быть «изгнанным».
В начале чтения может сложиться впечатление, что последовательно звучащее предостережение об истинном отношении возлюбленной к герою: «Зудчун ямартло ца го...» («Не видит коварства жены»), «Амма кечъеш ямартло ю Декъазчунна шен зудчо!..» («Но несчастному готовится женой коварство»), «Амма хууш яц к1антана Шена хуьлуш лаьтта кхел...» («Но не ведает сын о возмездии грядущем»), достигает своего апогея в ее требовании:
«Х1ун деш лаьтта? Хезий хьуна? Хьинца харжа - Со? я и?!
Хьайн ненан дог карахь доцуш Со йолчу ма вола кхин»;
«Что стоишь? Не слышишь, что ли? Выбирай - иль Я? Она?
Без сердца матери в руках ко мне не приходи».
Но это еще не конечное его испытание, и оно выполнимо. Жертвенность образа матери как древнейший архетип допускает выполнимость и этого «каприза» в разных вариациях.
Но бессознательная и ненавистная страсть к этому образу складывает авторскую ремарку: «Ткъа ямартчу цу езаро Шен х1илланаш дерзадо» («И коварная любимая сворачивает клубок своих хитросплетений»). В этом контексте порочность возлюбленной, доведенная до апогея, находит выражение в итоговой оценке ею поступков того, кто пошел на матереубийство:
«Д1аяьл, к1илло, хьо гучуьра! Хьайца д1ахьо ненан дог!
Сел стаг йоцчу, эхь-яхь доцчу К1илло-стагах ас х1ун до?!»;
«Уйди прочь, ничтожество, с глаз долой! Уноси с собою и сердце матери! Если нет в тебе мужества, достоинства!
К чему мне никчемное ничтожество».
В первой части поэмы он был мужчиной, героем, который способен добыть все, что угодно по первому желанию возлюбленной: «звезду - осколок луны», «лисью или барса шкуры»; к середине поэмы он превращается в антигероя - «охотник за сердцем матери»; и в конце «Беттан т1улг» мы вдруг понимаем, что героя у нас и нет, он - «к1илло-стаг» («никчемное ничтожество»). Архетипический образ сына-матереубийцы может быть понят двояко: с одной стороны, он убил мать, но, с другой, он убит матерью, ибо с ее гибелью сгущаются над ним тучи, виден предел его существования.
Сильный образ в поэме - «ненан дог» («сердце матери»). Когда счастливый мужчина, выполнив очередное пожелание возлюбленной, с сердцем матери возвращается к той, от которой ждет довольства, спотыкается, падает, звучит голос сердца матери: «Нана яла хьан! Лази-кх хьо?!» («Пусть умрет твоя мать! Больно ударился?!») - «Карахь тохадели дог...» («И забилось сердце в руках») - затмевает трагический ужас момента. И чаще всего эта история трактуется как ода любви и жертвенности матери. Но образы, созданные А. Сулеймановым, глубже и трагичнее высвечивают архетипы, присутствующие в психике человека, разрушающие целостность человеческого бытия.
Когда парень с сердцем матери мчится к возлюбленной, в голове его бьется мысль, обращенная к той, которая вела его по этому пути:
«Лаахь, кхунна т1е ког баккхий, Дашо к1ажа хьовзабе!» («Золотой своею пяткой, коль желаешь, ты распни (сердце)!»).
И чуть позже, став свидетелем ее измены, он теряет дар слова, дар мысли:
«Не1ара-саг1ех тассавелла, Нийсса бертал кхийти к1ант...» («И споткнувшись об порог, пал он навзничь...»).
И риторическим является вопрос: чье сердце оказалось в итоге распятым?!
Все началось с того, что возлюбленная пожелала «беттан т1улг» (лунный камень) для украшения своей шеи, но в итоге буквально «беттана т1улгаца», «раскаленным камнем», прожигается грудь молодого человека. Автор назвал свою поэму «Беттан т1улг», но мы здесь сталкиваемся со скрытыми смыслами, не осознаваемыми ни автором, думается, ни читателем до конца. Ведь это красивое сочетание «беттан т1улг» имеет значение в чеченском языке и «лунный камень», и «прожаренный (накаленный) камень».
В сакральном конфликте двух женщин мать становится для сына препятствием к счастью: «Нана! Нана! Хьо е боху Сил езачу езаро!
Оццул генахь хьо йоллушехь, Хьо новкъа ю. Хьийзаво...»;
«Мама! Мама! Та, которую люблю больше жизни, требует твоей смерти!
Невзирая на то, что ты так далеко, ты мешаешь ей. И мне нет покоя».
Уничижительность своего положения еще не осознается нашим «героем»! Он, совершавший храбрые поступки, демонстрируя силу, смелость, ловкость, одурманен любовью к женщине. Последнюю фразу «хьийзаво» («не дает покоя», при буквальном переводе - «распиная, крутит мной») говорит не мужчина, а мальчик. К матери возвращается мальчик, требующий удовлетворения очередного «недетского» каприза. И жертвенный образ матери выдерживает высоту преданности долгу (или инстинкту) до конца.
Образ сердца матери, истекающего кровавыми слезами, завершает эту демоническую поэму.
«Шен к1ант ирсен хилла дагна Г1енаш гора генара...
Б1аьрхиш хилла ц1енчу лаьтта, Дог доьлхуш ц1ий 1енара...»;
«И далекое счастье сына грезилось сердцу, Источаясь кровавой слезою на чистую землю...».
Ключевой фигурой конфликта в треугольнике мать - сын - возлюбленная является архетип матери, чье эго является центробежной силой для сына, который сохранил в бессознательном опыт своего постоянного отлучения от источника тепла, еды, любви. В последующем, в социокультурно приемлемой форме он находит для себя другой объект тепла, еды, любви, но уже пережитый бессознательный опыт изгнания, как дамоклов меч, висит над его сознанием и страх вторичного изгнания заставляет его или полностью подчиниться воле возлюбленной, или находиться в конфликтном состоянии подчинения ее себе.
Интересно познакомиться с интерпретацией столь популярного сюжета в других источниках.
Для сравнения предложим «Легенду о двух курганах» из русского фольклора, в котором при идентичном сюжете концовка иная: «Пошли они вдвоем (мать и сын) в степь и стали двумя курганами. И каждое утро восходящее солнце первыми своими лучами озаряет вершины этих курганов» [9].
Другой вариант притчи «Сердце матери», где главными героями являются Роми и Виола, завершается такими словами: «Прости меня, мама. Я споткнулся… Но не сейчас, а еще раньше, когда польстился на красивую любовь и позволил себя обмануть. Погубил я тебя, поправ священную материнскую любовь. И нет мне прощения…» [10].
Этот сюжет в изложении Д. Кедрина в стихотворении 1935 г. «Сердце ( Бродячий сюжет) » завершается следующим образом:
«Всходя на крылечко, споткнулся казак.
И матери сердце, упав на порог,
Спросило его: «Не ушибся, сынок?» [11].
У Расула Гамзатова есть легенда «Парень гор» с почти идентичным сюжетом, в которой возлюбленная не столь кровожадна:
«Дай клятву, парень гор,
Что навсегда отца и мать
Забудешь с этих пор».
На что: «Стук копыт
Послышался в ответ» [12].
А. Сулейманов, будучи автором текста, мог создать иную концовку поэмы, но вместо этого мы видим, как он углубил и довел до абсурда драматизм и трагизм любви, мужества, жертвенности, предательства, коварства. В целом эта сюжетная линия характеризует психоэмоциональный диссонанс в межличностных отношениях как между линией возлюбленный – возлюбленная, мать – сын, так и диссонанс внутри личности, сопряженный с различными идентификациями социальных ролей, исполняемых женщиной и мужчиной в социуме.
Во время чтения поэмы не покидает мысль о том, что автор, с одной стороны, хочет распять женщину-возлюбленную, доводя до абсурда ее образ и, с другой стороны, возвысить женщину-мать. Но слова, вкладываемые им в уста героев, живут своей жизнью, и в свободе бытования они раскрывают другие смыслы. Культурный архетип «матери-жертвы» и «коварной возлюбленной» – это две стороны одной медали, коварная возлюбленная не приняла последней жертвы, не столько уличенная в измене, сколько прозревшая до объективной оценки этой ситуации, обесценивающей все жертвы любви:
«Д1аяьл, к1илло, хьо гучуьра! Хьайца д1ахьо ненан дог!
Сел стаг йоцчу, эхь-яхь доцчу К1илло-стагах ас х1ун до?!»;
«Уйди прочь, ничтожество, с глаз долой! Уноси с собою и сердце матери! Если нет в тебе мужества, достоинства!
К чему мне никчемное ничтожество».
И он – «герой», и даже «сердце матери», воспитавшее такого «героя» не принимается коварным искусителем! Это тот случай, когда «дьявол» обескуражен человеческой ничтожностью: человек в угоду собственному Эго предает одну из последних святынь – мать. Но жертвенность матери также не принята! И это вскрывает другой конфликт – конфликт женщины, в которой противостоят женщина-мать и женщина-жена. И в этом конфликте постоянно побеждает женщина-мать. Даже исходящий кровавыми слезами, распятый не пятой возлюбленной сына, но его предательством, образ сердца матери выигрывает на сцене величайшей трагедии мира, трагедии любви:
«И далекое счастье сына грезилось сердцу,
Источаясь кровавой слезою на чистую землю…».
Ссылки:
-
1. Сулейманов А. Несколько слов… Поэмы. Грозный, 1988. 152 с.
-
2. Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Архетип и символ. М., 1991. 304 с.
-
3. Бетильмерзаева М.М. Ментальность в контексте культуры (философско-культурологический анализ). Ростов-н/Д, 2011. 250 с.
-
4. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 3. М., 2003. 832 с.
-
5. Там же. С. 432.
-
6. Лунный камень [Электронный ресурс] // Майя Кристалинская. URL: http://kristalinskaya.ru/songs/song099.htm (дата обращения: 08.09.2020).
-
7. Хизбуллина Д.И. О космологических представлениях по данным языка // Вестник Томского государственного университета. № 336. 2010. С. 26–31.
-
8. Трошина Е. Архетип матери и супружеские отношения [Электронный ресурс] // Sandplay. Юнгианская песочная терапия – Психотерапевтический метод сэндплей-терапии. URL: http://sandplay-therapy.ru/archives/219 (дата обращения: 08.09.2020).
-
9. Притча «Сердце матери» [Электронный ресурс] // Мультиурок. URL: https://multiurok.ru/blog/pritcha-sierdtsie-mat- ieri.html (дата обращения: 08.09.2020).
-
10. Притча «Сердце матери». Стихотворение «Сердце» [Электронный ресурс] // Интернет-газета Холодильщик.ru. URL: http://www.holodilshchik.ru/index_holodilshchik_issue_10_2010_Heart_ma.htm (дата обращения: 08.09.2020).
-
11. Там же.
-
12. Парень гор [Электронный ресурс] // Расул Гамзатов. URL: http://www.rasulgamzatov.ru/skazaniya/content/155-paren- gor.html (дата обращения: 08.09.2020).
Редактор, переводчик: Невзорова Наталья Викторовна
Список литературы Архетипические образы в поэме А. Сулейманова "Лунный камень" ("Беттан т1улг")
- Сулейманов А. Несколько слов… Поэмы. Грозный, 1988. 152 с
- Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Архетип и символ. М., 1991. 304 с
- Бетильмерзаева М.М. Ментальность в контексте культуры (философско-культурологический анализ). Ростов-н/Д, 2011. 250 с
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 3. М., 2003. 832 с
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 3. М., 2003. С. 432.