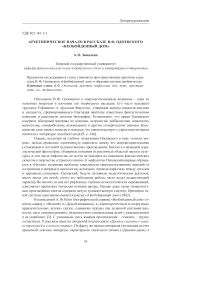Архетипическое начало в рассказе В. Ф. Одоевского "Необойденный дом"
Автор: Зимилева Анастасия Олеговна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования в статье становятся пространственные архетипы в рассказе В. Ф. Одоевского «Необойденный дом» и образная система двойничества.
В.ф. одоевский, архетип, мифология, дом, путь, пространство, лес, двойничество
Короткий адрес: https://sciup.org/146122007
IDR: 146122007 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Архетипическое начало в рассказе В. Ф. Одоевского "Необойденный дом"
Отношение В. Ф. Одоевского к сверхъестественным явлениям – один из основных вопросов в изучении его творческого наследия. Его часто называют «русским Гофманом» и «русским Фаустом», утверждая амплуа писателя-мистика и идеалиста, сформировавшееся благодаря наиболее известным фантастическим повестям и некоторым деталям биографии. Установлено, что архив Одоевского содержит обширный материал по алхимии, астрологии, каббалистике, животному магнетизму, сомнамбулизму, ясновидению и другим эзотерическим знаниям. Большинство книг имеют пометки и подписи, что свидетельствует о серьезном интересе писателя к литературе подобного рода [9, с. 246].
Однако, несмотря на глубину погружения Одоевского в тему «тонких миров», нельзя проводить однозначную параллель между его мировоззренческими установками и поэтикой художественных произведений. Близость к немецкой идеалистической философии, обширные познания из различных областей науки и культуры, в том числе мифологии, не могли не повлиять на появление фантастических сюжетов в творчестве «странного князя». К мифологии Одоевский впервые обращается в «Игоше», поднимая проблему зависимости сверхъестественных явлений от восприятия и впервые в психологии, возможно, проводя параллель между детским и народным сознанием. Одоевский, будучи активным педагогическим деятелем, много писал для детей, оттого его небольшие работы часто носят дидактический характер. Во многих из них нет рефлексии, глубины психологических переживаний, однозначно прописана этическая позиция автора. Однако даже такие поверхностные произведения иногда содержат целую художественную систему. Примером такой системы однозначно является рассказ «Необойденный дом» (1842).
В написанной А. Ф. Кони биографической справке «Необойденный дом» отнесен, наряду с «Игошей» и «Душой женщины», к «серии прелестных и остроумных нравоучительных детских сказок, одинаково чуждых как деланной сентиментальности, так и слишком раннего, безжалостного ознакомления детей с ужасами жизни и ее скорбями» [3]. С указанным здесь жанром произведения – «сказка» – трудно согласиться. У рассказа имеется авторский подзаголовок «Древнее сказание о калике перехожей и о некоем старце». По факту же налицо авторская стилизация за счет архаичной лексики, инверсии, характерного сказочного зачина («Давным-давно, в те годы, которых и деды не запомнят…» [5, с. 314]); «древность», с одной стороны, добавляет занимательного колорита, с другой – является частичным оправданием чудесности происходящего, так как до-письменный (соответственно, до-научный) период часто мифологизируется.
Ближе всего «Необойденный дом» к философской притче – как сплав символики и этики. Однако связь с фольклором все-таки отмечается исследователями. Так, Н. Ф. Сумцов считает, что рассказ перекликается с пушкинским IX «Подражанием Корану» и является «любопытной переделкой» «народного предания о человеке, засыпающем на многие годы и потом просыпающемся (у Пушкина в прелестном стихотворении “И путник усталый на бога роптал”)» [10]. Не соглашается с этим Н. Измайлов, утверждая, что указание Сумцова на «одинаковость темы» произведений «относится лишь к близости мотивов народной легенды, но не к творческим приемам Пушкина и Одоевского» [2, с. 306].
Именно «творческие приемы» последнего и сделали небольшой по объему «детский» рассказ объектом нашего анализа, поскольку при кажущейся простоте он насыщен разного рода символикой на всех уровнях организации – начиная с лексики и заканчивая композицией. В основном это пространственно-временные архетипы и система отражений-повторов. Образное двойничество имеет определенную функцию: история, безусловно, нравоучительная, а значит, предполагает и базовую бинарную оппозицию «хорошо-плохо».
Архетипические образы, или мифологемы, пронизывают мировую художественную литературу от истоков до современности, образуя постоянный фонд сюжетов и ситуаций. В число важнейших из них входят константные топосы и локусы: дом, дорога, универсальные параметры пространства (стороны света, верх/ низ, левый/правый), пограничные (порог, окно, река) и др. Одну из первых классификаций пространственных образов разработал Ю. М. Лотман. По его словам, «каждому пространству соответствует особый тип отношений функционирующих в нем персонажей» [4, с. 265]. И. Б. Роднянская также считает отраженное в искусстве пространство и время «важнейшими характеристиками образа художественного, обеспечивающими целостное восприятие художественной действительности и организующими композицию произведения», называет традиционные пространственные ориентиры давней «точкой приложения осмысляющих сил в литературно-художественных (и шире – культурных) моделях мира» [8, с. 487].
Пример точечного пространства – дом – закреплен в самом названии рассказа Одоевского. Эпитет необойденный двоится: «состояние места до того, как героиня обходит его с молитвой» (за этим фактически стоит значение «нечистый»); героиня не может обойти этот дом , то есть пройти мимо.
В необъяснимом, «колдовском» взаимодействии архетипов «дом – путь – лес» заключается сюжет рассказа: старушка, отправившись с утра на богомолье, решает сократить дорогу, свернув на тропинку в лесу. Трижды она возвращается на одно и то же место – разбойничий притон, и каждый раз ее встречает один и тот же человек, но если для нее изменяется лишь время суток, то для него между их встречами проходят долгие годы. С каждым периодом грехи героя тяжелее. Юношей он выносит старушке хлеб с солью и квас, попутно упоминая, что та «похожа на бабку-покойницу». Зрелый мужчина приносит награбленное, чужое добро – рушник (полотенце), в котором старушка узнает вещь своего сына и что тот погиб от руки банды, живущей в доме (но не героя – сказуемые неопределенно-личные: «карачун ему дали», «пустили в реку»). Третий раз разбойник встречает ее, сам будучи стари- ком, уговаривает уйти, но она отказывается. Тогда тот приглашает ее в дом, чтобы спрятать в подпол, кается, что замучил ее дочь – уже «вот этой вот самой рукой». Героиня прощает его и обходит комнату за комнатой, творя молитву и давая ему наставление. После этого они быстро выходят из леса к храму.
Таким образом, пространство не двигается, хотя должно, время, напротив, ускоренно движется , чего быть не должно (закольцованная дорога сверхъестественным образом «съедает» время отрезками в двадцать лет). Интересно, что далекий от просвещенных скептиков герой поначалу находит традиционное для романтического развенчания объяснение, что «старая выжила из ума».
Обычно в семантической паре «дом/дорога» и «дом/лес» дом выступает как символ безопасности. Здесь же дом является сердцем устойчивого фольклорного мотива – проклятого места. О нетипичной роли образа, помимо эпитета в заглавии, сообщает описание: «…посреди поляны дубовый дом с закрытыми ставнями , тесовые ворота на запоре – и не видать ни души христианской…» [5, с. 315] (здесь и далее курсив в цитатах наш. – А. З.). Два указания на закрытость, замкнутость, непригодность для человеческого жилья. Что живут здесь нелюди, нехристи, мы узнаем из диалога старушки с героем.
Разновидностью границы между «своим» и «чужим» пространством является дорога . Дорога предстает и в своем прямом значении, как расстояние от места до места, как сам процесс движения, так и в переносном: в художественных текстах дорога редко бывает просто дорогой. Выбор дорог – почти всегда выбор жизненного пути. Путь в мифологическом сознании может быть вертикальным (вниз, в подземное царство, или вверх – на небо) и горизонтальным, ведущим к сакральной цели (от дома к храму) или удаляющим от нее (от своего дома – в чужой мир).
По этой классификации в рассказе Одоевского налицо приближение к сакральной цели – извилистый, сложный путь к церкви, символизирующий путь к Богу. Длина реального пути невелика («всего-то верст десять») – но для героини он становится испытанием. Она выбрала тропинку в лесу, желая прийти быстрее. Вместо линейной протяженности дорога-тропинка закольцовывается вокруг центра – дома. Закольцованность подчеркивается дважды повторенным описанием тропинки и дома; и в юношеском, и в зрелом возрасте герой выходит в красной рубахе . Вехами пути становятся, с одной стороны, время суток, с дугой – встречи главных героев.
Третий локус – лес, который выступает в традиционной для мифологии роли границы (часто между миром мертвых и миром живых, вспомним хотя бы «Божественную комедию» Данте). В целом представления о лесе как окружении подземного царства восходят еще к античности, затем проникают в европейскую литературу. В славянской мифологии лесу также отводилось значительное место. Древний человек осознавал свою беспомощность и незащищенность перед жестокими силами природы (см.: [6, с. 48]). Кроме этого, пространственный архетип леса имеет значение «место, где человек не способен что-либо предпринять и полностью вынужден положиться на высшее вмешательство в свою судьбу; при этом человек боится леса, ибо не знает его воли по отношению к себе» [1, с. 50], – что мы и наблюдаем в рассказе.
Таким образом, архетип леса часто символизирует пограничную область между живым и мертвым. Тема смерти (земной, условной, подобной сну) и бессмертия (единения с Богом) часто возникает в рассказе и напрямую. Так, при первой встрече старушки и героя-юноши тот сравнивает ее с «бабкой-покойницей». Известие о гибели детей является самым тяжелым испытанием для героини, не поддавшейся гневу и осуждению. И, наконец, в последний раз, когда старушка отказалась уходить, несмотря на опасность, между персонажами состоялся очень значимый диалог:
«– Что ж ты, небось, смерти не боишься?
– Да чего ж ее бояться? Придет час и воля божия.
– Так ты смерти не боишься, – повторил старик и задумался. – Ну, – прибавил он помолчавши, – я так смерти боюсь.
– Молись богу, родимой, Никола тебе навстречу, – так и не будешь смерти бояться» [5, с. 319].
Реакция старушки является ключевым моментом, развязавшим узел конфликта. Это духовное испытание, которое она выдерживает, несмотря на невольное искушение героем: «…я чай, проклинать меня будешь», «…где богу простить меня – да ведь и ты не простишь меня…» [Там же, с. 318, 321]. Крестный обход «не-обойденного дома» становится кульминацией произведения: петля разомкнулась, и путь, проделанный героями уже вместе, урезается до короткой прямой.
Однако христианское понимание очищения здесь не преобладает: колдовство не разрушается только от молитвы. Крест лишь развязывает узел / разрывает круг – чисто обрядовое действие. Но это не весь обряд. В храме старушка находит своих взрослых детей, живых и здоровых, узнает, что подарки ее странным образом пропали. Здесь вступает в силу другой фольклорный мотив – мотив откупа, уходящий корнями в языческие верования . Откупом становятся бусы и рушник, пропавшие у сына и дочери после странных снов, необъяснимо повторяющих греховную исповедь разбойника. С точки зрения разума это необъяснимо, однако с точки зрения обряда – совершенно логично. Утрата значительна для героев (подарок матери, связь с матерью), но несоизмерима с ценностью жизни. Для обряда важен лишь сам факт свершившейся утраты. Пропажа вещей, символизирующих в глазах матери детей (как свидетельство смерти, подтверждающее слова разбойника, – поэтому оказалась возможна подмена), отвела беду.
Мы отмечали выше, что для моралистической литературы характерны противопоставления. Главная оппозиция – условные «добро-зло» (потому что абсолютного зла в рассказе нет) или, точнее, «душа, не знающая Бога» – и «душа, близкая к Богу». В поэтике рассказа эта оппозиция реализуется через антитезу «свет-тень». Старушка выдвигается в путь «на заре ранней». Далее читаем описание леса: «Оглядывается: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная…» [Там же, с. 316]. На третий раз дается описание дома изнутри: «Старушка сошла в подпо-лицу, тёмную, тёмную…» [Там же, с. 320]. Темнота в образной системе Одоевского трактуется как не-знание и в то же время – первоначальное состояние человеческого сознания. Считаем уместным привести здесь цитату из его статьи «Наука инстинкта»: «Мы беспрестанно находимся в некоторой относительной темноте, о которой может дать понятие человеку воспоминание о его детстве; сколько вещей в то время, которые теперь нам кажутся состоянием слепого. Так продолжается во всю жизнь – и все стремление человека – выйти на свет» [6, с. 203]. Героиня пришла к этому ранее: « Божий храм сиял во всем благолепии; тысячи свеч блистали у золоченых икон <…> дым из кадильниц подымался ввысь светлым облаком» [5, с. 321]. Когда происходит встреча с детьми и они узнают мать, «старушка обернулась – лампадою от иконы осветилось лицо ее». Однако рассказ на этом не заканчивается – потому что другой герой еще «в темном углу» [Там же, с. 322–323].
Полноценная развязка происходит, когда ситуация отражается: герой, теперь уже почтенный старец-монах, проделывает тяжкий путь, чтобы исповедать старушку перед смертью. Значение этого возврата утверждает сама героиня: «… чтоб не возгордилась я твоим покаянием…» И в конце рассказа смерть персонажей преподносится как достижение света: «…лучи восходящего солнца светились на лицах старца и старицы, казалось, они ещё молились, – но уже души их отлетели в вечную обитель…» [Там же, с. 324]». Цикл завершает рассказ: не закат (вечер) и не ночь (возвращение тьмы), но новое рождение.
Другая взаимоотражающая пара – явь-сон. В финале рассказа сон и явь перевернулись, но низложение событий до уровня нереальных (с точки зрения персонажей) никак не отменяет их художественного значения, так как в пространстве произведения они равноценны .
В конфликте двух пространственно-временных систем побеждает та, в которой есть духовная правда . Именно поэтому бытие старушки утверждается как реальное: оно побеждает бытие героя, обернувшееся лишь сном (однако связанным с явью через материальные, вещественные предметы, чья потеря незначительна). Разбойник, пребывая на греховном пути, блуждает во тьме и теряет годы жизни, – это напрямую отражено в тексте, где их описание отсутствует . Уже в подзаголовке он фигурирует как «некий старец»; как персонаж он представлен только во встречах со старушкой.
Предельно обобщая, весь рассказ – развернутая пространственная метафора. Герои буквально живут в разных мирах, потому что идут по жизни совершенно разными путями. Однако их пути пересекаются, обнаруживая не только пространственно-временной конфликт, но и контраст мировоззрений: однодневное блуждание во тьме лесной чащи старушки становится символом всей жизни героя-разбойника. И в конце жизни – как и в финале рассказа – их пути сливаются: оба приходят к Богу.
Таким образом, в рассказе В. Ф. Одоевского «Необойденный дом» сверхъестественные взаимодействия архетипов пространства и времени помогают раскрыть авторскую нравственную позицию.
Список литературы Архетипическое начало в рассказе В. Ф. Одоевского "Необойденный дом"
- Доманский Ю. В. Смыслообразующая роль архетипических значений в литературном тексте: пособие по спецкурсу/Тверской гос. ун-т. Тверь, 2001. 94 с.
- Измайлов Н. Пушкин и князь В. Ф. Одоевский//Пушкин в мировой литературе: сб. статей. Л.: Гос. изд-во, 1926. С. 289-308.
- Кони А. Ф. В. Ф. Одоевский: биографическая справка //Проект «Собрание классики». URL: http://az.lib.ru/o/odoewskij_w_f/text_0010. shtml. (Дата обращения: 23.01.2017.)
- Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя//Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: кн. для учителя. М.: Просвещение, 1988. С. 251-292.
- Одоевский В. Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 2: Повести. М.: Худож. лит., 1981. 366 с.
- Одоевский В. Ф. Наука инстинкта. Ответ Рожалину//Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975. С. 198-203.
- Пыхтина Ю. Г. Функционально-семантическая типология пространственных образов и моделей в русской литературе XIX -нач. ХХI вв.: дис. … докт. филол. наук: 10.01.01; 10.01.08/Ю. Г. Пыхтина; Российский ун-т дружбы народов. М., 2014. 346 с.
- Роднянская И. Б. Художественное время и пространство//Литературный энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1987. С. 487-489.
- Романова Е. А., Паршукова Н. А. Тайная доктрина русского Фауста: к вопросу о мистическом аспекте мировоззрения князя В. Ф. Одоевского//Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. СПб., 2014. № 203. С. 244-256.
- Сумцов Н. Ф. Князь В. Ф. Одоевский //Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». URL: http://imwerden.de/pdf/sumcov_ odoevsky_1884.pdf. (Дата обращения: 25.01.2017.)