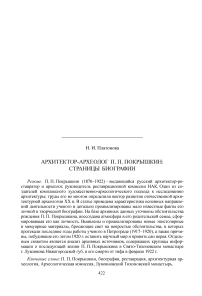Архитектор-археолог П. П. Покрышкин: страницы биографии
Автор: Платонова Н.И.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: История археологической науки
Статья в выпуске: 241, 2015 года.
Бесплатный доступ
П. П. Покрышкин (1870-1922) - выдающийся русский архитектор-реставратор и археолог, руководитель реставрационной комиссии ИАК. Один из создателей комплексного художественно-археологического подхода к исследованию архитектуры; труды его во многом определили вектор развития отечественной архитектурной археологии XX в. В статье приведена характеристика основных направлений деятельности ученого и детально проанализированы мало известные факты его личной и творческой биографии. На базе архивных данных уточнены обстоятельства рождения П. П. Покрышкина, воссоздана атмосфера в его родительской семье, сформировавшая его как личность. Выявлены и проанализированы новые эпистолярные и мемуарные материалы, бросающие свет на непростые обстоятельства, в которых протекали последние годы работы ученого в Петрограде (1917-1920), а также причины, побудившие его летом 1920 г. оставить научный мир и принять сан иерея. Отдельным сюжетом является анализ архивных источников, содержащих крупицы информации о последующей жизни П. П. Покрышкина в Свято-Тихоновском монастыре г. Лукоянова Нижегородской губ. и его смерти от тифа в феврале 1922 г.
П. п. покрышкин, биография, реставрация, архитектурная археология, археологическая комиссия, лукояновский тихоновский монастырь
Короткий адрес: https://sciup.org/14328263
IDR: 14328263
Текст научной статьи Архитектор-археолог П. П. Покрышкин: страницы биографии
Роль П. П. Покрышкина в выработке и внедрении новой методологии исследования архитектуры трудно переоценить. В его работах отчетливо прослеживается восприятие «старины» как эстетической категории, без всякого ущерба научной, археологической оценке памятника. В рамках такого подхода «красота» оказывается присущей старине не за счет соответствия определенному канону, но – сама по себе (Там же. С. 336–337). Подобный сдвиг ценностной ориентации имел важные последствия. Противопоставление «мертвой археологии» художественному, эмоционально‑эстетическому восприятию архитектуры потеряло свою остроту именно в 1910‑х гг.
Характерной особенностью работ П. П. Покрышкина являлось также умение сочетать изучение собственно архитектурной стратиграфии («анатомии архитектуры») с исследованием стратиграфии напластований, прилегающих к зданию и подстилающих его. Здесь П. П., по справедливости, должен быть назван первым, ибо он «…начал решать архитектурные вопросы методами археологии, «прочитывая» историю сооружения не только в летописях и архитектурных деталях, но и в их связи с культурными слоями» ( Беляев , 2000. С. 461). Впрочем, сам П. П. с легкостью отдавал лавры первопроходца своему безвременно умершему сотруднику Д. В. Милееву, называя именно его «первым русским архитектором, установившим научно, что должно не только расчищать от засыпей остатки зданий, но следует попутно «читать землю»…» ( Покрышкин , 1915а. С. 2).
Ничуть не умаляя огромных заслуг Д. В. Милеева на указанном поприще, стоит вспомнить и о работах самого Покрышкина – в первую очередь о раскопках им руин церкви св. Василия в Овруче (1907–1908 гг.). Сохранившийся дневник этих работ подтверждает их новаторский характер. Фотографии раскопок «показали прекрасно расчищенные остатки архитектуры, связанные с хорошо зачищенными бровками, стенками и поверхностью раскопов…» (Беляев, 2000. С. 461). Не ограничившись поиском в слое архитектурных деталей рухнувшей церкви, «… исследователь постарался определить их место на фасаде, высоту, с которой упал тот или иной фрагмент. Была прослежена зависимость между расстоянием находки от основания храма и высотой, с которой она падала…» (Памятники архитектуры... С. 415). В ходе раскопок все найденные куски оконных обрамлений, декоративных элементов карниза, блоков кладки и пр. были зафиксированы, пронумерованы и вставлены затем примерно на свои места на фасадах восстановленного храма.
Совокупный опыт «прочтения» археологической стратиграфии при исследовании древней архитектуры П. П. Покрышкин сумел оперативно обобщить в своем методическом руководстве по ремонту и реставрации древних зданий. Там была прямо указана необходимость «изучения почвы с археологической точки зрения» и определены «важнейшие архитектурно‑археологические задачи», решаемые этим путем. «Первостепенное значение в этом отношении имеют разрезы земли, горизонтальные и вертикальные, тщательно зачищаемые во время раскопок; их нужно запечатлеть фотографированием и чертежами в масштабе, с объяснительным текстом…» ( Покрышкин , 1915б. С. 180–181). Данная работа вышла под одной обложкой с некрологом Д. В. Милеева. «Этот ранний русский «манифест» против бесцельной растраты информации, отложившейся в культурном слое, появился в то время, когда во Франции, Англии и Германии процветал еще «деблайяж»…» ( Беляев , 2000. С. 461–462).
Первые десятилетия ХХ в. стали расцветом П. П. Покрышкина как ученого и реставратора. Важнейшим вкладом его в архитектурную археологию явилось введение в практику (и теоретическое обоснование) точных детальных обмеров, фиксирующих «пластику» древнего здания, все «неправильности» его архитектурной формы. В отчете о работах в храме Спаса‑Нередицы под Новгородом П. П. Покрышкин писал: «Если бы я ограничился, например, измерением высот и широт в арках, и, подыскав центры, начертил бы их по циркулю, как это обыкновенно делается, то впечатление получилось бы совсем несходное с действительностью, стиль храма в таком чертеже не был бы передан…» ( Покрышкин , 1906. С. 35). В результате именно «…после работ П. П. Покрышкина на Нередицком Спасе в 1903 г. для всех значительных памятников получают распространение точные археологические обмеры…» (Памятники архитектуры... С. 481). В дальнейшем это стало одним из основополагающих принципов архитектурной реставрации ХХ в.
В некрологе П. П. Покрышкина , принадлежащем перу И. Э. Грабаря, сказано: «…Таких архитектурных обмеров, как покрышкинские, Европа еще не знала: математически точные, построенные по точкам, они в то же время отличаются необыкновенной гибкостью, передавая все тонкости изогнутых поверхностей и прихотливых линий древнего памятника…» ( Грабарь , 1922. С. 34). Тот же автор констатирует: работы Покрышкина не получили должного признания современников. Необходимо посмертное издание, где его «жизненный труд… нашел бы свое верное отражение и хотя бы запоздалую оценку» (Там же). К этим любопытным признаниям И. Э. Грабаря мы еще вернемся.
Как уже говорилось выше, П. П. Покрышкин в течение 17 лет являлся председательствующим в реставрационной комиссии ИАК. Де‑факто это была должность «главного» архитектора‑реставратора России. Однако малочисленность штатов Комиссии приводила к тому, что «главный» оказывался «крайним», принимая на собственные плечи львиную долю работы по разъездам, натурным исследованиям и т. п. Манкировать своими обязанностями П. П. не умел органически. Именно с его приходом в ИАК в конце 1902 г. там заметно возросло количество решений по делам, связанным с охраной и реставрацией памятников архитектуры, увеличилось число обследований, производившихся de visu. За период с 1903 по 1913 г. Покрышкин лично посетил 34 российские губернии, проделав путь в 166 318 верст (Медведева, Мусин, 2009. С. 942–943). Недаром Н. П. Сычёв писал о нем: «нет места в России, где, кажется, не был, не руководил работами и сам не работал бы П. П.» (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1616. Л. 4).
В конце 1900‑х гг. у него появились помощники – Д. В. Милеев и К. К. Романов. Но это не уменьшило нагрузки их шефа, лишь расширило диапазон работ ИАК по части монументальных древностей. Справиться с таким грузом обязанностей можно было лишь при условии аскетического пренебрежения самим собой. Но Покрышкин принадлежал к тому типу людей, которые профессию превращают в избранный удел, а службу – в служение. Годы работы в ИАК были для него временем высокой творческой свободы, ограничивавшейся лишь трезвым размышлением о возможностях финансирования своих начинаний. Сознание важности дела, которому он служил, компенсировало до поры все затраты здоровья и нервов. А в материальных благах, сверх самого необходимого, он попросту не нуждался.
Не случайно, говоря об умершем Д. В. Милееве, Покрышкин выдвигает на первый план качества, наиболее близкие ему самому – бескорыстие и аскетизм: «…Мне хотелось бы сказать об одном добром свойстве Д. В. – об его бескорыстии, доходившем порою до подвижничества; невольно хочется подчеркнуть, что при нынешней, все возрастающей в среде нашей талантливой архитектурной молодежи погоне за наживой Д. В. блистал отрадным исключением. Не будь у Д. В. этой христианской доблести, русская наука не могла бы занести в свою летопись его славного имени…» ( Покрышкин , 1915а. С. 2). Знакомство с жизненными обстоятельствами П. П. Покрышкина показывает: упомянутая «христианская доблесть» сполна была присуща и ему самому.
Вплоть до начала Первой мировой войны П. П. регулярно сочетал свои работы по обследованию и надзору за памятниками с самостоятельными, порою достаточно крупными архитектурно‑археологическими проектами (разумеется, по заданиям ИАК). Часть этих проектов ныне вошла в науку как классика реставрационного дела ( Штендер , 1961; Михайловский , 1971. С. 133–138, 162–168 и др.; Медникова , 1995; Беляев , 2000. С. 461–463; Памятники архитектуры… С. 346–349, 408–415, 463–466; Медведева , 2004; Медведева , Мусин , 2009. С. 994–996, 1017).
В рамках настоящей статьи невозможно дать исчерпывающий анализ наследия одного из крупнейших архитекторов‑археологов России ХХ в. Приведенные выше характеристики его деятельности призваны в первую очередь оттенить масштаб этой фигуры на археологическом Олимпе 1900–1910‑х гг. Несомненно, перед нами звезда первой величины. К сожалению, интерес исследователей к деталям биографии П. П. Покрышкина проявился с большим опозданием, лишь через полвека после кончины, когда живая память об ученом успела изгладиться.
Современному биографу остается собирать осколки разбитого вдребезги. Наш герой прожил свой век аскетом. Большую часть времени он посвящал работе. Женат не был, потомства не имел. Сейчас из публикации в публикацию кочуют, по сути, одни и те же сведения о П. П., основанные на его анкетных данных (РО НА ИИМК. Ф. 2. Оп. 3. Д. 519) и подробностях, взятых из некролога, написанного Н. П. Сычёвым в марте 1922 г. (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1616). В силу обстоятельств именно этот некролог, так и оставшийся неопубликованным, ныне известен более всех – ибо хранится он в личном фонде П. П. По‑ крышкина в ИИМК РАН, к которому постоянно обращаются специалисты. В 2000‑х гг. к перечисленным материалам прибавились новые, обнаруженные в ЦАНО коллективом нижегородских церковных историков. Они проливают свет на последние годы жизни П. П. Покрышкина (июль 1920 – февраль 1922), проведенные в Свято‑Тихоновском женском монастыре г. Лукоянова в качестве священнослужителя (Дёгтева, 2004; 2011; Букова, 2011).
Но даже взятые вместе, эти документы не объясняют нам ни феномена Покрышкина – неутомимого работника, действительно превратившего государственную службу в аскетическое служение, – ни его неожиданного, резкого ухода из профессии. Очерк Н. П. Сычёва содержит немало драгоценных подробностей. Но как все некрологи, он явно сглаживает острые углы. Следует рассматривать его в контексте других источников, бросающих свет на скрытую от посторонних глаз внутреннюю жизнь нашего героя. Таковыми являются: а) все данные о родительской семье П. П. Покрышкина; б) письма П. П. к его другу В. Г. Леонтовичу1 (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1611); в) письма Н. П. Сычёва к тому же адресату с позднейшими (1948–1949 гг.) воспоминаниями о П. П. (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1615). Эти эпистолярные материалы имеют огромную ценность для биографов как самого П. П. Покрышкина, так и Н. П. Сычёва2.
Конечно, перечисленные архивные документы требуют полной публикации. Такая работа уже ведется. Здесь мне хотелось бы ознакомить читателя с предварительными выводами и находками, сделанными в ходе архивных изысканий. Метрика П. П. и послужной список его отца Петра Семеновича, представленные Покрышкиным в ИАК в 1902 г. при устройстве на службу, сообщают весьма неординарные сведения о его родительской семье. Метрическое свидетельство, выданное 21 января 1881 г., гласит:
«По указу Его Императорского Величества Иркутская Духовная Консистория слушала прошение дворянки Анны Димитриевны Пушкарёвой, о выдаче метрического свидетельства о рождении незаконнорожденного сына ее Петра. По справке оказалось: в метрической книге Иркутской Прокопиевской Церкви за тысяча восемьсот семидесятый год под № 6 записано: двадцать второго июля родился и двадцать восьмого крещен Пётр, незаконнорожденный сын жены разжалованного в 1862 г. поручика Леонида Лукина Пушкарёва, Анны Димитриевны… и т. д.» (РО НА ИИМК. Ф. 1. 1902. Д. 271. Л. 3).
Имя Леонида Лукича Пушкарёва (1834–1884), законного мужа матери П. П. Покрышкина, достаточно известно литературоведам, изучающим круг знакомств А. П. Чехова. Это старший брат московского журналиста, драматурга и переводчика Николая Пушкарёва, издававшего журналы «Мирской толк», «Свет и тени» и др. Имена их обоих мелькают в письмах А. П. Чехова за 1882–1884 гг. ( Чехов , 1974).
Потомственное дворянство в роду Пушкарёвых было недавним. Братья родились в семье военного врача – крестьянского сына, дослужившегося в Казанской губернии до чина штаб‑лекаря ( Ямпольский , 1968). Как можно предположить, оба были по духу «шестидесятниками». В ранних стихах Николая Пушкарёва можно найти героизацию революционеров‑народников и отчетливые антиклерикальные мотивы (Там же). И все же протестные настроения в этой семье явно не заходили далеко. В 1870‑х – начале 1880‑х гг. Николай Лукич – преуспевающий литератор и издатель; Леонид помогает брату в делах.
К тому же социальному слою принадлежал студент‑медик Пётр Семенович Покрышкин, родом «из обер‑офицерских детей» (т. е. сын офицера – не дворянина). В 1862 г., когда поручик Леонид Пушкарёв за некий проступок лишился офицерского достоинства, Пётр Покрышкин‑старший окончил медицинский факультет Московского университета. В апреле 1863 г., выдержав дополнительные испытания на звание уездного врача, он отправляется на службу в Вятку (РО НА ИИМК. Ф. 1. 1902. Д. 271. Л. 5 об., 6 об.). Еще через год, в мае 1864 г. молодой доктор успешно сдает экзамен на звание акушера – на сей раз в Конференции Санкт‑Петербургской медико‑хирургической академии.
В 1867 г. следует перевод из Вятки в Иркутск, и в Сибири Петр Семенович оседает прочно. Много лет он «исправляет должность» члена Иркутской врачебной управы (акушера и оператора), врача Иркутской гражданской больницы, да еще «сверх прямой обязанности» – Иркутского и Балаганского окружного врача, а с 1876 г. – секретаря оспенного комитета. Вдобавок «без всякого вознаграждения состоит врачом при Иркутском Барановском воспитательном доме» (РО НА ИИМК. Ф. 1. 1902. Д. 271. Л. 6 об., 7–9, 10 об.).
Разумеется, послужной список лишь скупо отражает жизненные обстоятельства, но кое‑какие выводы на его основании сделать можно. Отметим с ходу три момента, характерных для Покрышкина‑старшего. Первый – успешность, явная «благонадежность», быстрое профессиональное и служебное продвижение (последнее – по крайней мере, начиная с 1870‑х гг.). Второй – обилие дополнительных (зачастую бесплатных) добровольных нагрузок, отнимающих немало времени и сил – то, что в дальнейшем будет характерно и для Петра Покрышкина‑младшего.
Третий важный момент – семейное положение уважаемого врача. Оформленный в 1881 г. (в связи с поступлением 11‑летнего сына Петра в Иркутское Техническое училище) послужной список бесстрастно фиксирует: «Холост. Имеет усыновленных детей: сыновей Сергея, родившегося 30 апреля 1865 г., Петра, родившегося 22 июля 1870 г., и дочь Наталью, родившуюся 16 марта 1875 г., находятся при нем…» (РО НА ИИМК. Ф. 1. 1902. Д. 271. Л. 6).
Вряд ли можно сомневаться, что, помимо «усыновленных» собственных детей, при Петре Семеновиче находилась их мать Анна Дмитриевна, обретшая статус законной супруги не ранее 1884 г. (после смерти Л. Л. Пушкарёва), но ставшая гражданской женой Покрышкина‑старшего задолго до того. Вероятно, 1862–1864 гг. явились поворотными в судьбе членов этого любовного треугольника. Муж Анны оказался разжалованным в солдаты (может быть, за дуэль?), а сама она – увезена своим возлюбленным в глухую провинцию. В Вятке в 1865 г. появляется на свет их первый ребенок (первый из выживших?). Между тем Пётр Семенович активно работает, повышая свою квалификацию врача. Наконец, влюбленная пара решается на переезд в Сибирь, где глава семейства находит себе обширное поле деятельности.
Его неустанные труды в конечном счете явно искупили в глазах начальства пикантные подробности его семейного положения. В 43 года (1881 г.) он уже статский советник, кавалер двух орденов. Но еще более значимым является тот факт, что Иркутская Духовная консистория позволила доктору без лишнего шума усыновить своих незаконных детей. Для сравнения приведу пример: пятеро детей известного публициста и писателя В. В. Розанова, рожденных в таком же устойчивом, счастливом, но «незаконном» браке, вплоть до 1918 г. носили разные фамилии и отчества (дававшиеся внебрачному ребенку по крестному отцу). Таким образом, отношение к доктору Покрышкину и его жене в иркутском обществе оказалось на редкость лояльным. Однако встает вопрос: легко ли далось все это и им самим, и их детям?
Конечно, во второй половине XIX в. в интеллигентских кругах уже зарождалось отношение к церковному браку как к «формальности». Но вряд ли подобных воззрений держались в семье Покрышкиных. Недаром единственная встреча Н. П. Сычёва со стариком Петром Семеновичем, случившаяся осенью 1918 г., оставила у него сильное впечатление. В письме к В. Г. Леонтовичу она описана так:
«…В комнату вошел небольшого роста старец. Все мы встали. П. П. представил меня старцу, назвав его своим “папашей”. Старец пригласил к столу, но не сел. Не сели и мы. Неожиданно для меня старец начал читать молитвы и, окончив их, благословил трапезу. Все это меня очень удивило. Встретясь на другой день на службе, я спросил П. П., не из духовных ли его отец? П. П. сказал: «Нет, он доктор, медик, но он очень религиозный человек, и мы с сестрой так же воспитаны». С тех пор одна грань души П. П., которую он скрывал от меня, стала мне понятна. Прошло немного времени, и отец П. П. скончался. Я рассказал Вам этот инцидент только для Вас , полагая, что предавать его широкой огласке, конечно, не следует…» (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1615. Л. 4 об.).
В описанный период Петру Семеновичу было уже за 80; он давно оставил службу и жил у сына. Свидетельство самого П. П. («мы с сестрой так же воспитаны») заставляет сразу отмести предположение, что овдовевший доктор на старости лет начал отмаливать грехи. Нет, воцерковленность присутствовала в этой семье изначально, проявляясь на всех уровнях – и обрядовом, и глубоко интимном – духовном. Можно предположить, что супругов связала взаимная страсть и большая любовь. Но все равно незаконное «сожительство» должно было восприниматься человеком подобных устоев, как камень на совести. Единственным выходом из нравственного тупика являлось искупление грехов делами – непреходящим, каждодневным служением во имя Христово. Это и было то, что П. П. впоследствии называл «христианской доблестью».
В письме к В. Г. Леонтовичу Н. П. Сычёв так описывает П. П. Покрышкина: «В свободное от работы время мы много говорили о древнерусском искусстве, и в этих разговорах незаметно и постепенно раскрывалась передо мною обаятельная личность П. П., подлинного ученого, в высшей степени скромного, но настоящего энтузиаста в деле исследования русского искусства. […]. Речь его, не лишенная тонкого юмора, всегда была полна тончайших наблюдений и, можно сказать, не по‑книжному, а глубоко, просто и образно раскрывала мне глубочайшие процессы развития русской национальной культуры…» (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1615. Л. 3 об.).
Только после описанной выше встречи с отцом Покрышкина Н. П. Сычёв стал понимать, что его старший друг относится к памятникам церковной архитектуры «не просто как архитектор, а с особым к ним пиэтетом» (Там же. Л. 4 об.). «Меня, не скрою, удивляло, – замечает он с искренним недоумением, – как в П. П. наряду с религиозностью, жил неиссякаемый источник жизнерадостности и тонкого остроумия, временами направленного и в сторону лиц духовного звания…» (Там же).
Это свидетельство очень важно. Оно помогает понять, что атмосфера семьи, в которой вырос и сформировался П. П. Покрышкин, была светлой, несмотря на все испытания, выпавшие на долю его родителей. Любовь и нежность к родным сохранялись у П. П. на протяжении всей его жизни. Тем не менее вполне очевидно: его аскетизм и жизнь «монахом в миру» имеют в основе именно впечатления детства. Конечно, ему самому искупать было, вроде бы, нечего. Но он с ранних лет воспринял «христианскую доблесть» просто, как норму жизни. В мирные времена это проявлялось в неустанной повседневной работе, самоотдаче, скромности во всем. На переломе эпохи жертвенность обрела иные формы.
Письма П. П. Покрышкина к В. Г. Леонтовичу позволяют приблизительно воссоздать круг мыслей и забот, которыми жил П. П. в 1917–1918 гг. Из них видно: лето и ранняя осень 1917 г. еще были заполнены для Покрышкина привычной работой – разъездами, осмотрами памятников и пр. В открытке от 11 июля он с мягким юмором упоминает о поездке в с. Поддорье Старорусского уезда, которую осуществил, «будучи вынужден к тому ультиматумом преосвященного Арсения Новгородского [Стадницкого. – Н. П .], объявившего, что если Покрышкин в конце июня не осмотрит церковь, то она будет сломана. Пришлось сделать 120 верст на лошадях…» (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1611. Л. 34). В письме от 30 сентября 1917 г. мы читаем: «…Я в Пермской губ. был, в Соликамске и выше по Каме до самой границы Вятской губ., сделал 120 снимков на «просроченных» пленках и вышли все хорошо…» (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1611. Л. 37).
Однако суета и неопределенность все более изматывают его. 19 октября (ст. ст.) 1917 г. Покрышкин пишет Леонтовичу: «Глубокоуважаемый, милый и дорогой Владимир Григорьевич. Что же Вы замолчали? Верно, некогда? И мне тоже ужасно некогда, сердце скребет от невозможности все выполнить, устаю сильно. Подайте о себе хоть весточку. Как поживаете? Как поживают Ваши? […]. Дай Бог вам быть здоровыми, счастливыми, веселыми, терпеливыми и уповать на Бога…» (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1611. Л. 38).
Из писем 1918 г. особый интерес представляют две открытки, написанные Покрышкиным с промежутком в один день – 27 и 28 июля (ст. ст.). Приведем их с небольшими сокращениями:
-
1. «Милый, дорогой Владимир Григорьевич!
-
2. «Милый, дорогой Владимир Григорьевич!
Делаю попытку переслать Вам эту весть о себе, в виду газетных сообщений об открытии границы для почтовых сообщений. Я, папа и сестра существуем по‑прежнему, хотя и недоедаем. […]. У меня имеются вести о том, что Вы уцелели и находитесь в добром здравии. Я соскучился, не имея вестей от Вас, да необходимость ликвидации нашей Буковинской поездки меня томит. Последнее Ваше письмо было с обещанием прислать большое (готовившееся тогда) письмо. Как‑нибудь коротенько сообщите о Буковине, пришлите, что имеете, готовым, отложив научную обработку до более удобного времени. Собираюсь писать Вам о многом. А теперь пишу на ускоре (так в тексте. – Н. П .). Кланяемся Вам и Вашим. Дай Бог Вам всем всего наилучшего.
Ваш П. Покрышкин […].» (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1611. Л. 40)
Поздравляю Вас с днем Вашего Ангела, поздравляем все мы и желаем Вам от души, от Бога всяких его милостей и благословений. Вчера я писал Вам, что мы живем по‑прежнему, как будто ничего особенного не случилось. Но это не совсем так: 1) 16 марта папа сломал ногу и теперь, хотя она срослась, но сделалась короче, папа ходит на костылях. 2) я привлечен к большой организационной работе: реформы и объединение всех научных учреждений в Комиссариате Народного Просвещения. Заседания ежедневно, весьма утомительные, для меня работа непривычная, я очень утомляюсь; приходилось просиживать ночи напролет, потому что правительство наседает с срочною выработкою реорганизаций. Очень досталась мне реорганизация Археологической Коммиссии, теперь самое трудное и спешное выполнение. Работы я не чуждаюсь, но питание крайне плохое, уехать же нельзя, не на что существовать, да и надо дорожить возможностью сделать что‑либо для дорогой моему сердцу Археологической Коммиссии, пользующейся со стороны Народного Комиссара большим вниманием. Обнимаю Вас, целую крепко, горячо. Является надежда увидеть Вас. Папа и сестра и я кланяемся Вам […].
Ваш П. Покрышкин […]» (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1611. Л. 39).
Таким образом, можно видеть: в середине 1918 г. П. П. Покрышкин еще живет прежним кругом дел и интересов. Его тревожит задержка с обработкой данных, собранных во время разъездов по тылам армии Брусилова на Буковине (1916–1917 гг.). Он просит В. Г. Леонтовича прислать, хотя бы в сыром виде, ту часть материалов, что осталась в Киеве. Работает он до изнеможения, по привычке принимая на себя роль главной рабочей лошадки в весьма запутанном деле организации и реорганизации учреждений, ведающих охраной и реставрацией памятников. При этом живет впроголодь - хотя новые государственные структуры используют его знания и опыт весьма активно. И все же ничто тут еще не предвещает ухода, последовавшего два года спустя. Скорее, напротив: П. П. всецело поглощен работой.
Именно сейчас стоит вернуться к любопытнейшему документу – некрологу П. П. Покрышкина, опубликованному И. Э. Грабарём. Он написан по самым горячим следам - 12 марта 1922 г. Между тем о смерти нашего героя где-то «в арзамасской глуши» научный мир узнал лишь в конце февраля – после получения Н. П. Сычёвым письма от Натальи Петровны, сестры Покрышкина, сопутствовавшей ему в его лукояновском житии 3. Следовательно, И. Э. Грабарь взялся за перо сразу, едва лишь скорбное известие из Петрограда дошло до Москвы. Почему?
Н. П. Сычёв написал некролог в те же дни. Но это был близкий друг: с ним П. П. до конца поддерживал переписку. Именно Сычёву он фактически завещал свой бесценный архив. А вот И. Э. Грабарь не был другом нашего героя. В 1918-1920 гг. он, скорее, являлся его врагом. Именно П. П. Покрышкин, глава Петроградского Археологического отдела4, весьма активно препятствовал стремлению И. Э. Грабаря единолично возглавлять и по своему усмотрению вести работы в области изучения древнейшей русской живописи ( Рославский , 2004. С. 172–200 и др.).
Детали этой борьбы еще будут выясняться, понятно одно: азартные, лихорадочные темпы поиска древнейшей живописи под поздними записями, с самого начала принятые «Комиссией Грабаря» 5, приводили П. П. Покрышкина в ужас (Платонова, Мусин, 2009. С. 1089). Он видел: работа идет с откровенными нарушениями, и понимал, что открытие будет чревато потерями. В сущности, его опасения оправдались. Потерь было больше, чем принято считать 6. Но «административный ресурс», которым располагал И. Э. Грабарь, в конечном счете оказался сильнее всех доводов (Рославский, 2004. С. 172–200 и др.).
Самым болезненным моментом для П. П. явилось «размежевание функций» между РАИМК и структурами Наркомпроса, вызванное этим противостоянием. Оно рикошетом ударило по нему как активному сотруднику Всероссийской коллегии по делам музеев, пытавшемуся именно в ее рамках сосредоточить основную работу в области охраны и реставрации памятников. Руководство РАИМК, обеспокоенное претензиями Московской части Коллегии, сочло это ущемлением своих прав ( Медникова , 1995. С. 205, 208–210). Но пострадала в результате не Московская часть, а Петроградский Археологический отдел, к 1919 г. уже превратившийся (неустанными трудами П. П. Покрышкина) в крупный научно‑ реставрационный центр. В 1920 г. он оказался развален. Такой удар со стороны Академии, правопреемницы «дорогой его сердцу Археологической Комиссии», видимо, оказался для П. П. последней каплей в чаше его бед. Но, конечно, современники знали, кто был главным двигателем интриги.
Можно предположить: И. Э. Грабарь, не мешкая, взялся за написание некролога П. П. Покрышкина с единственной целью – оправдаться, оставить научному миру собственную версию событий. Уход П. П. от дел и смерть его в глуши от сыпного тифа наделали шума в ученой среде. Об этом косвенно свидетельствует само содержание очерка И. Э. Грабаря. По утверждению его автора, единственной причиной ухода П. П. Покрышкина явилась реставрационная ошибка почти 20‑летней давности – облицовка храма Спаса‑Нередицы цементом, в ту пору новым, недостаточно испытанным материалом, в конечном счете дурно повлиявшим на сохранность фресок.
В конце 1910‑х гг., действительно, был поднят вопрос о необходимости срочных мероприятий для спасения нередицких стенописей. Из стана противников П. П. Покрышкина полетели прозрачные намеки на всяких «архитекторов‑археологов», уже «погубивших неудачными архитектурными реставрациями ценнейшие памятники древнерусской живописи и потому дующих на воду…» (Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи. Ф. 106. Оп. 1. Д. 1438. Л. 3, цит. по: Рославский , 2004. С. 271). Собственная позиция П. П. описана Н. П. Сычёвым так:
«Как известно, в 1903 г. П. П. ремонтировал в Новгороде церковь 1199 г. Спаса‑ Нередицы и облицевал ее фасады портланд‑цементом. […]. Закупоренный в эту облицовку, Нередицкий храм перестал «дышать». П. П. открыто признал свою ошибку и сам стал настойчиво требовать удаления облицовки, рекомендуя меня для исполнения этих сложных работ. Мне же лично, помню, говорил – «беритесь, беритесь за эту работу; это нужно сделать. Вы сделаете осторожно, а меня уж не судите, ведь «на всякую старуху бывает проруха», да и что тут я, когда памятник в опасности». Ратовал он за это дело долго и энергично. В конце концов мне пришлось взять на себя организацию этих работ и в течение двух лет Нере-дица была «раздета» от цементной облицовки и заново оштукатурена по древней рецептуре известковым раствором…» (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1615. Л. 5–5 об.).
А вот что пишет по тому же поводу И. Э. Грабарь: «…цементная штукатурка причинила немало бед храму и его фрескам, но то была вина всей Европы, увлекавшейся новым материалом […], а не одного Покрышкина. Что же делать, если человечество познает истину только через ошибки. Но нередицкие ошибки были слишком хорошо осознаны Покрышкиным: они придавили его своею тяжестью и были для него теми археологическими веригами, которые сковали всю его дальнейшую деятельность. Сейчас Спас‑Нередицкий [храм] снова освобожден от цемента и, обмазанный по старине известковым раствором, он вновь свободно дышет и живет. Не чудесно ли это совпадение: Покрышкин уходит как раз тогда, когда освобождается от давивших его вериг…» ( Грабарь , 1922. С. 33–34).
«Нередицкую версию» ухода Покрышкина следует оставить на совести ее автора. Бурная профессиональная деятельность П. П., продолжавшаяся до середины 1919 г., не дает никаких оснований говорить о «веригах», якобы «сковавших» его и «давивших». Болезненный перелом случился тогда, когда в Петро‑ граде был «убит» созданный и руководимый им научно‑реставрационный центр, превращенный во второразрядную канцелярскую организацию. Но как раз этот момент И. Э. Грабарь обходит стороной.
Тем не менее написанный им некролог является ценнейшим свидетельством, в котором между делом «проговариваются» детали и обстоятельства, ведомые лишь современникам.
«Помню последнюю встречу с ним на улице Москвы, перед отъездом его туда, откуда он более не вернулся. Как всегда, ласковый, деликатный, спокойный, он поразил меня необычайной для него непреклонностью воли и абсолютной убежденностью в том, что он не совершает ошибки, что делает то, что повелевает ему долг и совесть. «Но как же вы можете забыть и выбросить, как ненужный хлам, то, чем жили всю свою жизнь и что знали и любили, как никто из нас?» – спросил я его. «Если бы вы знали, до чего все это неважно, ненужно, и какие это все сущие пустяки, то вы, вероятно, поняли бы, почему для меня нет возврата ко всему этому», – отвечает он, глядя своими добрыми глазами. Было ясно, что Покрышкин, действительно, не вернется, но многие из нас задавали себе вопрос: “Неужели там, вдали от столичной свистопляски, ученых карьер и интриг, он ни разу не вспомнит о своих былых делах, всегда чистых и далеких от всего личного и мелочного, и не затоскует?” И вот его не стало…» ( Грабарь , 1922. С. 33).
Можно не сомневаться: Покрышкин простился с Грабарем именно так. По свидетельству Н. П. Сычёва, он «усердно трудился над приобретением чувства незлобия и любви к недоброжелателям» (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1616. Л. 5). По‑видимому, сведение на нет всех его трудов и начинаний, стоивших огромного напряжения сил, сломало для него привычную иерархию ценностей. Оборвались живые связи с прежним кругом дел и лиц. Зато – как это бывает с людьми тонкой душевной структуры в минуту отчаяния – пришло живое ощущение присутствия Бога… И тогда же последовало благословение умирающего отца на принятие сана (о чем упоминает в своем некрологе Н. П. Сычёв) (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1615. Л. 4).
Последняя встреча с П. П. Покрышкиным поразила И. Э. Грабаря. Поведе‑ ние недавнего противника показалось ему неожиданным и необъяснимым. Неслучайно в его очерке, при заведомой ложности основной идеи, пробиваются искренние, взволнованные нотки: «…Пусть те, кто ищет только ошибок, знают, что в археологических кругах Европы мало таких фанатиков науки, каким был Покрышкин, мало таких серьезных, глубоких, вдумчивых исследователей, как он…»; «…он давал свидетельства огромной научно‑технической находчивости, причем обладал исключительной требовательностью к себе и честностью по отношению к своей собственной научной совести…»; и т. д. ( Грабарь , 1922. С. 34).
Из текста И. Э. Грабаря ясно следует: хотя летом 1920 г. П. П. Покрышкин официально уезжал в отпуск по состоянию здоровья, в научных кругах Петрограда и Москвы знали, что он именно уходит, и знали, куда он уходит. Видимо, было какое‑то открытое письмо коллегам, дошедшее до нас лишь в виде кратких цитат, которые приводят (без ссылок) Н. П. Сычёв и И. Э. Грабарь. Источник цитат в то время был всем понятен.
О последних годах жизни П. П. отчасти можно судить по его письмам к Н. П. Сычёву. Из них дошли лишь отдельные фразы, включенные им в некролог 7. Но и они весьма показательны:
«Тело разрушается заметно, зато дух со дня на день обновляется… нет заботы о земном, трудись над укрощением злобы своего сердца…».
«Расстался я с петроградскими друзьями8…, так бы и обнял всех, за всех молюсь усердно, все записаны поименно и ежедневно поминаются за проскомидией, которая совершается не менее часа времени».
«Наша (с сестрою) жизнь затворническая, но в ней совершается кипучая работа… идет борьба с невежеством и некультурностью, сюда придется направить все силы…» (РО НА ИИМК. Ф. 21. Д. 1615. Л. 4–5).
Большой интерес представляют также находки в ЦАНО еще одного (анонимного) некролога П. П. Покрышкина и упоминаний о нашем герое в письмах викарного архиерея Поликарпа (Тихонравова), епископа Лукояновского. Из них видно, что П. П. вел «в арзамасской глуши» высокую жизнь христианского аскета. Он еже‑ дневно служил, много общался с паствой. Принимал людей и дома, в своей «комор-ке»; там же проводил занятия по «закону Божию» для детей. «…Когда он успевал отдыхать, трудно сказать […]. Если же ему давали деньги за требы, он не смотрел, сколько и что ему дали. Это был пастырь безсеребренник, пастырь молитвенник. Он не имел у себя ничего лишнего. Ходил в одной легкой рясе и в мороз и в дождь, ходил везде, куда ни позовут его, не стесняясь ни расстоянием, ни временем, ни погодою…» (ЦАНО. Ф. 1016. Оп. 2. Д. 181. Л. 412).
Лукояновский епископ Поликарп (1858–1931) был честным, энергичным человеком, старавшимся сделать церковную проповедь близкой народу. Он поддерживал православные братства, пытался создать пастырско‑миссионерские курсы. Первым помощником его в этих делах оказался священник о. Пётр По‑ крышкин. В письме к архиепископу Евдокиму (Мещерскому) от 20.08.1920 мы читаем:
«.. .Долг имею сообщить Вам, Владыко, [...]: по нужде, вследствие недостатка в сослужащих, нередко с дорогим о. Петром, без диакона, служу по-священнически. Кстати, об о. Петре. Миновало 40 дней, как он Священником – и все эти дни, беспрерывно, он служил. […]. Как энергичного моего сотрудника, […] я назначил его руководителем и устроителем Лукояново-Сергачских Миссионерских Курсов. Когда в собрании Бр [атства] Св[ятого] Кр[еста] зашел разговор о вознаграждении его по должности, П. П. заявил, что вознаграждения ему не нужно, и сказал только, что у него нет сапог…» (ЦАНО. Ф. 1016. Оп. 2. Д. 181. Л. 154 об. – 155).
Из письма от 11.06.1921: «…Только… успел возвести уважаемого о. Петра Петровича Покрышкина в сан протоиерея, а в день Святаго Духа он свалился на одр болезнию оспы; [...]. Почитателей у батюшки - масса, и все они теперь усердно молятся Спасителю Богу о выздоровлении больного…» (ЦАНО. Ф. 1016. Оп. 1. Д. 59. Л. 153–153 об.).
От оспы, подхваченной при посещении инфекционных бараков, о. Пётр выздоровел. Но «тело разрушалось заметно». А главное: к миру его уже ничто не привязывало – только долг, повелевавший нести свой крест до конца. В ночь с 5 на 6 февраля 1922 г. П. П. скончался от возвратного тифа. По свидетельству автора анонимного некролога, незадолго до этой последней болезни он молился: «Даруй мне, Боже, крылья улететь к Тебе, Создатель мой. Возьми меня из этого грязного и смутного мира в Твое блаженное Царство…» (ЦАНО. Ф. 1016. Оп. 2. Д. 181. Л. 412).
Похороны были торжественны. Все затраты взяли на себя лукояновские железнодорожники. Сам владыка Поликарп совершил чин погребения о. Петра со множеством духовенства. Был там и аноним, автор некролога, написавший: «Плач и рыдания заглушали пение хора монахинь и голоса священнослужителей. Многие в этот день не пошли на службу, хотя день был будничный. Было много крестьян, приехавших из окрестных сел отдать последний долг почившему, который лежал в гробу как живой […]. И долго, долго теперь его будут вспоминать. Мне говорили, что такого пастыря у них не было 25 лет…» (Там же. Л. 412 об.).
Собор, в котором отпевали П. П. Покрышкина, был взорван в 1931 г. Кладбище с его могилой уничтожено. Но память об этом ученом подвижнике действительно жива.
Список литературы Архитектор-археолог П. П. Покрышкин: страницы биографии
- Беляев Л. А., 2000. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. 2-е изд. СПб.: Алетейя. 576 с.
- Букова О. В., 2011. Из истории Лукояновского свято-Тихоновского женского монастыря и жизни его основательницы Анны Никифоровны Листовой//Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и его исторические корни на Нижегородской земле. Нижний Новгород: Глагол. с. 164-244.
- Грабарь И. Э., 1922. Петр Петрович Покрышкин//среди коллекционеров. М. № 3. с. 33-34.
- Дёгтева О. В., 2004. Служение Отечеству и Церкви. Петр Петрович Покрышкин//Нижегородская старина. № 9. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского Вознесенского Печерского мужского монастыря. С. 30-35.
- Дёгтева О. В., 2011. Протоиерей Пётр Покрышкин//Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и его исторические корни на Нижегородской земле. Нижний Новгород: Глагол. С. 147-161.
- Кызласова И. Л., 2006. Николай Петрович Сычёв. М.: Сканрус. 325 с. (Отечественная реставрация: personalia; вып. 1).
- Медведева М. В., 2004. Пётр Петрович Покрышкин и проблемы охраны памятников (по материалам архивов ИИМК РАН)//АВ. Вып. 11. С. 379-387.
- Медведева М. В., Мусин А. Е., 2009. Императорская Археологическая комиссия: реставрация и охрана памятников культуры//Императорская Археологическая комиссия. 1859-1917/Ред.: А. Е. Мусин, Е. Н. Носов. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 926-1064.
- Медникова Е. Ю., 1995. Деятельность академика архитектуры П. П. Покрышкина в Императорской Археологической комиссии (по материалам рукописного архива ИИМК РАН)//АВ. Вып. 4. С. 303-311.
- Михайловский Е. В., 1971. Реставрация памятников архитектуры. Развитие теоретических концепций. М.: Стройиздат. 190 с.
- Памятники архитектуры в дореволюционной России. Очерки истории архитектурной реставрации/Ред. А. С. Щенков. М.: Терра -книжный клуб, 2002. 528 с.
- Платонова Н. И., Мусин А. Е., 2009. Императорская Археологическая комиссия и ее преобразование в 1917-1919 гг.//Императорская Археологическая комиссия. 1859-1917/Ред.: А. Е. Мусин, Е. Н. Носов. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 1065-1115.
- Покрышкин П. П., 1906. Отчет о капитальном ремонте Спасо-Нередицкой церкви в Новгороде в 1903 и 1904 годах. СПб.: Тип. Гл. управления уделов. 36 с., 27 л. ил. (Материалы по археологии России, изданные Императорской Археологической комиссией; № 30).
- Покрышкин П. П., 1915а. Краткие советы по вопросам ремонта памятников старины и искусства//Изв. ИАК. Вып. 57: Вопросы реставрации. Вып. 15. Пг.: Тип. Гл. управления уделов. С. 178-190.
- Покрышкин П. П., 1915б. Памяти Д. В. Милеева//Изв. ИАК. Вып. 57: Вопросы реставрации. Вып. 15. Пг.: Тип. Гл. управления уделов. С. 1-2.
- Рославский В. М., 2004. Становление учреждений охраны и реставрации памятников и искусства и старины в РСФСР, 1917-1921 гг. Игорь Грабарь и реставрация. М.: Полимаг. 392 с.
- Чехов А. П., 1974. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 19: Письма. Т. 1: 1875-1886. М.: Наука. 581 с.
- Штендер Г. М., 1961. Восстановление Нередицы//Новгородский исторический сборник. Вып. 10. Новгород: Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник. С. 169-205.
- Ямпольский И. Г., 1968. //Пушкарев Н. Л. Стихотворения. (Из кн.: Поэты 1860-х годов. 3-е изд. Л.: Советский писатель, 1968). URL: http://az.lib.ru/p/pushkarew_n_l/text_0020.shtml. Дата обращения: 01.02.2016.