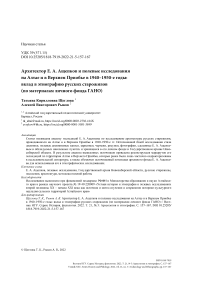Архитектор Е. А. Ащепков и полевые исследования на Алтае и в Верхнем Приобье в 1940-1950-е годы: вклад в этнографию русских старожилов (по материалам личного фонда ГАНО)
Автор: Щеглова Т.К., Рыков А.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 5 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу экспедиций Е. А. Ащепкова по исследованию архитектуры русских старожилов, проводившихся на Алтае и в Верхнем Приобье в 1940-1950-е гг. Источниковой базой исследования стали дневники, полевые дневниковые записи, зарисовки, чертежи, рисунки, фотографии, сделанные Е. А. Ащепковым в обследуемых населенных пунктах и хранящиеся в его личном фонде в Государственном архиве Новосибирской области. В результате анализа выявленных источников проведена реконструкция маршрутов его экспедиций по территории Алтая и Верхнего Приобья, которые ранее были лишь частично охарактеризованы в исследовательской литературе, а также обозначен источниковый потенциал архивного фонда Е. А. Ащепкова для использования его в этнографических исследованиях.
Е. а. ащепков, полевые исследования, государственный архив новосибирской области, русские старожилы, поселения, архитектура, методика полевой работы
Короткий адрес: https://sciup.org/147237707
IDR: 147237707 | УДК: 39 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-5-157-167
Текст научной статьи Архитектор Е. А. Ащепков и полевые исследования на Алтае и в Верхнем Приобье в 1940-1950-е годы: вклад в этнографию русских старожилов (по материалам личного фонда ГАНО)
Уровень развития региональной этнографии во многом определяет источниковая база. Ее основой служат полевые материалы исследователей, проводивших экспедиции на территории Алтая и Верхнего Приобья. Накопление этнографических источников в XX столетии велось как в русле комплексных экспедиций, так и в индивидуальных полевых исследовани- ях. Их история еще не написана, так же как не оценен вклад исследователей XX столетия в историческое и этнографическое изучение населения Алтайского края, который до 1989 г. состоял из двух обширных территорий юга Западной Сибири – собственно территории современного Алтайского края и территории современной Республики Алтай (бывш. Ойротской, а с 1948 г. Горно-Алтайской автономной области), а также Рудного Алтая (совр. Республика Казахстан) до 1924 г.
Судьба экспедиционных материалов исследователей складывалась по-разному. Часть полевых материалов использована ими самими в аналитических публикациях, часть хранится в личных архивах, в отдельных случаях они сдаются в ведомственные архивы и редко передаются в государственные архивы. Основной формой хранения этнографических источников в последнем случае является создание личных фондов. Такой подход к полевым материалам авторов перспективен, так как их архивирование служит гарантией сохранения уникальных источников с организацией доступа к ним исследователей при сохранении авторских прав. Примеров создания личных фондов этнографов в региональных архивах Сибири немного.
Практика передачи на государственное хранение полевых этнографических материалов является редким явлением. Вместе с тем изучением культуры русских сибиряков занимались не только этнографы, но искусствоведы, географы, архитекторы, полевые материалы которых отложились в государственных архивах Сибири и имеют большой потенциал для этнографических исследований. Среди них личный фонд Е. А. Ащепкова, известного архитектора, доктора искусствоведения, члена-корреспондента Академии архитектуры СССР. Как известно, он в 1936 г. окончил Новосибирский инженерно-строительный институт (НИСИ). Работал в проектном отделе СибВО, а также в Новосибгорстройпроекте, одновременно занимаясь научно-исследовательской работой. В 1938–1942 гг. обучался в аспирантуре при кафедре архитектуры НИСИ. Его основной научной темой стало изучение русского народного зодчества. Он собирал источники сначала для кандидатской («Народная архитектура Сибири», защитил в 1942 г.), затем докторской диссертации («Народное зодчество Западной и Восточной Сибири и его отличительные черты», защитил в 1947 г.) 1. Его научные интерпретации сделаны в диссертационных работах в русле искусствоведческих оценок, что обусловило и ракурсы анализа крестьянской архитектуры. Поэтому интересно взглянуть на созданные им источники глазами этнографов.
В статье ставится ряд задач: выявить время и маршруты полевых исследований на Алтае и в Верхнем Приобье, дать оценку условиям и методам полевых исследований и, наконец, определить источниковый потенциал документов его личного фонда в Государственном архиве Новосибирской области (Ф. Р-2102) 2 для этнографии населения Алтая и Верхнего При-обья. Предмет своего исследования он сам назвал «Народная архитектура». Она в рассматриваемое время находилась в фокусе интересов как этнографов, так и искусствоведов, объекты исследования у которых часто совпадали. Объектами полевой работы Е. А. Ащепкова как архитектора являлись, во-первых, традиционные для этнографии элементы материальной культуры русского населения, связанные с поселенческим комплексом, – это застройка и планировка села, крестьянская усадьба с жилыми и хозяйственными постройками, крестьянская архитектура, включая резьбу, роспись, архитектурные детали, а также огораживания усадьбы и ворота. Во-вторых, в поле его зрения попадали многие хозяйственно-бытовые картины жизни, которые он фиксировал и которые представляют интерес для этнографов. И, в-третьих, мимо внимания исследователей, занимавшихся его творчеством, прошла фиксируемая им информация о происходивших в 1930–1940-е гг. процессах как результате влияния политики советского государства, которые меняли облик деревни. В совокупности цель и задачи связаны проблемой реконструкции исследовательских маршрутов экспедиций с уточнением полного списка обследованных населенных пунктов и баз данных по каждому из них.
Как оказалось, несмотря на наличие публикаций и биографических статей о Е. А. Ащеп-кове [Майничева, Рудая, 2008; Комиссаров, Азаренко, 2014; Слабуха, 2016; Гаркуша, Филонов, 2017], его экспедиционная деятельность на юге Западной Сибири остается малоизученной. Единственной работой, где она рассматривается, является монография А. П. Долнакова [1992], но и там затрагивается только одна из экспедиций – на Западный Алтай. Анализ имеющейся научной литературы показал, что опубликованные данные нуждаются в существенной корректировке. В частности, требуют уточнения и время, и места экспедиционных выездов исследователя. В энциклопедических статьях фигурирует только одна экспедиция на Алтай [Туманик, 2010]. Можно предположить, что авторы опираются на данные А. П. Дол-накова: «…в 1942 году Е. А. Ащепков уходит с преподавательской работы в НИВИЖТе и в течение двух полевых сезонов по заданию Академии архитектуры обследует районы Алтайского края и Рудного Алтая (Северо-Казахстанская область Казахской ССР). Маршруты экспедиции пролегли в бассейнах рек Иртыша, Бухтармы, Нарыма, Сарым-Сака» [Долнаков, 1992, с. 39]. Но указанную информацию не подтверждают экспедиционные материалы самого Е. А. Ащепкова; за этот год они отсутствуют в архивном фонде. Согласно составленному самим исследователем списку научных экспедиций, «проведенных единолично Е. Ащепко-вым по отдален. районам З.С., Алтая и Восточной Сибири с целью изучения Сибири», в 1941–1942 гг. экспедиции не проводились, экспедиция в Западный Алтай прошла в 1943 г., а в 1944 г. – «экспедиция в Юж. Алтай и на Восток» 3. Можно предположить, что на Алтае Е. А. Ащепков работал два полевых сезона, и не в 1942-м, а в 1943–1944 гг. Именно в 1943 г. им была проведена экспедиция на территории Западного Алтая (район р. Бухтармы и Нары-ма, совр. Республика Казахстан, до 1924 г. территории входили в Алтайский округ). В ходе этой экспедиции им были обследованы более 10 населенных пунктов. Наибольший исследовательский интерес у Е. А. Ащепкова вызвали села, входящие сегодня в Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан: Язовая (ныне Жазаба), Фы-калка (ныне Бекалка), Белая (ныне Аксу), Коробиха, Печи (ныне Барлык). Еще одна экспедиция, вероятно, была проведена в 1944 г. Точных сведений о ней нет. По мнению авторов, в рамках данной экспедиции Е. А. Ащепков побывал на территории современного Каменского района Алтайского края. Во время данной экспедиции им были обследованы села Мале-тино, Ключи, Столбово, Аллак, Дресвянка, а также г. Камень-на-Оби.
Хронологические рамки исследования охватывают период 1940–1950-х гг., во время которого Е. А. Ащепковым проводились экспедиционные исследования на территории Алтая с завершением обработки полевых материалов и защитой двух диссертаций – кандидатской и докторской. Территориальные рамки охватывают районы полевых исследований и, по мнению авторов, обусловлены местами проживания старожилов – старообрядцев (Бухтарма) и чалдонов (Каменское Приобье). Формой полевой работы Евгения Андреевича были индивидуальные исследования, которые он проводил, как свидетельствуют записи, «по заданию Академии архитектуры СССР». Перед ней он и отчитывался 14 февраля 1944 г. за экспедицию в Рудный Алтай. Как он писал сам, работал «единолично». В этом состояло отличие от этнографических экспедиций столичных этнографов 1920–1940-х и особенно 1950– 1970-х гг., в состав которых включали наряду с этнографами профессиональных художников и фотографов для фиксации этнографических памятников: от архитектуры до рушников и тканья. Преимущества Ащепкова как раз заключались в том, что он как архитектор обладал всесторонними навыками для фиксации информации, в том числе рисования и черчения, и в экспедициях сочетал в одном лице и исследователя, и фотографа, и художника.
Источниковая база настоящей публикации представлена 26 архивными делами личного фонда Е. А. Ащепкова – зарисовки, чертежи, рисунки, фотографии, сделанные им в обсле- дуемых населенных пунктах. В совокупности территориальная принадлежность определяется у 121 черновой зарисовки полевого дневника, 97 чистовых зарисовок, сделанных на основе черновых при подготовке монографии, а также 92 фотографий. Остальные не определяются. Значительная часть зарисовок и фотографий им опубликована. Однако в архивных документах, таких как экспедиционный дневник в виде путевых записок с зарисовками, неопубликованных статьях («Народное зодчество в некоторых районах Алтая. Материалы экспедиции») 4 и других содержится богатый этнографический материал.
Анализ материалов и обсуждениеУсловия экспедиционной деятельности
«Единоличные» поездки Е. А. Ащепкова имели неблагоприятные материально-бытовые условия и были сопряжены с опасностью, прежде всего из-за ограниченных возможностей передвижения во время экспедиций. Анализ материалов исследователя позволяет говорить о трех «самостийных способах» – пешком от поселения к поселению, на лошадях или попутным транспортом, чаще всего на грузовых машинах. Как Е. А. Ащепков писал в полевом дневнике об исследованиях в с. Язовое, в которое он добирался из с. Белое (расстояние около 20 километров): «Сегодня иду дальше. Очень болит нога. Не знаю, смогу ли одолеть 20 километров. Как видно, нет. Остался ночевать в с. Язовая. Была возможность идти в два места, но пошел, где ближе к ком. двору, завтра с рассветом выйду в Белую – Ночь прошла с рассветом вышли в горы чувствую себя превосходно и нога лучше, поднимаюсь в горы, на вершине сел отдохнуть и встретить восход солнца… К полудню добрался до Белой, взялся опять за работу. Все просмотрел, что достойно, больше сидеть здесь не стоит» 5. При обследовании Фыкалки и окрестных сел, судя по воспоминаниям Е. А. Ащепкова, оставленным в неопубликованной статье, он использовал лошадей: «Неприступные скалы, глубокие долины, горные речки, встречающиеся на пути, делают продвижение крайне медленным и тяжелым. С каждым километром вглубь гор местность становиться суровее и диче… Дорога круто спускается вниз, ехать верхом становиться невозможно, ежеминутно рискуешь перевернуться через голову лошади». А вот из Усть-Каменогорска в Катон-Каргай Ащепков добирался на грузовой машине (21 августа 1943 г.): «…в Катон-Карагай поехал совсем больным с высокой to и больным желудком на машине. Сильно трясло и мне казалось, что это последняя моя поездка» 6.
Экспедиционные маршруты и методика полевой работы
Первая документально подтвержденная экспедиция Е. А. Ащепкова на юге Западной Сибири состоялась в 1943 г. Ее основной маршрут указан на карте, составленной исследователем и опубликованной в монографии [Ащепков, 1950, с. 10]. Евгений Андреевич обдумывал несколько вариантов маршрута для экспедиции. Работа с неопубликованными документами позволила полностью реконструировать маршрут с указанием всех обследованных поселений и оценить этнографическое содержание оставленных им материалов. Экспедицию можно разделить на две части: от Усть-Каменогорска до Катон-Карагая (с 5 по 24 августа 1943 г.) и поселения за Бухтармой (25 августа 1943 г.). Анализ показывает, что основное внимание архитектора было сосредоточено на старожильческой архитектуре, характерной для русских Рудного Алтая, в ее описании содержится информация о влиянии переселенцев и происходящих изменениях в крестьянской архитектуре. Как свидетельствуют записи в дневнике, 5 августа 1943 г. Е. А. Ащепков выехал в полночь из Новосибирска в Усть-Каменогорск. Он описывает город в течение недели, делает выводы об отсутствии искусствоведческой ценности, но оставляет этнографическую зарисовку, характерную для того времени: «…я не нашел ни одного достойного фотографии объекта – все обычно и малоинтересно. Деревянная архитектура крайне огранич. даже бедная. Особенно старых построек не сохранилось, а если, что и встречалось, то преимущественно распространённые сельские избы (перевезённые из района) со связью». Черты исторической эпохи проявляются и в фразе «Есть небольшая церковь, построенная лет 50 тому назад, но в виду запретной зоны (тюрьма) осмотреть ее не удалось», а для историков будет интересна фраза о крепости «от которой не осталось ничего кроме вала» 7. Этнографический взгляд проявился в выводе о влиянии украинской культуры на архитектурный облик предместья Усть-Каменогорска: «Город встречает предместьем – Ульбинкой с мазаными и побеленными деревянными и саманными избами, поселок в основном напоминает украинскую деревню с обрусевшим населением. Беленки хатки, огороды с журавлями колодцев, подсолнухи – близкие и далекие от Украины» 8.
В следующих по маршруту поселениях Большой Нарым (ныне с. Улькен Нарын) и Бураново, которое впоследствии войдет в Большой Нарым, он отметил схожие тенденции в развитии архитектуры с Усть-Каменогорском: «…наличники с фронтонами и без резьбы». К выявленным этнокультурным особенностям он относит «часть изб без крыш, говорят, что это особенность старых казацких построек» 9. Из содержащихся описаний старожильческой архитектуры можно не только сделать вывод о «скудном» оформлении, но и найти информацию о преобладающих типах старожильческого жилища: «Через 2 часа проехали д. Бол. Березовка, расположенная по р. Нарым. Деревня слишком обычная негде даже остановиться. Бедные избы, крайне примитивными наличниками, никакой попытки к оформлению. Избы в основном пятистенные и со связью, дворов почти нет», но при этом делает зарисовки наиболее выразительных фрагментов, например, конька избы из с. Большая Березовка 10. А в селах Медведка (ныне с. Белкарагай), Алтай, Катон-Карагай в записях дневника отражается строительный материал и взаимовлияние славянской и тюркской культуры: «Неожиданно въехали в узкую – главную улицу села, засаженную большим деревьями. По обеим сторонам улицы текут ручьи-арыки проведенные в улицы из горных речушек. Избы – коричневые от времени из крепкого листвяка – дружно столпились вдоль арыков» 11.
Выбор села Катон-Карагай, на котором обрываются дневниковые записи, и других, расположенных вокруг, Ащепков обосновывал тем, что архитектура этой части Рудного Алтая отличалась цельностью, что проявлялось в «удивительной гармонии сельских построек с окружающей обстановкой и пейзажем…» (с. Медведка), когда «все звучит в один тон: общность планировки изб – чаще связью, одинаковая высота изб, один цвет бревенчатых стен – крепки, ядрены – прекрасно акцентированы скромной, лаконичной декоративной обработки оконных проемов». Таким образом, объединяет архитектуру этих поселений, по мнению Ащепкова, отсутствие резьбы и окраски, а также однообразное и сухое решение наличника и отличающее от бухтарминской группы поселений влияние города на старообрядческую архитектуру 12.
Второй этап экспедиционного маршрута начался 25 августа 1943 г. Его можно восстановить по данным дневника и неопубликованным материалам. Он проходил на территории, находящейся за р. Бухтармой, в так называемой «ясачной части», заселенной потомками кержаков, раскольников и старообрядцев, бежавших в труднодоступные районы от царской власти. На ней располагались села Каменка (ныне с. Мойылды), Фыкалка, Белое, Язовая и ряд других.
Трудности обследования этой территории состояли в том, что, во-первых, в эти села вела лишь дорога через единственный мост; во-вторых, нужно было добираться попутным транс- портом. Как писал исследователь, «только после 7-ми дневных поисков попутчиков или какого-либо транспорта наконец удалось найти “полуживую” лошадь, случайно забредшую в село Алтай из поселка Репинский парк, находящегося в 8 км от деревни Фыкалка. Выбора не было и пришлось взяться “отогнать” клячу по месту назначения… Ехать пришлось с большим отклонением от прямого пути, в виду того, что лошадь, предложенная для поездки не в состоянии была переплыть бурную реку Бухтарму на прямом пути и пришлось ехать в объезд через старый мост, что представляло лишних 100 километров». На этом пути ему встречались не только русские деревни, но и деревни коренного населения – «казахов и киргизов», описание (1940-е гг.) которых будет интересно тюркологам: «Эти постройки производят впечатление временно, наспех сооруженных курных бань, без каких-либо надворных построек. В некоторых случаях жилища организованы 6–8-ми угольных врубах, перекрытых шатром, устроенным из жердей и дерна» 13.
В описаниях архитектуры бухтарминских старообрядцев содержатся базовые этнографические характеристики: типы и виды, внешнее убранство, усадьбы; планировка, застройка поселений. Как и в предыдущей зоне, отмечает лаконичность: «Одна главная улица ( значок перпендикулярности ) реке Бух… Дома в основном со связью и пятистенные. Д. однопорядковая. Огороды при усадьбах отсутствуют. Вынесены за поскольку д. расположена на высоком правом берегу реки Бухтармы. Архит. Все просто и строго, резьбы нет, простые наличники со строгими профилями. Окраска в (одной двух) избе. Видна любовь к терраскам» (с. Каменка). А таже встроенность в окружающий ландшафт: «Все звучит в унисон с окружающей, какой-то особенно неприветливой в этом месте, природой». А в целом для этой территории характерны «внешнее оформление построек очень простое… Декоративная обработка изб очень ограничена и подчеркнуто лаконична» 14.
В отличие от поселений предыдущей зоны здесь Ащепков расширяет методы исследования и фиксации информации: прорисовки с указанием цвета, чертежи, массовая или выборочная фотофиксация. Часть материалов опубликована, основная часть – нет. Связано это в том числе и с появлением домовой росписи, которую надо было фиксировать. Так, для той же Каменки Е. А. Ащепковым был составлен план (черновая версия в полевых записях автора, чистовой вариант опубликован в монографии) и в полевом дневнике сделаны зарисовки наличников окон, на которых дополнительно обозначено наличие разных цветов (не опубликованы). В Каменке, как и в других селах, он делал фотографии отдельных и общих видов поселения (не опубликованы, частично реализованы в Приложении к докторской диссертации) 15.
Основным объектом этой части экспедиции стала Фыкалка, которая представлялась Е. А. Ащепкову местом концентрации образцов архитектуры Бухтармы, так как «являлась пионером в заселении данного района и сообщила определенный колорит, характер последующим поселкам, как Белая, Язовая и друг.». Также она демонстрировала крестьянские традиции выбора места с использованием природного ландшафта: «Главная улица ориентирована с юго-запада на северо-восток, перпендикулярно горным хребтам, как-бы организует, стягивает долину, образуя, таким образом, хозяйственными постройками своеобразный заслон от господствующих восточных и западных ветров… В основном почти все усадьбы одной стороны примыкают к воде, таким образом, обеспечена хорошая поливка огородов и удобное ведение хозяйства» 16. Им зафиксировано разными способами – зарисовкой, прорисовкой цветом, чертежом, фотографией – всё разнообразие типов жилищ, чертежи построек и их рисунки полностью или отдельных архитектурных элементов – причелин, коньков, карнизов, балконов, террас, крылец, фризов, наличников окон и т. д., чертежи общего плана села, окон [Ащепков, 1950, с. 23, 25, 33, 34, 38, 42, 55, 56, 71, 77, 89, 107, 108, 115, 128, 131,
133] 17. Масштабное фотографирование представлено снимками улиц, разных типов изб (изба с прирубом, с открытой связью, с подклетью, двухсвязный дом), их элементов, а также разных ворот 18. Из них в монографии опубликовано только семь фотографий.
По следующим населенным пунктам информация сохранилась преимущественно в полевых записях Е. А. Ащепкова. Они носят отрывочный характер и не связаны с предыдущими записями. По ним трудно реконструировать дальнейший маршрут. Но точно известно, что Евгений Андреевич сначала оказался в с. Белом, а оттуда делал выезд в с. Язовое, затем обследовал села Коробиха, Печи, Согренная, Дыроватка, Чингис (ныне с. Шынгыстай). Все их объединяют характерные для старожильческой архитектуры черты. Это отмеченная им аске-тичность старожильческой архитектуры: «…избы (с. Белое) строили как братья дружно столпившись в лощине. Как характерная черта изб этого района исключительная простота форм, чем старше изба, тем проще оформление, древние избы прямо аскетичны – своей строгостью». Это типы жилища: «…планировка в большинстве случаев обычная – избы со связью и крестовые» (Язовка); «Много изб с простыми повалами и двойным причелинами, коньков нет...». Это «бедность резьбы»: в с. Язовое «резьбы почти нет, а что осталось то по схеме»; в с. Белом «единственным мотивом оформления является оконный наличник и кое-где расписные наружные дверцы. Наличники как принято исключительно простые…». Эту особенность архитектуры данной этнокультурной зоны он объясняет влиянием города: «…только под влиянием города, деревня теряет свое лицо – впитывая в себя “городскую культуру” с её дешевой выпиловкой». Это и наличие домовой росписи, которую он фиксирует двумя способами: в черновиках с указанием цвета каждого элемента и с пояснениями автора к зарисовке – наличников, росписей стен, потолка и дверей, а также матиц дома 19. Это вписанность в ландшафт, что позволяло дополнять и украшать традиционные типы жилища способами, адаптированными к условиям конкретной территории.
Для бухтарминской группы крестьянской архитектуры при отмеченной исследователем «бедности» и «скудности» таким адаптированным элементом стали терраски. Деревня Язо-вая, как пишет Е. А. Ащепков, «расположена… в долине, образуемой высокими холмами… Преобладают открытые терраски и балкончики. Это и естественно, положение села, расположенного в горах и хорошо защищенного от ветров дает возможность устройства открытых террас и балкончиков» 20.
В целом по этой группе старожильческой архитектуры осталось в полевом дневнике экспедиции много чертежей, зарисовок, фото, планов домов, зарисовок окон, наличников, коньков, причелин, карнизов, повалов, дверей, фризов, колонн террас 21. Выборка позволяла представить общую архитектурно-застроечную среду поселений, например, от разных типов жилых (изб пятистенных, клетью, связью, крестовых, двухэтажных) и хозяйственных (амбаров) строений до особенностей декоративно-прикладных элементов.
И уже совершенно этнографическое описание оставил Е. А. Ащепков архитектуры деревни Малая Красноярка, которая была затоплена Бухтарминским водохранилищем. Следуя традициям старожильческой архитектуры, Ащепков, опубликовал из материалов экспедиции только расписную дверь 22. Но не меньшее значение имеют материалы о саманных постройках, которые составляли хозяйственно-жилую среду деревни, анализ особенностей их строительства, типов используемых крыш (плоской и двухскатной, залитой глиной и т. д.), а также внутренней планировки. Хотя основное внимание он обратил на деревянные элементы – наличники и колоны крыльца.
Итоги этой экспедиции были подведены Е. А. Ащепковым в докладе на заседании Академии архитектуры СССР (14 февраля 1944 г.) и получили высокую оценку: «проделана по заданию Академии архитектуры большая, весьма ценная работа по изучению народного жилища Сибири» с выводом о необходимости «продолжения работы т. Ащепкова по изучению и сбору материала в неисследованных районах Сибири… в целях подготовки капитального труда по народному жилищу Сибири». Для этого предлагалось разработать план дальнейших исследований и включить его в план работы Института с выделением соответствующих средств. Весь экспедиционный материал должен был быть передан в фонд Академии архитектуры. Он же должен был послужить основой для организации выставки в Академии архитектуры СССР с докладом автора 23.
Можно предположить, что вторая экспедиция в районе современного Каменского района Алтайского края являлась следствием высокой оценки Академии архитектуры. По нашему мнению, она прошла в августе 1944 г. Во-первых, сам Е. А. Ащепков в списке научных экспедиций указывал поездки на Алтай в 1943 и 1944 гг. Во-вторых, определить год помогают данные из блокнота экспедиции. На дневнике экспедиции есть числа, выстроенные в ряд. Некоторые из них обведены или зачеркнуты. Всего их 22, и они охватывают период от 12 до 31. На основании этого, а также того, что, как писал сам Е. А. Ащепков, «экспедиции проводились в основном в летнее время свободное от работы в институте», можно сделать осторожный вывод, что это указаны дни экспедиции. Напротив числа 22 мелким почерком подписано «вторник». Если свериться по календарю, то в 1944 г. в летние месяцы вторник выпадал на 22 августа. Август также подходит и по количеству дней – 31. Наконец, в-третьих, косвенным свидетельством может выступать то, что в этом же блокноте перед началом зарисовок из данной экспедиции имеются зарисовки разных вариантов обложки будущей книги с названием «Русское народное зодчество в Сибири» 24. Логично предположить, что эти идеи, скорее всего, появились в начале 1944 г., после выступлений Е. А. Ащепкова в Москве.
Вторая экспедиция охватила села Малетино, Ключи, Столбово, Аллак Каменского района, а также город Камень-на-Оби. Выбор определялся преобладанием старожильческого населения, представленного группами чалдонов, кержаков и кацапов, из переселенцев – хохлами [Щеглова, 2009]. В экспедиционном блокноте есть зарисовки маршрутов из с. Малетино через Ключи и Столбовую в Аллак, а также из с. Столбовой в Аллак с пометками по километражу, а также основных перекрестков и ответвлений; отдельных архитектурных элементов домов (наличников, причелин, карнизов), ограждений (калиток, ворот) из данных населенных пунктов. Помимо этого, имеется и чертеж одного из домов 25. Однако материалы Приложения к его докторской диссертации 1946 г. («Материалы по зодчеству в Западной Сибири») позволяют включить в маршрут этой экспедиции с. Соколово. Из этого же села имеются фотографии и чертежи отдельных элементов домов. Здесь же представлены фотографии улиц сел Малетино и Ключи, а также фотографии и чертежи отдельных элементов изб данных населенных пунктов. В этом же приложении представлены и материалы подобного плана с. Дресвянка 26. Отдельные черновые материалы зарисовок, а также фотографии поселений этого региона хранятся в самом фонде Е. А. Ащепкова как отдельные единицы хранения 27.
Заключение
Подводя итоги проведенному исследованию, можно говорить о большом источниковом потенциале архивного фонда Е. А. Ащепкова. Несмотря на то что им была опубликована значительная часть зарисовок, фотографий и чертежей, их анализ проведен через искусствоведческую «лупу». Новое этнографическое прочтение и опубликованных, и особенно не- опубликованных полевых материалов Е. А. Ащепкова, позволяет выявлять традиции и тенденции развития поселенческой инфраструктуры и архитектурно-застроечной среды населенных пунктов русских старожилов, условий и факторов развития традиционной культуры в 1940–1950-е гг. Самостоятельное значение имеет анализ методики полевой работы архитектора Ащепкова, которая может быть полезна для этнографов. Она включает, с одной стороны, традиционные для этнографов экспедиционные дневники. В них содержится разнообразная информация, и не только о народном зодчестве русских, представленной старожильческой крестьянской архитектурой, но и включение в описание наряду со строительными традициями хозяйственно-культурной деятельности не только русских, но и других этнических групп исследуемых районов, связи народных культур с природным ландшафтом. Важным являлись зафиксированные исследователем проявления в сельском ландшафте городской культуры, в частности выявленное им влияние архитектуры Усть-Каменогорска на окрестные села и села Бухтарминского края, так же как в Каменском Приобье взаимосвязь крестьянской архитектуры с архитектурой Камня-на-Оби. Преимуществом оставленного архитектором Е. А. Ащепковым наследия в виде зарисовок, прорисовок, чертежей является их доступная визуальная информация. Этнографическим взглядом отличаются начерченные планы деревень, жилищ и хозяйственных построек. Для этнографов представляют интерес художественные зарисовки архитектурных элементов крестьянских усадеб с тщательной прорисовкой ценных с позиций искусствоведческого анализа деталей и сочетания цветов.
К общим выводам можно отнести утверждение о более активном использовании фондов региональных архивов и выявление их потенциала для изучения региональной этнографии. Не умаляя сложившегося в этнографической науке приоритета полевых материалов авторов, необходимо говорить о более активном использовании архивных документов, которые содержат ту информацию, которая уже не фиксируется в полевых исследованиях. Полевая работа проводилась специалистами смежных научных сфер – от географов до архитекторов. И прочтение их с этнографических позиций расширяет возможности этнографии. В этом отношении выявленные в статье маршруты с уточнением обследованных сел Алтая и Верхнего Приобья, времени проведения полевых материалов позволяют дополнить этнографическое наследие по материальной культуре старожильческого населения двух регионов – Рудного Алтая и Каменского Приобья.
Список литературы Архитектор Е. А. Ащепков и полевые исследования на Алтае и в Верхнем Приобье в 1940-1950-е годы: вклад в этнографию русских старожилов (по материалам личного фонда ГАНО)
- Ащепков Е. А. Русское народное зодчество в Западной Сибири. Москва: Изд-во Акад. архитектуры СССР, 1950. 140 c.
- Гаркуша Д. Д., Филонов С. В. Характеристика персонального архива Е. А. Ащепкова в собрании МИАС им. С. Н. Баландина // Баландинские чтения. Новосибирск, 2017. Т. 12. С. 153-163.
- Долнаков А. П. Сибирский архитектор Е. А. Ащепков. Новосибирск: Наука, 1992. 117 с.
- Комиссаров С. А., Азаренко Ю. А. "Китайский след" в творчестве Е. А. Ащепкова // Баландинские чтения: Сб. ст. VIII Науч. чтений памяти С. Н. Баландина. Новосибирск, 2014. С. 286-291.
- Майничева А. Ю., Рудая И. М. Наследие Е. А. Ащепкова: Фотографии построек верхоленских сел (1970-е гг.) // Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции: Материалы Западносиб. археол.-этнограф. конф. Томск: Аграф-Пресс, 2008. С. 58-60.
- Слабуха А. В. Е. А. Ащепков: "Красноярск - один из значительных и интересных в архитектурном отношении городов Сибири" (о проекте ненаписанной книги) // Баландинские чтения. Красноярск, 2016. Т. 11. С. 225-227.
- Туманик А. Г. Ащепков Евгений Андреевич // Историческая энциклопедия Сибири: В 3 т. Новосибирск: Историческое наследие Сибири, 2010. Т. 1: А-И. С. 150.
- Щеглова Т. К. Русское население Алтайского края: состав, формирование, численность // Краеведческие записки. Барнаул, 2009. Вып. 8. С. 119-134.