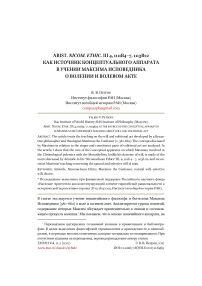Arist. Nicom. Ethic. III 4, 1111b4-7, 1113b22 как источник концептуального аппарата в учении Максима Исповедника о волении и волевом акте
Автор: Петров Валерий Валентинович
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.11, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется учение византийского философа и богослова Максима Исповедника (c. 580-662) о воле и волевом акте. Анализируется группа понятий, содержание которых Максим обсуждает применительно к этапам и составляющим процесса воления. Показано, что сердцевину понятийного аппарата, на основе которого Максим, вовлеченный в христологическую полемику с монофелитами, строит свое учение о воле, составляют термины, обсуждаемые Аристотелем в «Никомаховой этике» III, 4, 1111b 4 - 7, 1113b 22. Также реконструируется учение Максима о естественной и избирательной волях человека.
Аристотель, никомахова этика, максим исповедник, естественная воля, избирательная воля, выбор
Короткий адрес: https://sciup.org/147103514
IDR: 147103514 | DOI: 10.21267/AQUILO.2017.11.6469
Текст научной статьи Arist. Nicom. Ethic. III 4, 1111b4-7, 1113b22 как источник концептуального аппарата в учении Максима Исповедника о волении и волевом акте
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда «Наследие Аристотеля как конституирующий элемент европейской рациональности в исторической перспективе» (проект № 15-18-30005, Институт всеобщей истории РАН).
В статье исследуется учение византийского философа и богослова Максима Исповедника (580–662) о воле и волевом акте. Анализируется группа понятий, содержание которых Максим обсуждает применительно к этапам и составляющим процесса воления.1 Мы покажем, что в основе понятийного аппарата, на основе которого Максим, вовлеченный в христологическую полемику с моно-фелитами, строит свое учение о воле, лежат термины, обсуждаемые Аристотелем в «Никомаховой этике». Помимо этого, в статье реконструируется учение Максима о естественной и избирательной волях человека.
Если кратко охарактеризовать учение Максима Исповедника о воле человека в его земном бытии, то основополагающим различием, особенно в поздних работах, является разграничение им воли видовой/природной (θέληµα φυσικόν) и воли индивидуальной/предпочитающей (γνώµη). «Природной» волей Максим именует ту, что является общей для всех людей, как вида. Она определяется как стремление разумной сущности к тому, что сообразно ее естеству.2 В своем первоначальном состоянии, не затронутом грехопадением, природная воля человека «движется» сообразно логосу человеческой сущности и природы.3 Поскольку сущность и природа понимаются Максимом как цельное (καθόλου) и общее (κοινόν), присущее всем людям одинаково, то и природное воление, как действие видовой сущности, одинаково у всех людей, обладающих одной природой. При этом важно отметить, что у Максима сохраняется восходящее к Сократу и Платону представление о том, что во-ление имеет рациональную и рассудочную природу.4 Иоанн Дамаскин дает следующее резюме мнений Максима по этому подводу:
В душу всеяна сила стремления (δύναµις ὀρεκτική) к тому, что сообразно природе5… Эта сила называется волением (θέλησις)… Эту природную волю (φυσικὸν θέληµα) определяют и таким образом: воля есть разумное и жизненное стремление, направленное лишь на то, что естественно. Так что воление есть само естественное и разумное стремление, простая способность. Ибо стремление неразумных существ, не будучи разумным, не называется волением.6
Природное воление – у божества или у твари – не является вынужден- ным7. Максим именует его природным отличительным признаком или свойством (ἰδιότης, ἰδίωµα).8 Кроме того, воление назывется природной способностью или силой (δύναµιν φυσικήν) мыслящей души.9
Помимо воли природной Максим говорит и о другой, избирательной воле человека. Поскольку та связывается им с индивидом (в богословских терминах – с «тварной ипостасью»), она именуется им еще и ипостасной волей человека. Если «просто волить» (τὸ θέλειν) – это дело природы, присущее всем существам одной природы и рода, то «волить определенным образом» (τὸ πῶς θέλειν), так или этак, того или другого – это тропос употребления воления (τρόπος τῆς τοῦ θέλειν χρήσεως), присущий индивиду и отделяющий его различием (διαφορά) от других людей.10 Ипостасная воля связана с выбором, осуществляемым конкретным человеком между добром и злом, т. е. между движением сообразно природе (к Богу) и против нее (от Бога). В философской антропологии Максима такая воля, отделившая себя от других людей и от Бога, появилась после грехопадения человека, когда «подверглась тлению» воля естественная.11 Ипостасная воля связана со страстями, с разделением логоса и тропоса существования человека, с его особостью (ἰδιότητα) и инаковостью (ἑτερότησιν), с обособлением от общего, при котором другой человек и Бог считаются чем-то иным. Индивидуальная воля связана с раздором и разделением. Максим различает в подобной ипо-стасной воле две фазы: γνώµη («предпочтение», «внутренний выбор») или προαίρεσις («акт выбора»). Это воление человека после грехопадения, когда он начинает выбирать между добром и злом, собой и другими. Прежде, когда человек не ведал зла, и человеческая природа была единой, это было для него немыслимым.12
В «Толковании на молитву Господню» (628/30 гг.) Максим именует выбор «волевым» (κατὰ θέλησιν ἡ προαίρεσις) и связывает его с γνώµη, которая может быть направлена на божественное посредством расположения (γνώµης διαθέσει).13 Согласно выработанным в аскетической практике и литературе представлениям, это требует сосредоточения и внимания (προσοχή).14 Если γνώµη становится расслабленной (ἀτονία γνώµης), то перестает удерживать божественное посредством своего расположения; «выбор» отвлекается от Бога на зримые вещи.15 В этом случае γνώµη означает не столько «внутреннее предпочтение», сколько «силу воли», допускающую бóльшую или меньшую степень концентрации.
Максим замечает, что отвращение γνώµη от логоса общей человеческой природы «рассекает» ее на «тропосы существования», поскольку у каждой человеческой ипостаси, т. е. индивида, появляется свое собственное хотение и предпочтение, отделяющее человека от других людей и от Бога. И только когда γνώµη опять соединится с природой, состоится примирение человека с Богом и другими людьми. Такое соединение означает очищение человека от страстей, изменение душевного расположения (διάθεσιν) примиряющихся сторон, прекращение бунта произволения против Бога.16
В Трудностях к Фоме Максим пишет, что «закон греха» состоит в противоестественном расположении нашего предпочтения (ἡµετέρας γνώµης διάθεσις). Воплотившийся Бог Слово исправляет человеческую природу, заставляя душу обрести неколебимость (ἀτρεψία), делая ипостасную (γνώµη) и природную воли тождественными, поскольку γνώµη направляется на природное благо.17
В поздний период Максим уточняет свою терминологию, разграничивая θέληµα (природное воление) и γνώµη (избирательное воление), а также γνώµη (внутреннее предпочтение) и его актуализация в акте выбора – προαίρεσις. Теперь процесс воления от зарождения некоего желания18 до выраженного предпочтения формулируется у Максима следующим образом. Вначале, когда избирательная, ипостасная воля еще не проявилась вовне (в акте выбора одного за счет другого), в душе имеется лишь некое внутреннее расположение (διάθεσις) к одной из имеющихся перед человеком опций. Затем душа предусматривает – совершая рассмотрение или совещание (βουλή, βούλευσις). Формируется внутреннее предпочтение (γνώµη), которое уже затем проявляется в акте выбора (προαίρεσις).19
И здесь мы переходим к основному пункту нашего исследования: как только Максим начинает рассуждать о природе и механизме волевого акта, его лексика и рассуждение начинают следовать «Никомаховой этике» Аристотеля. Обсуждая понятия, задействованные в рассуждениях о составляющих частях и этапах формировании волевого акта, Максим открыто говорит, что следует своим предшественникам.20 Соответственно, в ходе изложения он периодически замечает: «говорят», «согласно другим» и пр. При этом некоторые определения и формулировки повторяются в различных параграфах, что указывает на компилятивный характер текста.
Особенности понимания Максимом процесса принятия решения и этапов волевого акта рассматривались во многих работах. В качестве источников Максима современные исследователи, указывают Плотина (Madden), неоплатоников (Беневич), Немесия Эмесского и, как правило, в последнюю очередь Аристотеля. Однако, как я уже указывал,21 основным источником Максима является именно Аристотель, и более точно – известный22 раздел Ни-комаховой этики, 23 посвященный проблематике волевого акта.
Давая в «Письме к Марину»24 определения составляющих «выбора», Максим Исповедник следует логике «Никомаховой этики», цитируя ее почти дословно. В посредничестве Немесия он почти не нуждается: тексты Немесия и Максима большей частью совпадают там, где сам Немесий следует Аристотелю.25 Тем не менее, у Максима есть отдельные фразы, присутствующие у Немесия, но отсутствующие у Аристотеля, что позволяет утверждать, что Максим читал обоих (подобные места указываются в примечаниях). И напротив, есть у Немесия цитаты из Аристотеля, которые не перешли к Максиму, достаточно указать примеры с желанием бессмер-тия26 или здоровья.27
В «Письме к Марину» Максим дает определения терминам, обсуждая каждый в специальном разделе. Он рассуждает о природной воле (θέλησις), хотении (βούλησις), предусмотрении (βούλευσις), выборе (προαίρεσις), выбираемом, о предпочтении (γνώµη). Также обсуждаются стремление (ὄρεξιν), расположение (διάθεσις), суждение (κρίσις), своеволие (ἐξουσία), мнение (δόξα), разумение (φρόνησις). Рассмотрим несколько ключевых понятий из «Письма к Марину», приводя в примечаниях параллельные места из «Ни-комаховой этики» Аристотеля, которые демонстрируют, что в своем изложении Максим следует Аристотелю, приспосабливая рассуждения последнего для своих целей.
Согласно Максиму «воля» (θέλησις) – это разумное стремление (ὄρεξις λογική), сообразное логосу естества. «Выбор» (προαίρεσις) – это стремление, предусматривающее (βουλευόµεθα) то, что зависит от нас (τῶν ἐφ᾿ ἡµῖν).28 Природная воля проста, но выбор есть нечто смешанное и составленное из многих: из стремления, предусмотрения и решения (µικτόν γάρ τι, καί πολλοῖς σύγκρατον ἡ προαίρεσις· ἐξ ὀρέξεως καί βουλῆς συγκειµένη καί κρίσεως)».29
«Хотение» (βούλησις) распространяется и на возможное, и на невозможное, но «выбор» — только на возможное (ἐπί µόνων δυνατῶν),30 причем на то, что может произойти через нас (δι᾿ ἡµῶν γενέσθαι δυναµένων).31 Хотение относится к определенной цели, а выбор – к тому, что ведет к ней (βούλησις, τοῦ τέλους ἐστίν. ἡ δέ προαίρεσις, τῶν πρός τό τέλος).32
«Предусмотрение» (βουλή, βούλευσις) – это стремление, исследующее (ὄρεξιν ζητητικήν), чтό сделать из зависящего от нас (ἐφ’ ἡµῖν). На основе предусмотрения выносится решение, а затем делается выбор. «Выбранное» (προαιρετόν) есть нечто, получившее предпочтение перед другими (ἐστι τό ἕτερον πρό ἑτέρου αἱρετόν).33 Предусматривается (βουλευόµεθα) то, что может происходить через нас (δι’ ἡµῶν γίνεσθαι δυναµένων), а также то, что зависит от нас, т.е. выполнимое (περί τῶν πρακτῶν).34 Впрочем, только такое, относительно чего «неясно, чем кончится» (ἄδηλον ἐχόντων τό τέλος).35 Когда исход ясен, предусматривать нет нужды, ибо не предусматривают то, что происходит регулярно и одинаковым образом (ὁµοίως γινοµένων), например, восход и заход солнца (ἀνατολῆς ἡλίου καί δύσεως), или то, что, напротив, происходит случайным образом, например, ливни, засуха (ὄµβρων καί αὐχµῶν).36 «Предусмотрение» (βουλή) относится не к цели (περί τοῦ τέλους), но к тому, что ведет к цели (περί τῶν πρός τό τέλος).37 Ведь мы предусматриваем не то, что мы богаты, а как и посредством чего (ὅπως καί δι᾿ ὧν) богатеть.38
«Предпочтение» (γνώµη) есть внутреннее стремление (ὄρεξιν ἐνδιάθετον) к тому, что зависит от нас. Стремление, расположенное к решенному вслед- ствие предусмотрения (διατεθεῖσα γάρ ἡ ὄρεξις τοῖς κριθεῖσιν ἐκ τῆς βουλῆς)39 становится предпочтением (γνώµη), а из последнего возникает выбор. В целом же, «предпочтение» (γνώµη) относится к выбору (προαίρεσις), как состояние (ἕξις) к действию (ἐνέργεια).
В свою очередь, «выбор» (προαίρεσις) определяется как стремление, предусматривающее относительно того выполнимого, что зависит от нас (ὄρεξις βουλευτική τῶν ἐφ᾿ ἡµῖν πρακτῶν).40 При этом «своеволие» (т.е. «свобода») заключена не в выборе. Выбор лишь избирает (ἐπιλέγεται), тогда как «своеволие» использует (χρᾶται) и выбор, и суждение, и предусмотрение.
Как видно из приведенных в примечаниях параллельных мест «Никома-ховой этики» Аристотеля, которые воспроизводятся Максимом подчас буквально, – в части, касающейся понятийного аппарата Аристотель является основным источником Максима. Однако отправляясь от Аристотеля, Максим выстраивает оригинальную концепцию двух воль – природной и общей, с которой в пределе должна совпасть воля индивидуальная и избирающая.
Подчеркнем важную особенность концепции Максима. Современное мышление связывает свободу воли со «свободой выбора». Напротив, для Максима само наличие «выбора» между благом и злом является следствием падшего состояния человеческой природы, вынужденной выбирать. Воля естественная направлена сообразно логосу собственной природы, ориентирована на благо, от него не отклоняется и ничего не выбирает. При этом ориентированность воли (θέληµα) на благо и Бога, природная заданность ее движения, направленного только на естественное, не ассоциируется Максимом с несвободой и принуждением. Это свободное и самовластное (κατ᾿ ἐξουσίαν) стремление. Как формулирует Флоровский, природа определяет задачи и цели свободы, но не ограничивает ее самое.41
Тема разделений и соединений рассматривается не только в космическом и христологическом аспекте, как в Трудности XLI,42 но также в антропологическом и этическом. Максим подробно говорит об этом в «Послании к Иоанну Кувикуларию о любви», где речь идет уже не о разделениях и соединениях ипостаси тварного, но о единстве человеческого естества и его рассечениях на «тропосы» по причине разной направленности индивидуальных γνῶµαι.
Если бы «предпочтение» (γνώµη) индивидов не бунтовало против логоса природы, у людей было бы не только одно естество, но также одно предпочтение, неотличимое от единой природной воли (µίαν γνώµην καὶ θέληµα ἕν). Но дьявол отдалил человека гномически (κατὰ τὴν γνώµην διέστησε) от Бога и других людей, разделяя единое человеческое естество на тропосы использования воли (τὴν φύσιν κατὰ τόν τρόπον µερίσας), рассек его (κατέτεµεν) на множество мнений и представлений (δόξας καὶ φαντασίας). Напротив, Бог, соединившийся по ипостаси с человеческим естеством, возобновил (ἀνακαινίσῃ) силу любви, а та сводит разделившееся, воссоздает (πάλιν δηµιουργοῦσαν) человека в единстве логоса и тропоса (πρὸς ἕνα καὶ λόγον καὶ τρόπον), уравнивает и делает одинаковым у всех людей гномическое неравенство и различие (ἀνισότητα καὶ διαφοράν). Через любовь человек отделяет себя от представлений и особенностей (λόγων καὶ ἰδιωµάτων), которые гномически мыслились у него собственными (τῶν ἰδικῶς ἐπ᾿ αὐτῷ). Он собирает себя в единую простоту и тождество, сообразно которым никто никоим образом не отделяется от общего (τοῦ κοινοῦ), существуя уже не для себя, но для всех других людей и для Бога. В естестве и гноми таких людей проявляется единый и единственный логос бытия (τὸν ἕνα τοῦ εἶναι λόγον µονότατον), а в нем усматривается Бог. Логос бытия всех сущих созерцается вместе с Богом и возводится к Нему, сохраняясь невредимым и незапятнанным (ἀκραιφνὴν καὶ ἄχραντος) посредством постоянного внимания (διὰ πάσης προσοχῆς),43
очищаясь от страстей через приверженность к добродетелям и связанные с ними поступки.
Возможно, пишет Максим, именно так Авраам восстановил (ἀποκαταστήσας) себя в логосе бытия естества (τῷ τοῦ εἶναι λόγῳ τῆς φύσεως) или, напротив, восстановил в себе логос, а через это патриарх был возвращен в Бога (ἀποδοθεὶς τῷ Θεῷ) и сам получил обратно Бога. Он был возведен к Богу, отвергнув особость (τὴν ἰδιότητα) разделяющих и разделенных, не считая другого человека за нечто иное, чем он сам, но ведая, что все люди – единое (πάντας τὸν ἕνα), а единое – они все (ἕνα τοὺς πάντας). Авраам обращал внимание не на логос предпочтения (τὸν τῆς γνώµης), связанного с раздором и разделением (ἡ διαίρεσις), но на единственый (µονώτατον) логос природы, подле которого установилась неизменность (τὸ ἀπαράλλακτον ἕστηκε).
Вместе с этим логосом природы непременно обнаруживается Бог, и через этот логос Он проявляется как Благой, усваивая (οἰκειούµενος) Себе собственные творения. Но с Простым и Тождественным может соединиться лишь тот, кто в самом себе стал простым и тождественным, не разделенным гномически в отношении естества на многие части. Посредством человеколюбия нужно сочетать (συνάψας) гноми с природой и явить в обоих единый, мирный (εἰρηνικόν) и безмятежный логос. Соответственно этому логосу естество всегда пребывает неделимым и нераздельным (ἄτµητος καὶ ἀδιαίρετος), не разрываемое (συνδιατεµνοµένη) инаковостью (ἑτερότησιν) гномического множества. Логос естества устанавливает в качестве закона равночестие (τὸ ἰσότιµον) и исключает из естества всякое неравенство (ἀνισότητα), проявляющееся вследствие предубеждения (κατὰ πρόληψιν) к какому-либо человеку, ибо единой силой тождества (κατὰ µίαν ταυτότητος δύναµιν) логос заключает в себе всех.
При этом естество людей уже не разделяется (µερίζουσιν), они суть одно, они обращают внимание не на гномическую особость каждого (τὸ ἐφ᾿ ἑκάστῳ κατὰ τὴν γνώµην ἴδιον), сообразно которой разделяются разделенные, но на естественно, имеющееся у всех общее и нераздельное (τὸ κοινὸν καὶ ἀµέριστον), вследствие чего разделенные собираются вместе (συνάγεται), не привнося с собой никакого разделения.
Соединение человеческого естества и приведение его к Богу осуществляется через любовь. Совершенным делом любви и пределом её деятельности является приуготовление к тому, чтобы через единое и неизменное хотение (βούλησιν) и движение сообразно естественной воле (θέληµα) сделать Бога человеком, а человека провозгласить и проявить (χρηµατίζειν καὶ φαίνεσθαι) как бога. Любовь сочетает собой Бога и обладающих ею людей, подготавли- вая явление Творца человеков в виде человека через неотличимость (ἀπαραλλαξίαν) обоживаемого от Бога в благе, насколько то доступно человеку. Любовь есть всецелая внутренняя связь (καθ᾿ ὅλου ἐνδιάθετος σχέσις) с первым Благом и всеобщим Промыслом о всем роде человеческом. Максим подчеркивает, что не считает любовь к Богу и любовь к ближнему за нечто раздельное. Бог собирает человеческое к Себе (πρὸς ἑαυτὸν συναγάγῃ) уже соединившимся и не обладающим никаким отделяющим гномическим различием (καθ᾿ ἑαυτὴν κατὰ τὴν γνώµην διάφορον).
Таким образом, концепция двух воль у Максима представляет собой оригинальное учение, развитое, тем не менее, на основе понятийного аппарата, представленного в «Никомаховой этике» Аристотеля. Как таковое, оно оказало мощное влияние на последующую традицию.44
Список литературы Arist. Nicom. Ethic. III 4, 1111b4-7, 1113b22 как источник концептуального аппарата в учении Максима Исповедника о волении и волевом акте
- Bathrellos, D. (2004) The Byzantine Christ. Person, Nature, and Will in the Christology of Saint Maximus the Confessor. Oxford Univerity Press.
- Dalmais, I.-H. (1967) «Le vocabulaire des activités intellectuelles, volontaires et spirituelles dans l'anthropologie de S. Maxime le Confesseur», Mélanges offerts à M.-D. Chenu (Bibliothèque thomiste, 37). Paris, 189-202.
- Farrell, J. P. (1987) Free Choice in St. Maximus the Confessor. Oxford, 95-130.
- Fortenbauch, W. W. (1965) «Τά πρὸς τὸ τέλος and Syllogistic Vocabulary in Aristotle's Ethics», Phronesis 10, 191-201.
- Freeland, C. A. (1985) «Aristotelian Actions», Noūs 19.3, 397-414.
- Gauthier, R.-A. (1954) «Saint Maxime le Confesseur et la psychologie de l'acte humain», Recherche de Théologie ancienne et médiévale 21, 51-100.
- Irwin, T. H. (1986) «Aristotelian Actions», Phronesis 31, 68-89.
- Kenny, A. (1966) «The Practical Syllogism and Incontinence», Phronesis 11, 163-184.
- Larchet, J.-Cl. (1996) La divinisation de l'homme selon saint Maxime le Confesseur. Paris: CERF.
- Madden, J. D. (1982) «The Authenticity of Early Definitions of Will (thelêsis)», F. Heinzer, Ch. Schönborn, éds., Maximus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur, Fribourg, 2-5 septembre 1980. Fribourg (Suisse), 61-79.
- Petroff, V. (2015) «Ὑπάρχω and ὑφίστημι in Maximus the Confessor's Ambigua», A. Lévy, P. Annala et al., eds. The Architecture of the Cosmos: St. Maximus the Confessor. New perspectives. Helsinki, 93-122. Piret, P. (1983) Le Christ et la Trinité selon Maxime le Confesseur. Paris, 241-358.
- Renczes, P. G. (2003) Agir de Dieu et liberté de l'homme. Recherches sur l'anthropologie théologique de saint Maxime le Confesseur. Paris: CERF, 269-292.
- Santas, G. (1969) «Aristotle on Practical Inference, the Explanation of Action, and Akrasia», Phronesis 14, 162-189.
- Беневич Г. И. (2014) «Богословско-полемические сочинения прп. Максима Исповедника и его полемика против моноэнергетизма и монофелитства», Черноглазов Д.А., Шуфрин А.М., пер.; Беневич Г.И., науч. ред. Прп. Максим Исповедник. Богословско-полемические сочинения. СПб., 117-143.
- Бронзов, А. (2002) «Предисловие переводчика», Иоанн Дамаскин (2002), 7-50.
- Декомб, В. (2000) Современная французская философия. Пер. М. М. Федоровой. Москва.
- Кожев, А. (2003) Введение в чтение Гегеля. Пер. А. Г. Погоняйло. СПб.
- Орлов, И. (1888) Труды св. Максима Исповедника по раскрытию догматического учения о двух волях во Христе. Историко-догматическое исследование. Санкт-Петербург.
- Петров, В. В. (2005а) «Соединения и деления ипостаси тварного в О трудностях XLI (PG 91, 1304D -1316A) Максима Исповедника», Богословские труды 40, 47-73.
- Петров, В. В. (2005б) «О трудностях XLI Максима Исповедника: основные понятия, источники, истолкование», П. П. Гайденко и В. В. Петров, ред. Космос и душа. Учения о вселенной и человеке в Античности и в Средние века (исследования и переводы). Москва, 147-271.
- Петров, В. В. (2005в) «Знание: его значение и функции в богословской системе Максима Исповедника», Puncta 3-4 , 7-25.
- Петров, В. В. (2007а) «Логос сущего у Максима Исповедника: проблемы интерпретации», Философские науки 9, 112-128.
- Петров, В. В. (2007б) Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII века. Москва.
- Петров, В. В. (2007в) «О трудностях к Иоанну XXXVI (PG 91, 1304D-1316A) Максима Исповедника в контексте предшествующей философско-богословской традиции», XVII Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Т. 1. Москва: 99-109.
- Петров, В. В. (2008а) Учение Максима Исповедника в контексте философско-богословской традиции поздней античности и раннего средневековья. Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук (специальность 09.00.03 -история философии). Москва: ИФ РАН.
- Петров, В. В. (2008б) «Онтология Макcима Исповедника: трансформация античной парадигмы», Вопросы философии 2, 161-166.
- Петров, В. В. (2013) «Трансформация античной онтологии в "Ареопагитском корпусе" и у Максима Исповедника», Петров В. В., ред. ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Исследования по истории платонизма. Москва: Кругь, 376-393.
- Петров, В. В. (2015) «Гнозис у Максима Исповедника», Вдовина, Г. В., ред. Мера вещей: Человек в истории европейской мысли. Москва, 618-640.
- Поспелов, Д. А. (2004) «Преподобный Максим Исповедник как историческое лицо и богослов», Поспелов Д. А., отв. ред. Диспут с Пирром. Прп. Максим Исповедник и христологические споры VII столетия. Москва, 15-111.
- Флоровский, Г. В. (1990) «Преп. Максим Исповедник», Восточные отцы V-VIII веков. Из чтений в Православном Богословском Институте в Париже (11933). Paris, 195-227.