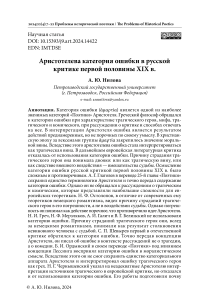Аристотелева категория ошибки в русской критике первой половины XIX в
Автор: Нилова А.Ю.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
Категория ошибки (ἁμαρτία) является одной из наиболее значимых категорий «Поэтики» Аристотеля. Греческий философ обращался к категории ошибки при характеристике трагического героя, мифа, трагического и комического, при рассуждении о критике и способах отвечать на нее. В интерпретации Аристотеля ошибка является результатом действий преднамеренных, но не порочных по своему умыслу. В христианскую эпоху за лексемами группы ἁμαρτία закрепилось значение моральной вины. Вследствие этого аристотелева ошибка стала интерпретироваться как трагическая вина. В дальнейшем европейская литературная критика отказалась от использования категории ошибки. Причину страдания трагического героя она понимала двояко: или как трагическую вину, или как следствие внешнего воздействия - вмешательства судьбы. Осмысление категории ошибки русской критикой первой половины XIX в. было сложным и противоречивым. А. Г. Глаголев в переводе 25-й главы «Поэтики» сохранил единство терминологии Аристотеля и точно передал содержание категории ошибки. Однако он не обращался к рассуждениям о трагическом и комическом, которые представляли наибольшие сложности для европейских теоретиков. Н. Ф. Остолопов, в отличие от современных ему теоретиков немецкого романтизма, видел причину страданий трагического героя в его погрешности, а не в воздействии судьбы. Однако погрешность он понимал как действие порочное, что противоречило идее Аристотеля. Н. И. Греч, Н. Ф. Мерзляков, А. И. Галич и В. Г. Белинский не использовали категорию ошибки. Причину страданий трагического героя они, вслед за немецкими романтиками, понимали как результат столкновения невиновного человека с судьбой. С. П. Шевырев первый в отечественной критике обратился к категории ошибки. Точно передав концепцию Аристотеля, он писал об ошибке в контексте рассуждений не о трагедии, а о комедии. Б. И. Ордынский в своем переводе «Поэтики» под влиянием концепции Лессинга воспринял категорию ошибки в моралистическом смысле. Вследствие этого он не смог сохранить единство категориального аппарата Аристотеля и интерпретировал ошибку трагического героя как грех. Н. Г. Чернышевский указал на неадекватные Аристотелю интерпретации источников трагического в европейской критике, но отказался и от использования категории ошибки. Его работы подготовили почву для возвращения к строгой системности категориального аппарата Аристотеля в последующий период.
Аристотель, поэтика, терминология, ошибка, трагедия, комедия, критика, трагическая вина, судьба, перевод, интерпретация
Короткий адрес: https://sciup.org/147245776
IDR: 147245776 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.14422
Текст научной статьи Аристотелева категория ошибки в русской критике первой половины XIX в
В основе европейской литературной терминологии находится трактат Аристотеля «Поэтика», который оказывал и продолжает оказывать формирующее воздействие на европейскую и мировую теорию литературы. Многие положения этого сочинения перешли в «область некоего "литературоведческого бессознательного"» [Европейская поэтика: 7]. Количество толкований, интерпретаций и толкований интерпретаций «Поэтики» с трудом поддается обзору. Сформировавшиеся на протяжении многих веков концепции, объявляющие себя восходящими к идеям греческого философа, подчас очень далеки от них (см., напр.: [Европейская поэтика: 7]). Одной из таких сложных и вызывавших множественные толкования аристотелевских категорий является категория ошибки (ἁμαρτία). А. Ф. Лосев отметил, что в настоящее время эта категория не представляет сложности [Лосев: 444], однако процесс ее усвоения отечественной литературно-теоретической мыслью был сложным и динамичным.
Обычно о категории ἁμαρτία речь заходит в контексте рассуждений о трагедии. В XIII главе «Поэтики» Аристотель указал, что сострадание и страх, вызывающие катарсис, возникают при переходе героя трагедии от счастья к несчастью.
Аристотель подробно разъяснял, что зрители испытывают страх и сострадание только тогда, когда переход от счастья к несчастью претерпевает человек, «который нe отличается ни добродетелью, ни праведностью, и в несчастье попадает не из-за порочности и подлости, а в силу какой-то ошибки (hamartia)» (здесь и далее выделение полужирным шрифтом мое. — А. Н. ) [Аристотель, 1983: 659]1. Категория ошибки тесно связана с мифом трагедии:
«ἀνάγκη ἄρα τὸν καλῶς ἔχοντα µῦθον ἁπλοῦν εἶναι µᾶ ον ἢ διπλοῦν, ὥσπερ τινές φασι, καὶ µεταβά ειν οὐκ εἰς εὐτυχίαν ἐκ δυστυχίας ἀ ὰ τοὐναντίον ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν µὴ διὰ µοχθηρίαν ἀλλὰ δι’ ἁµαρτίαν µεγάλην ἢ οἵου εἴρηται ἢ βελτίονος µᾶ ον ἢ χείρονος» [Aristotle: 184] / «Итак, необходимо, чтобы хорошо составленное сказание было скорее простым, чем (как утверждают некоторые) двойным, и чтобы перемена в нем происходила не от несчастья к счастью, а, наоборот, от счастья к несчастью и не из-за порочности, а из-за большой ошибки [человека] такого, как сказано, а [если не такого], то скорее лучшего, чем худшего» [Аристотель, 1983 : 659].
Аристотель обращался к категории ошибки и при определении смешного:
«῾Η δὲ κωµῳδία ἐστὶν ὥσπερ εἴποµεν µίµησις φαυλοτέρων µέν, οὐ µέντοι κατὰ πᾶσαν κακίαν, ἀ ὰ τοῦ αἰσχροῦ ἐστι τὸ γελοῖον µόριον. τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν ἁµάρτηµά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν, οἷον εὐθὺς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ διεστραµµένον ἄνευ ὀδύνης» [Aristotle: 172] / «Комедия же, как сказано, есть подражание [людям] худшим, хотя и не во всей их подлости: ведь смешное есть [лишь] часть безобразного. В самом деле, смешное есть некоторая ошибка и уродство, но безболезненное и безвредное; так, чтобы недалеко [ходить за примером], смешная маска есть нечто безобразное и искаженное, но без боли» [Аристотель, 1983: 650].
По мысли Аристотеля, отличие трагедии от комедии заключается не только в том, что одна подражает лучшим, а другая худшим людям (ἐν αὐτῇ δὲ τῇ διαφορᾷ καὶ ἡ τραγῳδία πρὸς τὴν κωµῳδίαν διέστηκεν· ἡ µὲν γὰρ χείρους ἡ δὲ βελτίους µιµεῖσθαι βούλ εται τῶν νῦν [Aristotle: 167]), но и в ошибке.
Ошибка в трагедии влечет за собой страдание и гибель, ошибка в комедии страдания не вызывает. Аристотель говорил о двух типах ошибок: комической, ни для кого не опасной, и трагической, губительной. Категория ошибки (ἁμαρτία) связана с такими важными категориями, как трагический герой, перипетия, мимесис, трагическое и комическое. По Аристотелю, трагедия и комедия различаются ошибкой, наравне с объектом подражания и характером.
В третий раз к категории ἁμαρτία Аристотель обратился в XXV главе при рассуждении о критике, когда говорил об ошибках против природы и против искусства:
«Αὐτῆς δὲ τῆς ποιητικῆς διττὴ ἁμαρτία , ἡ μὲν γὰρ καθ᾽ αὑτήν, ἡ δὲ κατὰ συμβεβηκός. Εἰ μὲν γὰρ προείλετο μιμήσασθαι <…> ἀδυναμίαν, αὐτῆς ἡ ἁμαρτία εἰ δὲ τὸ προελέσθαι μὴ ὀρθῶς, ἀλλὰ τὸν ἵππον <ἅμ᾽> ἄμφω τὰ δεξιὰ προβεβληκότα, ἢ τὸ καθ᾽ ἑκάστην τέχνην ἁμάρτημα , οἷον τὸ κατ᾽ ἰατρικὴν ἢ ἄλλην τέχνην [ἢ ἀδύνατα πεποίηται] ὁποιανοῦν, οὐ καθ᾽ ἑαυτήν» [Aristotle: 212] / «Да и в самой поэзии ошибки бывают двоякие, одни по существу ее, другие случайные: если поэт выберет для подражания [правильный предмет, но не совладает с подражанием по] слабости сил, то это ошибка самой поэзии; если же он выбор сделает неправильный (например, коня, вскинувшего сразу обе правые ноги, или что-нибудь ошибочное по части врачебного или какого иного отдельного искусства) или сочинит что-нибудь [вообще] невозможное, то это [ошибка] не по существу поэзии» [Аристотель, 1983: 676].
Несмотря на «темноту» и конспективность текста «Поэтики», Аристотель последовательно использовал категориальный аппарат, в отличие от его более поздних переводчиков (так, например, В. Г. Аппельрот при переводе XXV главы передавал ἁμαρτία и как ошибка, и как погрешность [Аристотель, 1893: 59]).
В трактате «Риторика» Аристотель также использовал категорию ἁμαρτία. Он разделял ἁμαρτήμα (ошибку), ἀτυχήμα (неудачу, несчастье) и ἀδικήμα (несправедливость, сознательное преступление):
«…καὶ τὸ τὰ ἁμαρτήματα καὶ τὰ ἀδικήματα μὴ τοῦ ἴσου ἀξιοῦν, μηδὲ τὰ ἀτυχήματα: ἔστιν ἀτυχήματα μὲν γὰρ ὅσα παράλογα καὶ μὴ ἀπὸ μοχθηρίας, ἁμαρτήματα δὲ ὅσα μὴ παράλογα καὶ μὴ ἀπὸ πονηρίας, ἀδικήματα δὲ ὅσα μήτε παράλογα ἀπὸ πονηρίας τέ ἐστιν: τὰ γὰρ δι᾽
ἐπιθυμίαν ἀπὸ πονηρίας» [Αριστοτελης: 144] / «…правда требует неодинаковой оценки по отношению к ошибкам , несправедливым поступкам и несчастьям. К числу несчастий относится все то, что случается без умысла и без всякого злого намерения, к числу заблуждений — все то, что случается не без умысла, но не вследствие порочности; к числу несправедливых поступков — все то, что случается не без умысла, но вместе с тем вследствие порочности, потому что ведь и все, что делается под влиянием страсти, предполагает порочность» (пер. Н. Платоновой) [Античные риторики: 62].
В «Риторике», как и в «Поэтике», Аристотель понимал под ἁμαρτήμα действие сознательное, но не «вследствие порочности», а вследствие ошибочного мнения или знания. Терминология Аристотеля прослеживается не только в пределах одного трактата, но и в различных его сочинениях.
А. Ф. Лосев со ссылкой на Я. Бремера указывал, что в тексте аристотелевской «Поэтики» ἁμαρτία всегда означает лишь «непреднамеренную, невольную ошибку, которая является неожиданным результатом действия, благого по своему намерению» [Лосев: 444], и никогда не имеет значения сознательной моральной вины трагического героя: «Аристотель во всех своих сочинениях крайне осторожно употребляет слова группы hamartia и практически никогда не обозначает ими морально дурной поступок, но — лишь ошибочный» [Лосев: 445].
С выводами А. Ф. Лосева и Я. Бремера соглашался М. Л. Гаспаров, который отмечал, что для Аристотеля понятие ἁμάρτημα было не этическим, а «интеллектуалистическим»: «ἁμάρτημα — это просто результат недостаточности человеческого знания о мире, о всеобщей связи событий, в силу чего человек и обречен время от времени поступать "ошибочно", "невпопад"» [Гаспаров: 517]. Однако, по наблюдению Я. Бремера, употребление ἁμαρτία в таком значении отличается от его употребления у ораторов IV в. до. н. э. и Платона. Для них ἁμαρτία означало чаще именно преступление [Лосев: 445].
В последующую эпоху значение лексемы группы ἁμαρτία претерпело существенное изменение семантики. «Словарь гомеровского языка для школ и колледжей» («A Homeric Dictionary for Use in Schools and Colleges») 1880 г. определял глагол ἁμαρτάνω как ошибочное действие, неправильно понятое слово2. «Греческий лексикон римского и византийского периодов (от 146 г. до н. э. до 1100 г. н. э.)» давал следующие значения для слова ἁμαρτία: ошибка — в первом значении и грех — во втором, но с уточнением «в религиозном смысле»; ἁμαρτο-λόγος — неправильная речь, неправильное использование языка3. «Словарь греческого языка Нового Завета» Баркли М. Ньюмана однозначно интерпретировал ἁμαρτία как грех4. В дохристианскую эпоху ἁμαρτία понималась в «интеллектуалисти-ческом» плане, понимание его как моральной вины закрепилось лишь в контексте христианской культуры. Такая трансформация семантики универсальной категории ἁμαρτία сузила поле ее использования, нарушила симметрию определения трагедии и комедии, присутствовавшую у Аристотеля, и разрушила связь поэтики литературных жанров с литературной критикой.
Античным авторам после Феофраста произведения Аристотеля, в том числе и «Поэтика», были мало известны [Курциус: 251], они опирались скорее на традицию, а не собственно на тексты Стагирита. Гораций в «Послании к Пизонам» писал об эмоциональном воздействии трагедии и комедии на зрителей, но не упоминал об источнике трагического или комического. Арабский интерпретатор Аристотеля Аверроэс, знавший, в отличие от античных авторов, наследие греческого философа непосредственно из текстов, а не из традиции, не использовал категорию ἁμαρτία. Он считал, что страх и сострадание зрителей трагедии вызваны страданием невиновного героя, совершенно не заслуживающего этих мук:
«He said: compassion and tenderness are induced by mentioning the misery unnecessarily occurring to someone who does not deserve it. <…> Sadness and compassion are induced because of these things befalling som eone who does not deserve them»5. (Он [Аристотель]
сказал: сострадание и нежность вызываются упоминанием несчастья, которое случается без необходимости с тем, кто этого не заслуживает. <…> Печаль и сострадание вызываются из-за того, что эти вещи случаются с тем, кто их не заслуживает) (перевод мой. — А. Н ).
Аверроэс не говорил о страдании как результате самостоятельных действий героя. Ч. Баттерворт объяснил такой отход арабского философа от концепции Аристотеля размышлениями Аверроэса не только о трагедии, но и о панегирике, а также ориентацией арабского философа не собственно на трагедию, как это было у Аристотеля, а на коранические сюжеты [Butterworth: 30–32].
Дж. Боккаччо в сочинении с характерным названием «О роковой участи великих людей» выделял два типа трагического: «…один тип трагического — трагедия благородной личности, страдающей не по своей вине. Второй тип трагического — падение и гибель, вызванные поведением самого человека» [Аникст: 98]. О трагическом как результате самостоятельных, но не порочных или преступных по замыслу действий человека Боккаччо не говорил (см.: [Аникст], [Веселовский]). Эта концепция Боккаччо получила развитие в последующей европейской теории драмы, которая понимала трагическое как страдание невинного человека, столкнувшегося с непреодолимым действием судьбы, или как расплату за трагическую вину (см.: [Аникст], [Европейская поэтика]). Во втором случае действия персонажа понимались в моралистическом, а не в «ин-теллектуалистическом» ключе. Показателен в этом смысле фрагмент «Гамбургской драматургии» Лессинга, в котором автор, обильно ссылавшийся на Аристотеля, предложил вольный перевод из «Поэтики»: «Сострадание, — говорит Аристотель, — должен возбуждать такой человек, который страдает безвинно, страх же возбуждает — нам равный. Злодей — ни то, ни другое, следовательно, и несчастье его не может возбуждать ни того, ни другого чувства» [Лессинг: 272]. Лессинг не упоминал об ошибке как причине страдания трагического героя. Его замечание о вызывающем сострадание зрителей страдании безвинного человека противоречило аристотелевской концепции. Кроме того, Лессинг разводил источник страха и сострадания, тогда как у Аристотеля они возникают вместе в результате страдания человека, который «впадает в несчастье по ошибке».
Теоретики немецкого романтизма также не упоминали об ошибке как обязательном элементе трагедии. По их мнению, страдание трагического героя возникает в результате столкновения невинного человека и рока: «Предмет драмы вообще — явление смешанное, заключающее в себе человека и судьбу, сочетающее величайшее содержание с величайшим единством» [Шлегель: 112].
В 1819 г. в журнале «Труды Общества любителей россійской словесности, при Императорскомъ Московскомъ университе-тѣ» был опубликован перевод XXV главы «Поэтики», выполненный А. Г. Глаголевым. Переводчик довольно близко передал текст греческого философа, однако аристотелевскую категорию ἁμαρτία он перевел как « погрешность », а не как « ошибка »:
«Если Поэзія для подражанія избрала такой предметъ, которой превышаетъ ея силы: то погрѣшность вмѣняется ей самой; но если избранъ предметъ, самъ по себѣ неправильной, то не она бываетъ причиной погрѣшности. <…> …если бы погрѣшили противъ какого нибудь искусства, на пр. врачебнаго или друга-го, или изобразили бы что нибудь невозможное: во всѣхъ та-кихъ случаяхъ не льзя винить Поэзіи» [Глаголев: 162].
«Словарь Академии российской» выделял три значения слова погрешность :
-
1. «Заблужденіе; ложность, неосновательность въ мнѣніи».
-
2. «Неосмотрительность, упущеніе чего нибудь изъ должности или изъ предписаннаго закономъ».
-
3. «Ошибка противъ какой науки»6.
Закрепившееся к началу XIX в. значение слова погрешность соответствовало аристотелевскому пониманию ἁμαρτία как интеллектуальной ошибки. Глаголев в своем переводе точно передал значение этой категории и сохранил последовательность категориально го аппарата Аристотеля.
В 1821 г. был опубликован «Словарь древней и новой поэзии» Н. Ф. Остолопова. Его автор много и обильно пересказывал Аристотеля, являвшегося для него безусловным авторитетом. Остолопов подробно описал героя трагедии, который, по его мнению, не должен быть ни совершенно преступным, ни совершенно добродетельным, его добродетель «смѣшана съ нѣкото-рою слабостію, принудившею впасть въ погрѣшность дѣйстви-тельную, или мнимую», он должен «совершить преступленіе, не имѣя привычки къ злодѣйству» [Остолопов: 286]. Остолопов не говорил однозначно об ошибке героя трагедии или комедии, он использовал различные понятия для обозначения действий персонажа, приводящих к трагической или комической развязке, однако его понимание причин трагического или комического очень близко аристотелевской категории ἁμαρτία. По мнению Остолопова, причина страдания героя заключена в его самостоятельных поступках, а не во внешнем воздействии. Тем не менее, при всей близости концепции Остолопова к положениям «Поэтики» Аристотеля, он интерпретировал «погрешность» трагического героя в этическом, а не «интеллектуали-стическом» ключе: герой претерпевает страдание не вследствие объективного заблуждения, а вследствие сознательных действий под влиянием слабости.
Понимание источника трагического в опубликованных в 1820-е гг. сочинениях Н. И. Греча «Учебная книга русской словесности, или Избранныя мѣста изъ русскихъ писателей въ прозѣ и стихахъ съ присовокупленіемъ правилъ риторики и піитики, и Обозрѣніе исторіи русской литературы» (1819–1822), Н. Ф. Мерзлякова «Краткое начертаніе Теоріи изящной словесности» (1822), А. И. Галича «Опытъ науки изящнаго» (1825) находилось в русле традиции, заложенной немецкой эстетикой. Все три автора не упоминали об ошибке героя трагедии и причину страдания видели в столкновении трагического героя с судьбой. К этой же традиции примыкал в своей статье «Разделение поэзии на роды и виды» (1841) В. Г. Белинский, который утверждал, что «в трагедии греков преобладает их основное миросозерцание — судьба» [Белинский: 29].
После Остолопова к категории ошибки обратился С. П. Ше-вырев, изучавший «Поэтику» Аристотеля в оригинале, а не по европейским переводам и интерпретациям [Новосадский: 31]. В диссертации «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» (первое издание — 1836 г.) Шевырев очень точно перевел аристотелевское определение смешного, заметив, что немецкая эстетика не предложила ничего лучшего:
«Смѣшное есть какая нибудь ошибка, что нибудь постыдное, но безвредное, не наносящее гибели: такъ, напр. смѣшное лицо бу-детъ лицо дурное. Искривленное, но безъ вреда» [Шевырев: 53].
Критик не анализировал причину страдания трагического героя, тем не менее использовал категорию Аристотеля.
В 1854 г. был опубликован первый перевод «Поэтики» на русский язык, сделанный Б. Ордынским. Работа была представлена в качестве магистерской диссертации и содержала обширные комментарии переводчика к основным терминам Аристотеля, их интерпретации в современной европейской поэтологии. В качестве наиболее близкой себе переводчик называл теорию Лессинга [Ордынский: V].
Касаясь значения слова ἁμαρτία, Ордынский отметил существующее в «Риторике» разделение категорий ἀτυχήματα, ἀδικήματα и ἁμαρτήματα: «Аристотель говоритъ: ἀτύχήμα есть ошибка, проступокъ необдуманный и не происходящій отъ подлости; ἀδικήμα обдуманный и не происходящій отъ подлости; ἁμάρτημα — обдуманный, но не подлый, ὃσα μὴ παράλογα καὶ μὴ ἀπὸ πονηρίας; слѣд. поступокъ, хотя и не подлый, но задуманный по какимъ-нибудь, конечно, преступнымъ побужденіямъ, или по увлеченію страсти, слѣд. — грѣхъ » [Ордынский: 96].
На основании этого Ордынский предложил следующий перевод характеристики трагического героя: «…кто не отличается ни добродѣтелью, ни правдивостію, впадаетъ въ злосчастіе не по порочности и подлости, а по какому-нибудь грѣху…» [Ордынский: 18]. И далее: «…необходимо, чтобы правильный вымыселъ <…> представлялъ переходъ <…> отъ счастія къ не-счастію, въ слѣдствіе неподлости, а какого-нибудь великаго грѣха» [Ордынский: 18]. Однако ранее, в переводе V главы, при описании комического, Ордынский передавал категорию ἁμαρτία как ошибку: «…смѣшное есть какая нибудь ошибка, безобразное безболѣзненное и безвредное» [Ордынский: 7].
Излагая содержание XXV главы «Поэтики», Ордынский, вслед за Глаголевым, переводил ἁμαρτία как ошибку и как погрешность: «Въ самой поэзіи ошибка можетъ быть двоякая <…>. Если поэзія станетъ подражать невозможному пред-намѣренно, — ея ошибка; если же только предметъ для под-ражанія выберетъ неправильно <…> или ошибется противъ особаго искусства <…> или другое что невозможное въ этомъ родѣ сочинитъ, — не ея ошибка», «поэтъ можетъ погрѣшить противъ требованій самой поэзіи. Но впрочемъ, прибавляетъ Аристотель, если цѣль достигается, т. е. если зрителя или читателя поразитъ представляемое поэтомъ дѣйствіе, то ошибка извинительна» [Ордынский: 126].
Ордынский первый обратил внимание на единство терминологии «Риторики» и «Поэтики», однако, находясь под влиянием теории Лессинга, он неверно понял значение слова ἁμαρτία, что привело к неточной передаче концепции Аристотеля и интерпретации ошибки трагического героя в «моралистическом» ключе как греха.
На перевод Ордынского обширной рецензией откликнулся Н. Г. Чернышевский. В рецензии, диссертации и статьях по эстетике критик последовательно полемизировал с Ф. Т. Фишером и в целом с современной немецкой эстетикой, которая связывала понятие трагического с понятием судьбы или трагической вины героя трагедии. Критик справедливо заметил, что «Аристотель, которому понятие "рока" было гораздо ближе, нежели нам, ничего не говорит о вмешательстве судьбы в участь героев трагедии» [Чернышевский, 1949b: 282]. Трагическая вина, по мысли Чернышевского, также не способствует достижению цели трагедии, так как противоречит еще одной значимой для Аристотеля категории человеколюбия (φιλανθρωπία): «Нам кажется, что мысль видеть в каждом погибающем виноватого, мысль натянутая и жестокая до того, что возмущает человеческое чувство» [Чернышевский, 1949a: 181]. Трагическое Чернышевский характеризовал как «ужасное в человеческой жизни» [Чернышевский, 1949a: 185] вне зависимости от его причин и поэтому не использовал категорию ошибки. Отказываясь от интерпретации категории ἁμαρτία как трагической вины или воздействия судьбы, Чернышевский отказался и от нее самой. Работы Чернышевского подвели итог размышлениям о категории ошибки в отечественной литературно-критической мысли первой половины XIX в.
Аристотель в «Поэтике» использовал категорию ошибки при описании катарсиса, трагического и комического, мифа, трагического героя и самой сути поэзии. 2,5 тысячи лет назад он учил и научил поэтов и критиков, как избегать ошибок и как оценивать эти ошибки. Простота и строгость аристотелевой категории оказались сложными для восприятия европейской эстетикой и литературной теорией, которые попытались заменить ее категориями трагической вины и судьбы. Осмысление категории ошибки русской критикой первой половины XIX в. демонстрирует сложный процесс отказа от сложившейся европейской традиции и возвращения к идеям греческого философа.
Список литературы Аристотелева категория ошибки в русской критике первой половины XIX в
- Аникст А. А. История учений о драме. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М.: Наука, 1967. 455 с.
- Античные риторики / под ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Изд-во Московского ун-та, 1978. 352 с.
- Аристотель. Об искусстве поэзии. Греческий текст с переводом и объяснениями Владимира Аппельрота. М.: Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа, 1893. 97 с.
- Аристотель. Поэтика / пер. М. Л. Гаспарова // Аристотель. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 645–680.
- Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. 5. С. 7–67.
- Веселовский А. Н. Боккаччьо, его среда и сверстники: в 2 т. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1893–1894. Т. 1. 545 с.; Т. 2. 680 с.
- Гаспаров М. Л. Сюжетосложение греческой трагедии // Гаспаров М. Л. Собр. соч.: в 6 т. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Т. 1: Греция. С. 511–544.
- Глаголев А. Г. Из Аристотелевой пиитики // Труды Общества любителей российской словесности, при Императорском Московском университете. М.: В Университетской тип., 1819. Ч. 16. С. 160–170.
- Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения: энциклопедический путеводитель. М.: Изд-во Кулагиной — Интрада, 2012. 512 с.
- Курциус Э. Р. Европейская литература и латинское Средневековье: в 2 т. / пер. Д. С. Колчигина. М.: ЯСК, 2021. Т. 1. 560 с.
- Лессинг Г.-Э. Гамбургская драматургия. М.; Л.: Academia, 1936. 456 с.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975. 775 с.
- Нилова А. Ю. «Поэтика» Аристотеля в русских переводах // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 4. С. 7–39 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1638352895.pdf (10.06.2024). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9822. EDN: EORRNF
- Новосадский Н. И. Введение // Аристотель. Поэтика / пер. Н. И. Новосадского. Л.: Academia, 1927. С. 7–37.
- Ордынский Б. И. О Поэзии, cочинение Аристотеля. Перевел, изложил и объснил Б. Ордынский. М.: В тип. В. Готье, 1854. 134 с.
- Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии: в 3 ч. СПб.: Тип. Имп. Рос. Акад., 1821. Ч. 3. 500 с.
- Чернышевский Н. Г. Возвышенное и комическое // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: в 15 т. М.: ГИХЛ, 1949. Т. 2. С. 159–195. (a)
- Чернышевский Н. Г. О поэзии. Сочинение Аристотеля. Перевел, изложил и объяснил Б. Ордынский. Москва, 1854 // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: в 15 т. М.: ГИХЛ, 1949. Т. 2. С. 263–288. (b)
- Шевырев С. Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1887. 271 с.
- Шлегель Ф. Об изучении греческой поэзии // Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: в 2 т. М.: Искусство, 1983. Т. 1. С. 91–190.
- Αριστοτελης. Ρητορική. Α τόμος / Εἰσαγωγή — μετάφραση — σχόλια Ηλ. Ηλιου. ΔΑΙΔΑΛΟΣ Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. 461 p.
- Aristotle. Poetics. Lieden, Boston: Brill, 2012. 538 p.
- Butterworth Ch. E. Introduction // Averroes’ Middle Сommentary on Aristotle’s Poetics / translated, with introduction and notes by Charles E. Butterworth. Princeton: Princeton University Press, 1986. P. 3–50.