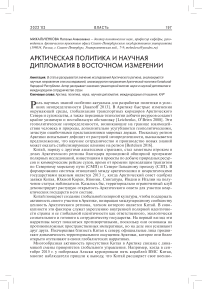Арктическая политика и научная дипломатия в восточном измерении
Автор: Михальченкова Наталья Алексеевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается значение исследований Арктического региона, анализируются научные направления этих исследований, анализируются направления Арктической политики Китайской Народной Республики. Автор раскрывает значение гуманитарной миссии науки и научной дипломатии в международном сотрудничестве стран.
Арктика, политика, наука, научная дипломатия, международные отношения, кнр
Короткий адрес: https://sciup.org/170195050
IDR: 170195050 | DOI: 10.31171/vlast.v30i3.9067
Текст научной статьи Арктическая политика и научная дипломатия в восточном измерении
Р оль научных знаний особенно актуальна для разработки политики в условиях неопределенности [Jasanoff 2013]. В Арктике быстрые изменения окружающей среды, глобализация транспортных коридоров Арктического Севера и судоходства, а также передовые технологии добычи ресурсов создают крайне уязвимую и нестабильную обстановку [Leichenko, O’Brien 2008]. Эти геополитические неопределенности, возникающие на границе взаимодействия человека и природы, дополнительно усугубляются геополитическими, зачастую ошибочными представлениями мировых держав. Поскольку регион Арктики испытывает дефицит от растущей неопределенности, высказывается предположение, что научное сотрудничество и производство новых знаний может оказать стабилизирующее влияние на регион [Bertelsen 2016].
Китай, наряду с другими азиатскими странами, стал заметным игроком в делах Арктического региона благодаря проводимой обширной программе полярных исследований, инвестициям в проекты по добыче природных ресурсов и коммерческим рейсам судов, время от времени проходящим транзитом по Северному морскому пути (СМП) и Северо-Западному проходу (СЗП). В формировании системы отношений между арктическими и неарктическими государствами важным является 2013 г., когда Арктический cовет одобрил заявки Китая, Южной Кореи, Японии, Сингапура, Индии и Италии на получение статуса наблюдателя. Казалось бы, территориально ограниченный клуб демонстрирует растущую открытость Арктического совета для участия неарктических государств в его составе.
Китай поощряет создание глобальной полярной культуры, чтобы поддержать активность своего участия в Арктике, возвращая международному сообществу ценность Арктического региона, членом которого является Китай. В совокупности эти факторы служат укреплению внутренней полярной идентичности страны и ее глобальной идентичности как ответственного, экологически сознательного и готового к сотрудничеству государства. На первый взгляд эти нарративы могут показаться противоречивыми, поскольку они основаны на противоположных пространственных императивах, но на деле они усиливают друг друга. Подчеркивая близость Китая к северу, официальные лица продвигают динамичность территориального ощущения Арктики, которое они более открыто отстаивают в своих глобалистских нарративах.
Многообразная активность присутствия Китая в Арктике связана с динамикой смены приоритетов глобального управления. Например, когда в сентябре 2015 г. у побережья Аляски курсировали пять кораблей ВМС Китая, многие наблюдатели пришли к выводу, что Китай расширяет свое военно- морское присутствие в Арктике [Su Ping, Mayer 2018; Brady 2017]. Тот факт, что Китай идентифицирует себя как «приарктическое государство» и «заинтересованную сторону», также вызывает подозрения среди ведущих арктических держав [Jakobson, Peng 2012]. Китайский адмирал в отставке заметил, что «Арктика принадлежит всем людям во всем мире, из чего следует, что ни одна нация не имеет над ней суверенитета». Многие отмечают активность КНР, в т.ч. новое здание посольства Пекина в Рейкьявике и инвестиционные планы горнодобывающей компании в Гренландии, что может быть свидетельством экспансионистских амбиций Китая [Su, Lanteigne 2015]. В 2013 г. в международных СМИ, в материалах об арктических приоритетах Китая отмечалась активность последнего как в инвестициях в нефть и газ, так и во вложениях в проектирование арктического судоходства, возможности военного присутствия. Следствием этого явился меморандум Министерства иностранных дел Китая, который официально отказал в крупномасштабных инвестициях в Гренландию. Не удивительно, что попытки Китая получить статус постоянного наблюдателя в Арктическом совете вызвали бурные дискуссии. КНР неоднократно заявляла, что уважает суверенные права арктических государств и безоговорочно поддерживает нормы и принципы, заложенные Арктическим советом1 [Peng, Wegge 2014].
На этом фоне научное присутствие Китая в Арктике видится в положительном свете. Китайские исследователи и ученые сформировали существенное сотрудничество в направлении сетевых проектов. В 1996 г. Китай присоединился к Международному научному комитету по Арктике ( IASC ). В 1999 г. КНР организовала первую из восьми арктических экспедиций, в 2004 г. – инициировала Азиатский форум полярных наук с Японией и Южной Кореей и создала полярную станцию «Хуанхэ». Три года спустя Китай присоединился к мероприятиям по проведению Международного полярного года. В 2012 г. Россия и Китай установили ежегодный двусторонний диалог, открыв путь для аналогичных двусторонних диалогов с Канадой и США, каждый из которых проводится крупнейшими университетами или научно-исследовательскими институтами. В 2013 г. был создан Китайский центр северных арктических исследований ( CNARC ) как многосторонняя исследовательская платформа под руководством Китая, которая объединяет ученых, предпринимателей и политиков из КНР, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии, а также российских и американских наблюдателей [Большаков 2017; 2018]. В 2017 г. Китай и Исландия открыли новую совместную полярную обсерваторию «Аврора». В КНР в дополнение к необходимым технологическим аппаратным возможностям для полярных исследований быстро развивались соответствующие академические направления подготовки и институциональные структуры. Китайское полярное исследовательское сообщество включает ученых в области естественных и социальных наук и публикует результаты своих исследователей в новых журналах, исследовательских центрах и на научных конференциях [Yang, Yu 2014].
Активность исследований Китая привела к повышению уровня доверия среди академического сообщества. Исследования позволяют определить четыре механизма построения такого доверия: 1) совместное использование научных ресурсов; 2) долгосрочное взаимодействие между учеными; 3) укрепление институтов, основанных на знаниях; 4) косвенные эффекты.
Совместное использование инфраструктуры, ресурсов и данных о суровых природных условиях Арктики позволяет сформировать сетевую исследовательскую инфраструктуру, активно обмениваться научной информацией. Подобное сотрудничество позволяет сформировать сеть формализованных отношений между учеными и научно-исследовательскими учреждениями, включая, например, Арктическую сеть наблюдений, Международный арктический научный комитет, Университет Арктики, Форум операторов арктических исследований, Международную сеть наземных исследований и мониторинга в Арктике, Всемирную метеорологическую организацию, Международный совет по исследованию моря, Тихоокеанскую арктическую группу, Ассоциацию молодых полярных ученых и Международную арктическую ассоциацию социальных наук. Соглашение 2017 г. о расширении международного научного сотрудничества в Арктике развивает это сотрудничество: например, содействие поездкам и обмен исследовательскими материалами, образцами, данными, оборудованием, исследовательской инфраструктурой и объектами. Примером является Комитет научных администраторов (руководителей) Нью-Алесунда, который управляет общей исследовательской и лабораторной инфраструктурой [Su Ping, Mayer 2018]. Китайские ученые являются членами большинства этих многосторонних соглашений.
Собственная деятельность Китая по обмену данными в полярной науке восходит к началу 1980-х гг. Полярные исследования КНР были инициированы участием ученых в исследовательских программах других государств, таких как Австралия, Чили и Япония. Китай участвовал в проектах своим ледоколом и исследовательскими ресурсами при проведении Китайской антарктической исследовательской экспедиции и других национальных арктических исследовательских экспедиций [Yang 2012]. Все китайские арктические исследовательские экспедиции были открыты для иностранных участников. Китайские ученые участвовали в арктических экспедициях, инициированных другими странами. Например, они проводили совместные исследования ледников и вечной мерзлоты с канадскими учеными, а также исследования по бурению льда с учеными из Дании и Гренландии [Yang 2012].
Эта традиция обмена была углублена активизацией участия Китая в Международном полярном году (МПГ) 2007–2008 гг. Например, программа МПГ в Китае включала в себя проект PANDA (2007–2010 гг.), в рамках которого было установлено 30 систем наблюдения в ходе четырех антарктических экспедиций в сотрудничестве с Австралией, Японией, Великобританией и США. Другие проекты выполнялись в сотрудничестве с учеными из ЕС, Канады, Финляндии, Франции, Норвегии и США1. В рамках долгосрочного сотрудничества в области токсичных загрязнителей китайские институты предлагают наилучшее доступное измерительное оборудование, а норвежские исследователи делятся своим опытом измерений [He, Zhang 2012]. Поскольку совместное использование инфраструктуры и ресурсов – это не просто часть отдельных экспедиций, а постоянная функция, китайская научная дипломатия в регионе способствовала росту «процедурного доверия» между всеми заинтересованными сторонами.
Благодаря взаимодействиям ученых, научно-исследовательских институтов и их прочным отношениям получила развитие научная дипломатия. Долгосрочные взаимодействия между учеными помогают трансформировать процедурное доверие в общее взаимное доверие между научным сообществом и даже политическими акторами. Транснациональные партнерства, или сети постепенно улучшают способность ученых разрабатывать новые корпоративные структуры, такие как более глубокая кооперация между Шанхайским институтом международных исследований и университетом Тунцзи, а также ежегодные двусторонние и многосторонние диалоги между Китаем и арктическими государствами.
Став наблюдателем в Арктическом совете, Китай активно поддерживает ключевую региональную организацию, которая основывает свои обсуждения на оценках рабочих групп, состоящих из ученых из арктических и неарктических государств1. По мере того как китайские университеты и научно-исследовательские институты расширяют свои сети в Арктике, они усиливают контекст общепринятых ценностей и процедур, что нашло отражение в структуре Арктического совета и региональных институтов. В контексте этих основанных на знаниях институтов взаимное доверие возникает на основе профессионализма. Хотя вклад китайских ученых в рабочие группы Арктического совета, возможно, недостаточен, логика совместного получения объективных знаний благоприятствует институциональной кооперации.
В противовес положительной оценке четырех вышеприведенных механизмов важно отметить, что субъекты научной дипломатии должны решать ряд «пограничных проблем», которые усложняют построение доверия. Большинство ученых проводят четкую границу с политической сферой. Директор Норвежского полярного института отмечает: «…ученые должны понимать свою роль, предоставлять точные и нейтральные знания и не должны переходить черту, занимаясь политикой» (Ян-Гуннар Винтер, интервью 21 января 2016 г.). «Я надеюсь, что сами ученые в своей работе не мыслят политически» (Сьюзен Барр, интервью 23 августа 2016 г.). Китайские ученые также подтверждают, что не преследуют политические цели.
Хотя отношение к политизации науки, формирующей научную дипломатию, различается от страны к стране, научное сотрудничество преследует политические цели, оно утрачивает свои профессиональные принципы и стандарты, что препятствует доверительному сотрудничеству между международными партнерами [Su Ping, Mayer 2018]. Политизация науки вызывает озабоченность, когда продвигаются узкие исследовательские темы, которые относятся к национальным интересам, а не к знаниям как универсальному общественному благу. Чрезмерная политизация подразумевает, что ученые выполняют дипломатическую или административную работу и не занимаются настоящими исследованиями. В результате возникает тенденция – дипломатия без науки.
Использование термина «научная дипломатия» может усилить политическую инструментализацию научного сотрудничества. Крайне важно, с одной стороны, понять существующую множественность границ и не уходить от политических контекстов или подтекстов. Практики и ученые склоняются к дальнейшему укреплению научной дипломатии, которая будет работать успешно только в том случае, если в ее основе останутся научные исследования, а не политические или административные значения.
Список литературы Арктическая политика и научная дипломатия в восточном измерении
- Большаков С.Н. 2017. Арктический регион в спектре геоэкономических и геополитических интересов. — Европейская зона российской Арктики: сценарии развития: сборник материалов всероссийской научной конференции. Сыктывкар. Изд-во КРАГСиУ. С. 57-61.
- Working Groups'. - Arctic Council. 2015. URL: http://www.arctic-council.oig/index.php/en/ about-us/working-groups (accessed 02.05.2022).
- Большаков С.Н. 2018. Арктические направления политики Финляндии: геополитическое и геоэкономическое направления. - Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления: теория и практика управления. № 20(25). С. 210-216.
- Bertelsen R.G. 2016. Triple-helix Knowledge-based Sino-Nordic Arctic Relationships for Trust and Sustainable Development. - Advances in Polar Science. Vol. 27. Is. 3. P. 180-184.
- Brady A.-M. 2017. China as a Polar Great Power. Cambridge: Cambridge University Press. Vii+273 p.
- He J., Zhang F. 2012. [The Development of Arctic Science and Technology Based on the Arctic Policies of Arctic Nations]. - Chinese Journal of Polar Research. Vol. 4 (December). P. 408-414.
- Jakobson L., Peng J.C. 2012. China's Arctic Aspirations: SIPRI Policy Paper No. 34. URL: https://www.sipri.org/publications/2012/sipri-policy-papers/chinas-arctic-aspirations (accessed 30.04.2022).
- Jasanoff S. 2013. Epistemic Subsidiarity-coexistence, Cosmopolitanism, Constitutionalism. - European Journal of Risk Regulation. Vol. 4. Is. 2. P. 133-141.
- Leichenko R., O'Brien K. 2008. Environmental Change and Globalization: Double Exposures. Oxford: Oxford University Press. 192 p.
- Peng J., Wegge N. 2014. China and the Law of the Sea: Implications for Arctic Governance. - The Polar Journal. Vol. 4. Is. 2. P. 287-305.
- Su Ping, Mayer M. 2018. Science Diplomacy and Trust Building: 'Science China' in the Arctic. - Global Policy. Vol. 9. Is. 3. P. 23-30.
- Su P., Lanteigne M. 2015. China's Developing Arctic Policies: Myths and Misconceptions. - Journal of China and International Relations. Vol. 3. No. 1. P. 21-25. URL: https://journals.aau.dk/index.php/jcir/article/view/1144 (accesse 01.05.2022).
- Yang H. 2012. Development of China's Polar Linkages. - Canadian Naval Review. Vol. 8. Is. 3. P. 1-30.
- Yang J., Yu H. 2014. The Community of Chinese Scientists and the Agenda Setting of Arctic Governance. к/l]. - Journal of International Relations. Vol. 6 (November/December). P. 37-49.