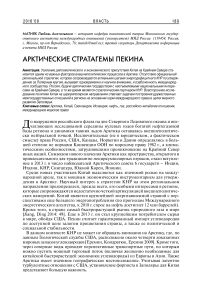Арктические стратагемы Пекина
Автор: Матияк Любовь Анатольевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политика в фокусе
Статья в выпуске: 8, 2016 года.
Бесплатный доступ
Усиление дипломатического и экономического присутствия Китая на Крайнем Севере становится одним из важных факторов внешнеполитических процессов в Арктике. Отсутствие официальной региональной стратегии, которое сопровождается активными шагами энергодефицитного КНР по утверждению за Полярным кругом, вызывает одновременно и научное внимание, и озабоченность международного сообщества. Россия, будучи арктическим государством с неотъемлемыми национальными интересами на Крайнем Севере, в то же время является стратегическим партнером КНР. Всестороннее исследование политики Китая на циркумполярном направлении отвечает задачам построения дружественных межгосударственных отношений в регионе на основании норм международного права в целях мирного развития Заполярья.
Арктика, китай, гренландия, исландия, нефть, газ, российско-китайские отношения, международное морское право
Короткий адрес: https://sciup.org/170168510
IDR: 170168510
Текст научной статьи Арктические стратагемы Пекина
Д о водружения российского флага на дне Северного Ледовитого океана и впечатляющих исследований середины нулевых годов богатой нефтегазовой базы региона и динамики таяния льдов Арктика оставалась внешнеполитически нейтральной точкой. Исключительные (не в юридическом, а фактическом смысле) права России, США, Канады, Норвегии и Дании определялись в большей степени не нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., а климатическими особенностями, затруднявшими проникновение на Крайний Север иных наций. Символом нового значения Арктики как пространства, открытого и привлекательного для традиционно нециркумполярных игроков, стало вступление в 2013 г. в число наблюдателей Арктического совета 6 государств – Индии, Италии, КНР, Сингапура, Южной Кореи, Японии.
Среди новых участников Китай выделяется как значимой ролью на международной арене, так и мощным экономическим инструментарием для утверждения в Арктике. Научный интерес к стратегии КНР на этом региональном направлении предопределен, прежде всего, его особыми интересами в регионе, которые сопровождаются недостаточно четкой артикуляцией внешнеполитических намерений. Китай является крупнейшей энергозависимой страной с перспективами еще большего энергопотребления (по прогнозам Международного энергетического агентства, к 2018 г. спрос на нефть достигнет 12 млн баррелей). Кроме того, в стране самый быстрорастущий рынок природного газа в мире [Jiang, Ding 2014: 49]. Еще в 2013 г. он стал крупнейшим потребителем сырья в мире, обойдя США. Пекин считает гарантированный импорт углеводородов по доступной цене залогом процветания страны, а также ее политической и социальной стабильности.
В данном контексте КНР не может не обращать внимания на Арктику, где, по данным Геологической службы США, расположено около четверти доказанных мировых запасов углеводородов [Еремин, Кондратюк, Еремин 2009]. Кроме того, через северные воды проходят перспективные транспортные пути, по которым можно пустить мощный торговый поток (включая жизненно необходимые для китайской быстрорастущей экономики углеводороды) из Европы и Азии. Также Арктика имеет значимое географическое местоположение. Учитывая латентно турбулентные отношения с США, установление форпоста в Заполярье для Китая представляет большую важность.
Цель данной статьи заключается в рассмотрении степени и масштаба дипломатического, экономического и научного присутствия КНР в циркумполярном регионе, а также перспектив его утверждения на Крайнем Севере. В свете обновления взглядов руководства Китая на роль страны в мире с одновременной фиксацией значительно более высокого с наступательной точки зрения внешнеполитического камертона дискуссионным вопросом остается пропорциональное соотношение мирного и экспансионистского в его будущих действиях. С учетом высокого уровня двусторонних отношений России с одним из важнейших на мировой арене партнеров и в то же время национальных интересов нашей страны как одного из государств арктической «пятерки» предмет исследования представляет значительный интерес как для научного осмысления региональных процессов, так и для экспертного содействия дипломатической деятельности.
Ввиду всесторонней удаленности КНР от циркумполярных просторов вначале китайский интерес к Арктике ограничивался точечными научноисследовательскими проектами. Первая национальная экспедиция на Северный полюс состоялась лишь в 1951 г. До этого слова «Арктика» и «Китай» сосуществовали только в текстовом пространстве Парижского договора по Шпицбергену 1920 г., одной из стран-подписантов которого стала эта страна. В начале 1980-х гг. в Пекине появляется первый научно-исследовательский институт, занимающийся хоть и полярной, но еще не арктической проблематикой, – Комитет по экспедициям в Антарктиду ( The Antarctic Expedition Committee ). В связи с расширением сферы деятельности в 1996 г. он переименовывается в Управление по делам Арктики и Антарктики КНР ( The Chinese Arctic and Antarctic Administration ). Весьма примечательно, что по времени это в точности совпадает с учреждением Арктического совета (АС) – первого международного форума высокого уровня для обсуждения проблем Заполярья. Его возникновение повысило общемировую значимость Крайнего Севера. Вероятно, в определенной степени КНР дала тонкий научный ответ на призрачный внешнеполитический вызов.
Кроме того, в 1989 г. в Шанхае открылся Институт полярных исследований КНР ( The Polar Research Institute of China ), на который возложили решение практических задач по подготовке экспедиций на Северный и Южный полюса, включая вопросы логистики, обслуживания ледоколов, управления делами полярных станций. Он также курирует деятельность научных лабораторий, Национального полярного архива КНР и специализированных журналов [Stеnsdal 2013].
С конца прошлого тысячелетия научное внимание КНР к региону наращивается: в настоящий момент Китай ежегодно инвестирует около 60 млн долл. в полярные исследования, что превышает соответствующие расходы США1. С 1999 г. судно-снабженец усиленного ледового класса «Снежный дракон» ( Xuelong ) (его китайцы приобрели у Украины еще в 1993 г.) осуществило 5 экспедиций, в т.ч. с выходом к Северному полюсу в 2010 г. Кроме того, на Шпицбергене в 2004 г. КНР открыла свою первую постоянную полярную базу «Желтая река» ( Huanghe ) для изучения климатических изменений в Арктике и их воздействия на экосистему Китая.
Однако некоторые китайские исследователи призывают фокусироваться в большей мере на геостратегическом пакете вопросов и наращивать влияние в регионе (включая обоснование территориальных правопритязаний на циркумполярные районы). Весьма любопытно, что такие в некоторой степени оппози- ционные взгляды печатаются в подцензурных научных журналах, т.е. с молчаливого согласия властей [Alexeeva, Lasserre 2012].
Отчетливое внешнеполитическое измерение китайская заинтересованность в Арктике приобрела с настойчивым продвижением Китаем своей кандидатуры в наблюдатели АС (заявку подали еще в 2007 г.), которое увенчалось успехом в 2013 г. Теперь присутствие страны в циркумполярном регионе получило юридическое закрепление. Тем не менее этот статус пока носит скорее символический характер, поскольку широкими правами в рамках организации наблюдатели не обладают. Предполагается, что они, прежде всего, будут участвовать в тематических рабочих группах и общих проектах. Даже возможности по финансированию тематических инициатив в рамках АС существенно ограничены, поскольку большую часть расходов должен покрывать один из постоянных членов.
Однако совокупность обозначенных в начале статьи китайских потребностей, которые легко удовлетворить благодаря укоренению в Заполярье, не может не настораживать. Более того, КНР пока пунктирно, но движется по региональному полю – эти шаги не приобрели прямолинейности и четкой векторности выверенной политики в регионе, но недвусмысленно обозначили интерес азиатской державы. В частности, китайское экспертное сообщество всяческим образом культивирует образ КНР как «околоарктического государства» ( near Arctic state ) [Sun 2013: 4], что, разумеется, довольно абсурдно с картографических позиций, но показательно в смысле подготовки к более решительным внешнеполитическим маневрам.
Невозможно игнорировать тот факт, что руководство КНР стремится выстроить привилегированные отношения с циркумполярными странами. Весьма примечательно, что большое внимание уделяется региональным «миноритариям», например малому островному государству Исландия. Именно с этой страны в 2012 г. началось европейское турне премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао, в ходе которого были подписаны соглашения о сотрудничестве в Арктическом регионе, в т.ч. в целях развития морских и полярных исследований, а также геотермальной энергии1. В 2013 г. стороны заключили соглашение о свободной торговле. Оно особенно интересно тем, что это первый договор такого типа с европейской страной. Стоит отметить, что ради участия в проекте Пекин даже согласился сделать шаг навстречу Норвегии, отношения с которой оставались практически замороженными с 2010 г., когда Нобелевская премия мира была присуждена китайскому диссиденту Лю Сяобо.
Довольно странно на этом фоне выглядит инициатива предпринимателя Хуана Нубо (к слову, в прошлом сотрудника отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии КНР) по строительству высококлассного отеля с площадкой для гольфа в Гриммстадире2, который 8 месяцев в году покрыт снегом. По мнению ряда обозревателей, интерес КНР к развитию туристического сектора на острове обусловлен необходимостью «санкционировать» доступ китайских рабочих в страну для дальнейшего участия в строительстве и обслуживании торговых портов и разработке арктических ресурсов3.
Пекин развивает диалог и с Данией, которая еще в 2011 г. оказала поддержку северным планам КНР. Посол Дании в КНР заявил, что у последней «естествен- ные и законные экономические и научные интересы в арктическом регионе»1, а также подтвердил намерение содействовать укреплению азиатской страны в рамках АС. В 2012 г. Дания стала единственным государством, которое посетил председатель КНР Ху Цзиньтао по пути на саммит G20 в Мексике.
Учитывая «синдром Тайваня», вынуждающий КНР избегать контактов с автономными и самоуправляемыми территориями, довольно необычным стал визит министра Гренландии по промышленности и природным ресурсам О. Берзелсена в КНР в 2011 г. и оказанный ему прием. В отличие от многих более высокопоставленных европейских и азиатских коллег, он был удостоен встречи с вицепремьером Госсовета КНР страны. В следующем году он вновь посетил Китай с целью предметного обсуждения проекта по совместной добыче железной руды на острове [Degeorges 2013].
Однако Пекин не может выстроить эффективную арктическую стратегию, основываясь лишь на энергетическом взаимодействии с менее амбициозными и экономически податливыми Скандинавскими странами. Диалог с Россией, которая одновременно является и мощным региональным игроком, и международным актором с широкими внешнеполитическими возможностями, имеет принципиальное значение. Охлаждение отношений с Западом и его санкционные последствия заставляют некоторых экспертов предположить, что развитие русской Арктики, ранее подразумевавшее совместные добывающие проекты с такими энергетическими гигантами, как Statoil, Exxon, Eni , теперь будут проходить при активном содействии китайских бизнес-структур.
Первые договоренности в этой сфере уже достигнуты. В феврале 2015 г. в ходе Красноярского экономического форума заместитель председателя правительства РФ А.В. Дворкович заявил, что, несмотря на отсутствие конкретных предложений с китайских стороны об участии в проектах по освоению стратегических месторождений (исключая шельфовые – в них только миноритарное участие), соответствующие инициативы КНР будут немедленно рассмотрены, учитывая отсутствие каких-либо политических препятствий2. Уже ведутся переговоры Роснефти с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией ( CNPC ), Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорацией ( CNOOC ) и Китайской нефтяной и химической корпорацией ( Sinopec ) о совместной добыче нефти на арктическом шельфе – эксперты оценивают возможную долю КНР в 33,3%3. Кроме того, планируется привлечение китайских компаний в проекты по добыче газа и строительству СПГ-завода также совместно с Роснефтью4.
Партнерство России с Китаем на данном региональном поле не может получить однозначную оценку. С одной стороны, благодаря такому тесному взаимодействию наша страна приобретает долгосрочного инвестора, способного вкладывать немалые средства в развитие дорогостоящих и высокотехнологичных энергетических проектов. Их осуществление без значительных вливаний зарубежного капитала на данном этапе невозможно. Кроме того, сотрудничество в нефтегазовой сфере в целом содействует торгово-экономическому сближению с КНР, являющемуся участником важных для России «альтернативных» междуна родных стр уктур БРИКС и ШОС.
Если отвлечься от двусторонних связей, вопрос, как выстроить на циркумполярном поле грамотную линию поведения с Китаем и не допустить его экономической экспансии, может стать фактором, способным улучшить отношения России с иными арктическими государствами. Общий тактический вызов станет новым тематическим пространством для диалога с Европой и Северной Америкой1. В то же время потенциальная зависимость от азиатской державы как безальтернативного в свете санкций и противостояния с Западом партнера по развитию энергетического сектора, в т.ч. на Севере, способно превратиться в рычаг влияния, которым Китай не преминет воспользоваться для получения доступа к арктическим ресурсам.
Таким образом, исследование политики КНР на циркумполярном направлении может проводиться лишь посредством сложения разноформатных фрагментов – научного присутствия в регионе, энергетических интересов и потребностей, двусторонних отношений с арктическими государствами или позиции в качестве наблюдателя в АС. Конкретные шаги КНР на региональной арене показали контуры китайской циркумполярной мысли.
Во-первых, вне всяких сомнений, присутствие КНР в регионе будет только усиливаться, учитывая как динамику 1990–2000-х гг., так и огромную заинтересованность энергодефицитной державы в арктическом углеводородном потенциале и открывающихся транспортных возможностях. Во-вторых, вызывает некоторое опасение подчеркнуто научный интерес КНР к региону – словно расширение экономического сотрудничества с циркумполярными государствами, прежде всего в нефтегазовой сфере, является вынужденными, побочными видами деятельности для увлеченного климатическими исследованиями Китая. В-третьих, устойчивое желание Пекина мимикрировать под страну, всегда находившуюся в циркумполярном спектре, настораживает. Этой задаче отвечало и многосложное вступление в наблюдатели Арктического совета, и постепенное продвижение концепции «околоарктического государства». Очевидно, цель – утвердить в мировых общественных кругах представление о Китае как о практически коренном жителе Крайнего Севера с исконными интересами, а не чужеземце, движимом экспансионистскими намерениями.
В связи с этим перед Россией одновременно стоит несколько сложно совместимых задач. Важность сохранения стратегического партнерства не подлежит сомнению. Взаимодействие с Китаем в Заполярье необходимо и в целях развития перспективных, но требующих значительных инвестиций нефтегазовых проектов. Появление мощного союзника в рамках АС и на региональном пространстве в целом также усиливает отечественные позиции в Арктике. В свете современной геополитической ситуации сохранение внешнеполитически мощного азиатского соседа в качестве союзника укрепляет наши позиции на мировой арене2.
Однако чужеродность КНР на циркумполярном поле очевидна. Помимо исторической удаленности от Крайнего Севера, она связана еще и с его принадлежностью к совершенно иной цивилизационной формации, нежели взращенные на христианских постулатах, пусть и с разными догматическими акцентами, арктические государства. Кроме того, наша страна, как и другие члены «пятерки», энергетически обеспечена. Одинаковое «исходное состояние» предопределяет единство интересов, затрагивающих стратегически важные сферы жизни, и способно выступать тем консолидирующим фактором, который перевешивает различия идеологического, политического и экономического свойства.
После распада СССР потребовалось немало времени, прежде чем Россия осознала примат продвижения национальных интересов в диалоге со странами Запада. Огромная заслуга в этом принадлежит выдающемуся государственному деятелю Е.М. Примакову. Близость подходов по международной повестке и ценностным ориентирам, формирующая двусторонние связи особого уровня и свойства, часто дает иллюзию внешнеполитического слияния без обусловленных суверенитетом оговорок. Опасность такого заблуждения, которую России пришлось в полной мере испытать еще в 1998 г., предопределила переформатирование отношений со «зрелыми» демократиями. Тем не менее, проявляя национальную стойкость с одними, не стоит забывать о географической и идеологической универсальности данного принципа – его трансграничность покрывает и восточное направление.
Список литературы Арктические стратагемы Пекина
- Еремин Н.А. Кондратюк А.Т, Еремин А.Н. 2009. Ресурсная база нефти и газа арктического шельфа России. -Георесурсы. Геоэнергетика. Геополитика. № 1
- Alexeeva O., Lasserre F. 2012. China and the Arctic. -Arctic Yearbook 2012. P. 80-90
- Degeorges D. 2013. Denmark, Greenland and the Arctic. Challenges and Opportunities of Becoming the Meeting Place of Global Powers. Copenhagen: Royal Danish Defence College. 17 p
- Jiang J., Ding C. 2014. Update on Overseas Investments by China’s National Oil Companies. Achievements and Challenges since 2011. -OECD/IEA
- Stensdal I. 2013. Asian Arctic Research 2005-2012: Harder, Better, Faster, Stronger. Fridtjof Nansen’s Institute. 39 p
- Sun K. 2013. China and the Arctic: China’s interests and participation in the region. -East Asia-Arctic Relations: Boundary, Security and International Politics., Canada: The Centre for International Governance Innovation. November. Paper No. 2. P. 1-8