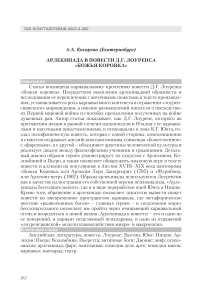Арлекинада в повести Д.Г. Лоуренса «Божья коровка»
Автор: Косарева А.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена карнавальному прочтению повести Д.Г. Лоуренса «Божья коровка». Посредством выявления арлекинадной образности и исследования ее переплетения с античными сюжетами в тексте произведения, устанавливается роль карнавального контекста в отражении «лоуренсианского» мировидения, а именно размышлений писателя о последствиях Первой мировой войны и способах преодоления полученных на войне душевных ран. Автор статьи показывает, как Д.Г. Лоуренс, которого на протяжении жизни в равной степени вдохновляли и Италия с ее карнавалами и масочными представлениями, и психоанализ в лице К.Г. Юнга, создал полифоническую повесть, которая с одной стороны, композиционно и сюжетно подражает английским пантомимам, совмещая «божественное» с «фарсовым», а с другой - объединяет архетипы человеческой культуры и реализует диалог между философскими учениями и традициями. Детальный анализ образов героев демонстрирует их сходство с Арлекином, Коломбиной и Пьеро, а также позволяет обнаружить языковую игру в тексте повести и аллюзии на популярные в Англии XVIII-XIX века пантомимы «Божья Коровка, или Арлекин Лорд Дандриэри» (1795) и «Фурибонд, или Арлекин-негр» (1807). Образы арлекинады используются Лоуренсом как в качестве иллюстрации его собственной версии психоанализа, «Арлекинады бессознательного», так и в виде переработки идей Юнга и Ницше. Кроме того, обращение к арлекинаде позволяет писателю вывести сюжет повести во вневременное пространство карнавала, где метафорическое шествие «развенчанных богов» - главных героев - в «подземном мире» бессознательного позволяет им пройти через очищающий карнавальный огонь и возродиться к новой жизни. Арлекинада в повести - это и одно из ее измерений, и вариант исцеляющей психодрамы, и одно из отражений «лоуренсианской» модели взаимодействия микро- и макрокосма.
Английская литература, повесть, лоуренс, бахтин, юнг, ницше, арлекин, пьеро, коломбина, пьеретта, античные боги, дионис, миф, психоанализ, арлекинада, фарс, пантомима, комедия дель арте, комедия масок, карнавал, маскарад, театр
Короткий адрес: https://sciup.org/149143540
IDR: 149143540 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-262
Текст научной статьи Арлекинада в повести Д.Г. Лоуренса «Божья коровка»
Отношение критиков к творчеству Д.Г. Лоуренса всегда отличалось противоречивостью: в середине 1950-х в нем видели продолжателя английской литературной традиции и создателя «романа рабочего класса»; в 1960-х называли «певцом сексуального освобождения» и «священником любви», а в 1970-х окрестили «женоненавистником» и символом насилия патриархата над женщинами [Burden 2000, 1]. Одни считали его моралис- том, другие – нарушителем общественной морали; его прославляли как первого английского писателя из рабочего класса и одновременно порицали за нелестное отношение к среде, которая его взрастила. В 1980-х исследователи стали уделять больше внимания комическому элементу в творчестве Лоуренса, и карнавальные «бахтинские» прочтения его произведений обрели статус отдельного направления в «лоуренсоведении»: работы М. Леоне [Leone 2010], Д. Лоджа [Lodge 1990], А. Флайшмана [Fleishman 1990], Д.С. Рю [Ryu 1999], П. Эггерта и Д. Уортена [Eggert, Worthen 1996] раскрыли творчество Лоуренса в совершенно новом свете. Началом «карнавального Лоуренса» стал 1984 г., когда был опубликован незаконченный роман писателя «Мистер Нун» (1920–1921). Это произведение оказалось настолько насыщено фарсом, сатирой, пародией и самопародией, что критики, перечитав письма и дневники Лоуренса, обнаружили, что он вовсе не был «тяжеловесным, лишенным чувства юмора обличителем современности», каким его представляли Норман Дуглас, Т.С. Элиот и Ф.Р. Ливис [Burden 2000, 150]. Более того, литературовед Джон Уортен обнаружил, что в кругу близких друзей Лоуренс был комиком и пародистом со специфическим саркастическим юмором. По мнению Уортена, открытый заново Лоуренс во многом напоминал Чарльза Диккенса: «оба демонстрировали склонность к театрализации работы, жизни и гротеска» [Burden 2000, 154]. К фарсу Лоуренс обратился в период, когда его роман «Влюбленные женщины» (1920) был запрещен, а семья писателя жила в нищете. В письмах, относящихся к этой черной полосе, Лоуренс «смеялся над отвергнувшей его публикой, английским обществом, которое он покинул, и над самим собой» [Burden 2000, 150]. Смех стал защитным механизмом, спасавшим писателя от уныния, и «карнавальные прочтения» применимы ко всем его романам, написанным в 1920-е гг.: «Влюбленным женщинам» (1920), «Пропавшей девушке» (1920), «Мистеру Нуну» (1920–1921), «Жезлу Аарона» (1922) и «Любовнику леди Чаттерлей» (1928). Творчество Лоуренса здесь – «драматическая шарада, карикатура и гротескная комедия» с «анархоапокалиптическим» звучанием [Burden 2000, 154–155]. Заявившие о себе карнавальные стратегии писательского стиля Лоуренса включали не только инверсию общепринятого социального порядка, прославление телесности и гротеск, но и обращение к системе персонажей комедии дель арте, знакомой Лоуренсу по итальянским пьесам, карнавалам и английским пантомимам. Об особом месте арлекинады в мировидении Лоуренса свидетельствуют и упоминания писателем итальянских масок в сборнике эссе «Сумерки в Италии» (1916), и тот факт, что одну из своих работ, посвященных психоанализу – «Фантазию на тему о бессознательном» (1922), – он изначально назвал «Арлекинадой бессознательного» [Ellis, Mills 2009, 73]. Цель этой статьи – доказать наличие арлекинадной образности в повести «Божья коровка» (1923) и показать, какую функцию она выполняла в отражении авторского видения последствий Первой мировой войны.
Джон Хумма в монографии «Метафора и значение в поздних романах Д.Г. Лоуренса» отмечает, что, несмотря на то, что сам Лоуренс считал «Божью коровку» своим новаторским произведением и был им очень дово- лен, многие именитые критики отзывались о повести нелестно: Грэм Хоу назвал ее «провалом», Джулиан Мойнэхэн окрестил «самой уродливой историей» писателя, а Ливис разочарованно оценил финал произведения как «бегство от реального мира и трудностей» [Humma 1990, 16]. Были и нейтральные отзывы – Монро Энгла и Джеймса Коуэна – но и эти критики не увидели в повести ничего принципиально нового и достойного похвалы. Сам Хумма достаточно высоко оценил художественную организацию текста повести – язык, композицию, детальную проработку образов, резюмировав: «…повесть успешна сам по себе и интересна как своими художественными достоинствами (и в этом отношении интереснее любого другого рассказа Лоуренса), так и своими идеями» [Humma 1990, 16–17]. Отдав дань уважения литературоведу Коуэну, который подробно проанализировал античные метафоры в «Божьей коровке» и показал, как каждая из них разворачивает единый дискурс о взаимодействии аполлонического и дионисийского начал, Хумма остановился на своеобразии стиля Лоуренса в повести: в частности, символизме имен и особенностях построения диалогов. «Божья коровка», по его мнению, – «повесть из надводных и подводных слоев» и, чтобы оценить ее, «читатель должен быть предельно внимателен к подводным повествованиям, войти в которые можно лишь через систему образов» [Humma 1990, 17].
Вступился за повесть и Джуст Даалдер [Daalder 1982, 107–128]: он указал, что многие критики встретили повесть неодобрительными откликами, так как она показалась им недостаточно реалистичной, и были неправы, поскольку Лоуренс изначально задумал историю Дафны как притчу и миф. Даалдер проанализировал текст повести с опорой на эссе Лоуренса «Фантазия на тему о бессознательном» и провел параллели между «ло-уренсианскими» «нижним» и «верхним» сознаниями и дионисийским / аполлоническим началами Ницше. Кроме того, он выявил в тексте повести целый ряд аллюзий на произведения Уильяма Блейка, П.Б. Шелли, «Золотую ветвь» Фрэзера, Библию и египетскую мифологию, и предположил, что любовный треугольник в «Божьей коровке» – отражение личного опыта писателя: Фрида Лоуренс была замужем, когда он ее встретил.
Приведенный обзор показывает, что до сих пор «Божья коровка» интерпретировалась через призму психоанализа, философии Ницше, новой критики и мифокритики, но ни разу не получала прочтения в «бахтинском», карнавальном ключе. Возможно, это связано с историческим фоном описываемых в повести событий (война и полученные на войне травмы совсем не ассоциируются с карнавалом), но своеобразие писательской манеры Лоуренса как раз и заключается в его бесстрашном обращении к гротеску: арлекинада у него идет рука об руку с трагедией, жизнь – со смертью, а смех – со страхом.
Чтобы прочувствовать, как рекомендовал Д. Хумма, все «надводные» и «подводные» слои повести (включая карнавальный), нужно обратиться не только к горестям, но и радостям эпохи Лоуренса. Писатель и его современники – поколение, выросшее на рождественских английских пантомимах, излюбленном развлечении взрослых и детей конца XIX в.
Первая часть пантомимы опиралась на народные предания, мифы, легенды, исторические события, и сводилась к рассказу о романтическом побеге: авторитарный отец или опекун не дает своей дочери выйти замуж за любимого, предлагая ей вместо него глупого или пожилого жениха. Чтобы предотвратить брак по расчету, добрая фея ради их же безопасности превращает влюбленных в Арлекина и Коломбину, а их преследователей в Панталоне, Клоуна и / или Влюбленного / Пьеро. Здесь начинается вторая часть, арлекинада. Фея дарит Арлекину волшебную палочку, с помощью которой он и Коломбина уходят от погони: Арлекин останавливает время, превращает одни предметы в другие, и, в итоге, Панталоне и его команда терпят поражение. Таким образом, сюжет пантомимы состоял из двух «пластов»: мифологического, с участием богов и / или легендарных героев, и комического, высмеивающего антиприродные ограничения, вводимые нелепым общественным порядком.
Повесть «Божья коровка» – английская пантомима в прозе, первая и вторая части которой не следуют друг за другом, а сосуществуют как взаимопроникающие слои единого целого. В качестве «мифологического» слоя выступает повествование о личных трагедиях, порожденных Первой мировой: болеющая туберкулезом леди Дафна тоскливо проживает свои дни в ожидании мужа, Бэзила, который воюет в Турции. Однажды она присоединяется к своей матери, навещающей раненых военнопленных в госпитале, и один из пациентов – граф Иоганн Дионис Псанек из Богемии, их давний знакомый. Дафна начинает ежедневно навещать Диониса и привязывается к нему, но вскоре возвращается Бэзил. Супружеская пара приходит проведать Диониса, и Бэзил приглашает графа в гости. Проводя вместе время в шотландском поместье, герои не только не вступают в конфликт, но, напротив, становятся ближе. Более того, сложившийся любовный треугольник неожиданным образом не разрушает, а укрепляет отношения между супругами. Присутствие Диониса влияет на них магическим образом: к Дафне возвращаются юность и здоровье, а Бэзил избавляется от душевной смуты. Перед отъездом на родину граф Дионис обещает Дафне, что, несмотря на разлуку, сердцем всегда будет рядом с ней. Повесть завершается прощальной беседой Диониса и Бэзила о том, как удивительно изменилась Дафна и как много времени потребуется им обоим, чтобы привыкнуть к мирной жизни. Дафну Лоуренс сравнивает с античными Артемидой, Афродитой, Аталантой, Прозерпиной / Персефоной, графа Диониса – с Дионисом, Паном и Аидом, Бэзила – с Аполлоном. Греческими по происхождению являются и сами имена персонажей: Дафна («лавровое дерево»), Бэзил («царственный»), Дионис («веселый, посвященный богу Дионису»).
Второй слой повести-пантомимы – арлекинада, история побега и тран-формации: Арлекин (граф Дионис) «похищает» у Пьеро (Бэзила) сердце его жены, Коломбины (Дафны). Декорации английской пантомимы всегда отличались блеском и красочностью, но здесь, в пространстве надломленных войной душ, цветовая гамма не отличается разнообразием, и ведущим становится белый – цвет Пьеро и Пьеретты. Белым выписана Дафна – пе- чальная, измученная, живущая в нищете: Лоуренс заостряет внимание читателя на ее «белой холодной руке» [Lawrence 1960, 15], «белой коже», «белом горле» [Lawrence 1960, 12], сравнивает с «вырванной белой лилией» [Lawrence 1960, 44], «белым цветком» [Lawrence 1960, 52]. Граф Дионис сравнивает красоту Дафны с «белой гробницей» [Lawrence 1960, 36], а ее чувства к мужу называет «белой любовью, подобной свету луны» [Lawrence 1960, 37] (Здесь и далее перевод мой – А. К.). «Белый» в этих контекстах – лишенный жизни, радости и теплоты. Белым является и все существо вернувшегося с войны Бэзила, который в мирное время был «очаровательным, высоким, хорошо воспитанным англичанином, таким легким и простым, и со смешинками в голубых глазах» [Lawrence 1960, 38]. Внешность, характер и поведение «послевоенного» Бэзила, очевидно, списаны с Пьеро XIX в.: «чересчур высокодуховный» [Lawrence 1960, 62], высокий и худой, с «бледным изможденным лицом», «длинными белыми руками», «длинными белыми пальцами» [Lawrence 1960, 49], «белым вниманием» [Lawrence 1960, 62], «белой страстью» [Lawrence 1960, 57], безответно влюбленный в собственную жену и прощающий ей измену, он воскрешает в памяти читателя спектакли XIX–XX вв., в которых Пьеро представал в роли ранимого интеллектуала и рогоносца. Свойственный Пьеро эгоцентризм, его зацикленность на своей внутренней боли и нелюбви к себе, выражающейся в мазохистическом преклонении перед нелюбящей его женщиной, Лоуренс показывает глазами Дафны: она с тоской констатирует, что ее муж «не знает ничего кроме своей белой идентичности» [Lawrence 1960, 57]. Скорое возвращение Бэзила делает Дафну «белой как смерть» [Lawrence 1960, 45], она словно предчувствует приближение смерти и холода в его лице и не ошибается: «Его лицо было изможденным, и в нем была странная мертвенная бледность <…>. В его глазах был тот жесткий, белый, сфокусированный свет, который завораживал ее и был для нее ужасен. Он был другим. Он был подобен смерти; как воскресшая смерть. Она чувствовала, что не смеет прикоснуться к нему. Белая смерть все еще преследовала его. <…> Она чувствовала себя беспомощной жертвой его белого ужасного лица» [Lawrence 1960, 47–48]. В пьесах рубежа XIX–XX вв. Пьеро часто выступал в роли убийцы неверной Коломбины, и в эпизоде встречи Дафны с Бэзилом слышны отголоски этого трагического сюжета: Дафну пугает «странная», «непостижимая холодность» в голосе мужа, «белый жуткий огонь» [Lawrence 1960, 48], исходящий от всего его существа. Он и сам осознает, что война искалечила его: «Полагаю, я тебя несколько шокировал… Надеюсь, ты не перестанешь любить меня. Это не случится, не так ли?» [Lawrence 1960, 48] Дрожащей от страха Дафне приходится выдавить из себя лживые заверения в любви, а Бэзил произносит монолог, словно вырванный из мизансцены Пьеро: «Я знал… Я знал, что ты сдержишь обещание. Я знал, что если бы мне пришлось встать на колени, я бы встал на колени только перед тобой. Я знал, что ты божественна, что ты единственная – Кибела, Исида. Я знал, что я твой раб. Я знал. Все это было просто долгой инициацией. Я должен был научиться поклоняться тебе» [Lawrence 1960, 48]. Бэзил пугает не тем, что обожает Коломбину-Дафну до полного самоуничижения, а тем, что душит ее своим ледяным восхищением, не похожим на любовь к реальному живому человеку: «…его возвращение на родину заставило ее снова заболеть… ей пришлось терпеть муки… она знала, что недостаточно сильна или недостаточно чиста, чтобы вынести его ужасное, бьющее через край, обожание. <…> Она могла взойти на пьедестал на время, сияющая, трансцендентная, яростная лунная женственность. Но, увы, она не могла навеки застыть в сиянии своей белой, женственной силы, в таинственной женственности» [Lawrence 1960, 51]. С XVIII в. образ Пьеро неизменно ассоциировался с луной, как источником поэтического вдохновения, и во многих пьесах этот персонаж влюблялся в лунную богиню: например, в пьесе Эрнеста Доусона «Пьеро на час» (1897) Лунная Дева соглашается ответить Пьеро взаимностью при условии, что он никогда не полюбит земную женщину. Бэзил словно сошел со страниц пьесы Доусона: он восхищается лунной богиней, якобы таящейся в теле его жены, но не способен согреть теплом любви реальную Дафну, которая с горечью констатирует, что быть земной ипостасью богини Луны – тяжкое бремя: «Бэзил всегда говорил, что она луна. И Бэзил любил ее за это. Был в экстазе! Она поежилась, подумав о муже. Его любовь сделала ее нервной» [Lawrence 1960, 37]. Травмы, полученные на войне, душевные и телесные, Бэзил пытается излечить смирением. В войне он видит своего рода очищающий огонь, «испытание, через которое нужно пройти», чтобы «достичь более высокого состояния сознания, а значит, и жизни» и познать «более высокий план любви, о существовании которого вы никогда раньше не подозревали» [Lawrence 1960, 55]. Все это – риторика Пьеро, кроткого, смиренного, ищущего утешения в фантазиях: персонажа, в которого из-за войны превратился «полный живительной влаги, молока и меда, золотого северного вина» [Lawrence 1960, 38] молодой мужчина.
Диаметрально противоположно мировидение Арлекина – графа Диониса: он охвачен яростью и ненавистью к войне, движим одновременно жаждой разрушения и жаждой наслаждения. Арлекину платоническая любовь, приправленная христианской жертвенностью – он называет ее «белой любовью» [Lawrence 1960, 35] – видится надуманной. Его задача в том, чтобы пробудить в печальной Пьеретте Коломбину – «дикую кошку» [Lawrence 1960, 31], спутницу «дьявола», ведь в ее жилах течет «кровь сорвиголов»: «Дафна вышла замуж за приятного мужчину: действительно милого. Однако ей был нужен сорвиголова. Увы, разумом она ненавидела всех любителей острых ощущений: мать научила ее восхищаться лишь добрыми людьми» [Lawrence 1960, 13].
В образе графа Диониса синтезированы черты Арлекина XVI и XIX столетий: вздернутый нос, смуглая кожа, темные глаза и большие «белые негроидные зубы» [Lawrence 1960, 36] – напоминание об африканских корнях персонажа. Следует отметить, что прототипом Арлекина был танцующий африканский раб, а в начале XIX в. в Англии имела успех пантомима «Фуринбонд, или Арлекин-негр» (1807); именно поэтому Лоуренс заостряет внимание читателя на том, что граф «принадлежал к расе древних рабов» [Lawrence 1960, 62]. Бэзил называет Диониса «экстравагантным маленьким забиякой» [Lawrence 1960, 62], а Дафна, хоть и находит графа «немного комичным» и «немного похожим на обезьянку» [Lawrence
1960, 16], отмечает, что он «удивительно хороший танцор» и «невероятный дэнди» [Lawrence 1960, 17]. Таков и Арлекин комедии дель арте: обаятелен в своей некрасивости, напоминает обезьяну, подвижен, искусно танцует. Традиционный «аксессуар» Арлекина – палка («баточчио»), которой он беспощадно колотит тех, кто выводит его из себя. Своего рода метафорическое «баточчио» есть и у графа Диониса, это его ярость: «Да буду я жить долго, чтобы мой молот бил и бил, а трещины шли все глубже, глубже! О, мир людей! Ах, радость, страсть в каждом ударе сердца! Нанеси удар, нанеси верный удар, нанеси уверенный удар. Ударь, чтобы уничтожить его. Удар! Удар! Чтобы разрушить мир человека» [Lawrence 1960, 43]. Образ Арлекина восходит к средневековому демону Эллекену, пытавшему грешников в аду, и демонизм, выраженный в большей или меньшей степени, – та самая огненная «искра», которая отличает полного энергии веселого дзанни от пассивного и меланхоличного Пьеро. «В моем теле живет дьявол, который не умрет» [Lawrence 1960, 22], – уверенно заявляет Дионис в разговоре с Дафной; «Бедный дьявол!» [Lawrence 1960, 50] – сочувственно вздыхает Бэзил, узнав, что Дионис находится на грани жизни и смерти в военном госпитале. Об «арлекинности» графа Диониса свидетельствует и герб его семейства, на котором изображена божья коровка: это и отсылка к викторианской пантомиме «Божья Коровка, или Арлекин Лорд Дандриэ-ри» (1795) [Scott, Howard 1891, 273], и к названию разновидности божьей коровки – «божья коровка-арлекин». Неслучайно в финале повести Дионис напоминает Дафне, что теперь она принадлежит не только Бэзилу, но и ему, «божьей коровке»: «Не забывай же – ты ночная жена божьей коровки, при жизни и даже после смерти» [Lawrence 1960, 76]. Божья коровка – тотемное насекомое Диониса-Арлекина и потому, что символизирует связь между смертью и возрождением. Смерть в данном случае совершенно необязательно подразумевает смерть физическую: Дионис здесь говорит и о переходе от одного состояния к другому, от старого к новому – неизбежном этапе любой трансформации. Любуясь наперстком с божьей коровкой и змеей (подарок графа Диониса), Дафна внезапно испытывает порыв записать и спрятать в наперстке строчки немецкой песенки: «Если бы я была маленькой птичкой и имела два маленьких крыла, я бы улетела к тебе» [Lawrence 1960, 39]. Эти строки – показатель начала внутренних изменений в душе героини, которые, в итоге, приведут к тому, что в Дафне умрет Пьеретта и родится Коломбина – умиротворенная и сильная. Змея на наперстке графа Диониса, как и божья коровка, – остроумный реверанс в сторону семейства пресмыкающихся, одна из пятнистых представительниц которого называется «Арлекин». Змей – это и отсылка к книге Бытия: Сатана в обличии змея соблазняет Еву, тем самым запуская необратимый процесс превращения ангелов, какими являлись Адам и Ева до грехопадения, в простых смертных. Изгнание из рая, задуманное Сатаной как месть, оборачивается благом – развитием человеческой цивилизации. Арлекин-Дионис, искушая Дафну, уничтожает в ней ангела, но раскрывает земную женщину, и это тоже шаг вперед: теперь у нее есть силы преодолевать невзгоды.
Подобно тому, как луна – эмблема Пьеро, солнце – эмблема Арлекина. По мере того как граф Дионис поправляется, он все более обращается мыслями к солнцу и размышляет о собственной солнечной природе: «Солнце должно светить», «Я хочу, чтобы солнце светило» [Lawrence 1960, 23], «Солнце заставляет даже гнев раскрываться, подобно цветку», «Я – подданный солнца. Я принадлежу к огнепоклонникам» [Lawrence 1960, 24]. Солнце Диониса – «темное солнце» [Lawrence 1960, 35]: оно дает жизнь, но оно же и сжигает, уничтожает. В ночь, когда Дафна отдается Дионису, она замечает в нем почти демоническую метаморфозу: «Он был чем-то, сидящим в пламени» [Lawrence 1960, 75]. Эта «сверхъестественность» Диониса – дань как мифологическим корням персонажа (богу Дионису), так и Арлекину, который в английской пантомиме был волшебником. Неслучайно в мыслях Дафны он окутан магическим ореолом: «он вошел в ее мысли внезапно, как по волшебству» [Lawrence 1960, 22], она «околдована», спит «заколдованным сном» [Lawrence 1960, 72].
В переплетении греческих легенд именно с эстетикой комедии дель арте присутствует внутренняя логика. Своим существованием комедия дель арте обязана античной комедии, и Лоуренс тонко прорисовывает параллели между греческими и итальянскими сюжетами. Коломбина всегда убегает от нелюбимого так же, как Дафна спасается бегством от Аполлона; Диониса и Арлекина объединяют и стремление освободиться посредством раскрепощения и разрушения, и связь с театром, и способность транформировать (исцелять, освобождать от бремени забот) и транформироваться (Дионис – бог умирающий и возрождающийся, а Арлекин – мастер перевоплощения). Таким образом, у каждого из персонажей повести – три ипостаси: бог / богиня, комическая маска и человеческое лицо – условно «реалистическая» судьба, вбирающая в себя в равной степени и высокое (божественное) и низкое (фарсовое). В терминах психоанализа, которым Лоуренс увлекался в двадцатые годы XX в., бог и богиня в «Божьей коровке» – это «суперэго», моральные установки героев; человек – «эго»; арлекинадная маска – «ид», бессознательное с его импульсами и инстинктами. Еще раз отметим, что свою вторую работу о психоанализе, «Фантазии на тему о бессознательном» (1922), Лоуренс изначально назвал «Арлекинадой бессознательного». Отсюда следует, что в повести от травм, нанесенных войной, «эго» персонажей спасает не «суперэго» (война убивает мораль и нравственность), а «ид», отвечающий за самые примитивные, но вместе с тем самые важные аспекты человеческого бытия – самосохранение и воспроизводство. Арлекинадный любовный треугольник в повести выполняет терапевтическую функцию: Арлекин показывает Коломбине, что длительное страдание не убило ее душу и тело, и она все еще может любить и быть любимой, а исцеление Коломбины, в свою очередь, ведет к трансформации Пьеро: Дафна с облегчением отмечает, что с тех пор, как она обрела покой, сбросил путы уныния и Бэзил. Активация бессознательного в виде возвращения к телесности помогает героям преодолеть боль от нанесенных войной травм и вернуться к мирной жизни.
Идея связать психоанализ с мифологией и комедией дель арте могла родиться у Лоуренса после прочтения работ К.Г. Юнга: «…его взгляды были поразительно схожи с взглядами Юнга… он читал его "Психологию бессознательного", и, несомненно, находился под его влиянием» [Donaldson, Kalnins 1999,105]. Лоуренсу было созвучно исследование Юнгом роли символов, мифов и архетипов в функционировании человеческой психики, а знание психоанализа он считал необходимой базой для любого начинающего беллетриста: «Мне кажется, что сейчас для того чтобы создавать художественные произведения нужно познать человеческую психику» [Donaldson, I*Kalnins 1999, 105]. В 1920 году, во время путешествия в Италию, Лоуренс однажды посетил театр марионеток и был поражен, обнаружив в незатейливой карнавальной пьесе массу психоаналитических подтекстов: по его словам, «ее можно было бы детально проанализировать с позиций учения Фрейда» [Donaldson, Kalnins, 104]. Можно предположить, что именно тогда итальянские впечатления Лоуренса наложились на вычитанные у Юнга размышления о человеческой природе. Мара Калнинс отмечает, что, по мнению Лоуренса, признание важности архетипов и игры во всех ее аспектах, «будь то карнавал, театр, танец или погружение художника в свое творение» является ключевым для развития творческой личности. Калнинс поясняет: «хоть игра и околдовывает нас лишь на время, ее значимость – в глубинах человеческой природы. Архетипические образы и символы пронизывают древнейшие хроники человечества; подобно им, игровая деятельность объединяет инстинктивную, эмоциональную самость и рациональное, цивилизованное сознание, между которыми в психике современного человека и Лоуренс, и Юнг наблюдали все возраставшее разобщение» [Donaldson, Kalnins 1999, 112]. То есть, преодоление разрыва между сознательным и бессознательным, аполлоническим и дионисийским, по мысли Лоуренса, могло быть достигнуто путем обращения к игре – в частности, театру и карнавалу: «Лоуренс также считал, что для того, чтобы жить по-настоящему, каждая часть тела и анимы должна познать религию и быть в контакте с богами. Игра, которую мы разделяем с животным миром, также является квинтэссенцией человека и пронизывает человеческую деятельность на всех уровнях: в какой бы форме она ни проявлялась и по каким бы правилам ни действовала ее магия, она и есть сама жизнь» [Donaldson, Kalnins 1999, 113]. Игра с участием Арлекина – вовсе не обязательно веселая и беззаботная. Для Юнга Арлекин был символом столкновения с бессознательным, представленным в образах Диониса и подземного мира: «Арлекин действительно герой, который должен пройти через опасности Аида, но получится ли это у него?» [Bishop 1995, 183]. Нисхождение в бессознательное Юнг сравнивал с победой Диониса над Аполлоном [Bishop 1995, 182], а в фигуре Арлекина видел черты древнего хтонического божества. Аллюзии на эти юнгианские образы угадываются как в соперничестве Диониса и Бэзила, так и в завершающих аккордах повести, где граф объясняет Дафне, что после смерти станет «царем Аида», а ее сделает царицей. Примечательно и то, что исцелению героини предшествует нисхождение во тьму, что на языке Юнга означает полное раскрепощение инстинктов: «она внезапно отделилась от себя прежней в эту тьму, в этот покой, эту неподвижность, которая была подобна полноводной темной реке, вечно текущей в ее душе», «отведи ее в подземный мир. Возьми ее с собой в темный Аид, как Франческу и Паоло. И в аду держи ее крепче, королеву преисподней, сам будучи господином преисподней» [Lawrence 1960, 75]. Солнечный Арлекин, Лунный Пьеро и преданная им Коломбина – это и поэтическая иллюстрация вышеупомянутой «Фантазии на тему о бессознательном» (1922) («Арлекинады бессознательного»), где Лоуренс рисует «видимую вселенную» как «обширную двойную полярность между солнцем и луной»: солнце – положительный полюс, луна – отрицательный, а между двумя этими «бесконечностями» – жизнь отдельного человека. Солнце, луна и человеческая жизнь, по мысли Лоуренса, неразрывно связаны, поэтому и треугольнику «Арлекин-Колом-бина-Пьеро», символизирующему устройство вселенной, в произведениях Лоуренса не суждено распасться.
Арлекинада в повести не только иллюстрирует положения учений Юнга и Ницше и предлагает вариант исцеляющей психодрамы, но и выводит сюжет повести в карнавальное пространство, приобщая, таким образом, историю Дафны, Бэзила и Диониса к глобальному метафизическому дискурсу о связи человека и вселенной. Карнавальное тело «объединяет в себе все элементы и все царства природы: и растение, и животное, и собственно человека» [Бахтин 1990, 403], и главные герои повести – олицетворения этого принципа. Дафна – это и луна, и «дикая кошка», и «лавровое дерево», и «оранжерейный цветок», и «daphne» – волчеягодник; Бэзил – базилик, символизирующий любовь и семейное счастье; Дионис – «черный кот», подснежник «Dionysus» и солнце. Также не стоит забывать, что герои повести – это и языческие боги (Артемида, Аталанта, Персефона, Афродита, Аполлон, Дионис, Аид), а, значит, их движение сквозь ужасы войны – это и карнавальное шествие: «Известно, что карнавальные шествия осмысливались иногда в средние века, особенно в германских странах, как шествия развенчанных и низринутых языческих богов» [Бахтин 1990, 435]. Все три персонажа находятся в состоянии карнавального становления («карнавал празднует уничтожение старого и рождение нового мира» [Бахтин 1990, 454]) – они проходят через вызванную войной духовную смерть, чтобы возродиться к новой жизни. Описывая метафорическое нисхождение Дафны и Диониса в подземный мир, Лоуренс приглашает читателя в пространство первых карнавалов человечества: «Одно из древнейших дошедших до нас описаний карнавала дано в форме мистического видения преисподней» [Бахтин 1990, 433]. В этой преисподней полыхает «карнавальный огонь, сжигающий и обновляющий страшное прошлое» [Бахтин 1990, 434] и марширует войско «Эрлекина», вооруженного «огромной палицей» (в его чертах нетрудно угадать Арлекина). Таким образом, в «Божьей коровке» современные Лоуренсу философия и театр оказываются подчинены вневременному карнавальному мировоззрению, которое стирает границы между телом и миром [Бахтин 1990, 393] и утверждает «радость обновления» посредством смерти, «обратной стороны рождения» [Бахтин 1990, 451]. Арлекинада здесь и одно из измерений созданной писателем модели взаимодействия микро- и макрокосма, и своего рода «клей», связывающий воедино метафоры, аллюзии, символы и архетипы культурной памяти человечества.
Список литературы Арлекинада в повести Д.Г. Лоуренса «Божья коровка»
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. 545 с.
- Bishop P. The Dionysian Self: C.G. Jung’s Reception of Friedrich Nietzsche. New York: Walter De Gruyter, 1995. 411 p.
- Burden R. Radicalizing Lawrence: Critical Interventions in the Reading and Reception of D.H. Lawrence’s Narrative Fiction. Amsterdam: Brill Rodopi, 2000. 378 p.
- Daalder J. Background and Significance of D.H. Lawrence’s «The Ladybird» // The D.H. Lawrence Review. 1982. № 15 (1-2). P. 107–128.
- Donaldson G., Kalnins M. D.H. Lawrence in Italy and in England. New York: Macmillan Press Ltd, 1999. 233 p.
- Eggert P., Worthen J. Lawrence and Comedy. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 216 p.
- Ellis D., Mills H. D.H. Lawrence’s Non-Fiction: Art, Thought and Genre. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 193 p.
- Fleishman A. Lawrence and Bakhtin: Where Pluralism Ends and Dialogism Begins // Rethinking Lawrence. Milton Keynes: Open University Press, 1990. P. 109–119.
- Humma J.B. Metaphor and Meaning in D.H. Lawrence’s Later Novels. Columbia: University of Missouri Press, 1990. 116 p.
- Lawrence D.H. The Ladybird. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1960. 251 p.
- Leone M. Shapes of Openness: Bakhtin, Lawrence, Laughter. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010. 175 c.
- Lodge D. After Bakhtin: Essays on Fiction and Criticism. New York: Routledge, 1990. 198 p.
- Ryu D.-S. «Banana-skin» and «Sideward Glance»: Lawrence, Bakhtin, and the Theory of the Novel // Journal of D.H. Lawrence Studies. 1999. № 8. P. 60–80.
- Scott C., Howard C. The Life and Reminiscences of E.L. Blanchard. London: Hutchinson and co., 1891. 352 p.