Зарубежные литературы. Рубрика в журнале - Новый филологический вестник
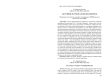
"Безумный" нарратив Адельхайд Дюванель
Статья научная
В статье рассматриваются особенности «безумного» нарратива швейцарской писательницы ХХ в. Адельхайд Дюванель. Главную роль в ее рассказах-миниатюрах играют люди, исключенные из общества, стоящие вне социума. Внешне следуя идее «новой субьективности» в литературе, Дюванель идет намного дальше: за единичными персонажами не стоит общих проблем, они не пытаются вписаться в реальность, но всячески избегают ее. Ее произведения полны безумия в самых разных формах: как безумия в медицинском смысле, так и поэтического безумия в качестве отклонения от нормы в сторону абсолютной субъективности. Герои Дюванель очень часто раздвоены, границы между персонажами, как и границы между реальностью и сном оказываются зыбкими. Безумны не только герои, но и нарратив. Так, безумие свойственно хронотопу миниатюр, где реальное пространство заменяет воображаемое, отражающее движения души героев. Сны героев, - один из важнейших элементов поэтики Дюванель, - автор сознательно прячет, прикрывая ими глубокие раны, однако многое проявляется благодаря неожиданным ассоциативным рядам и метафорам, которые эти сны дополняют. Ассоциативные связи, в которых мыслит герой, настолько субъективны, что понять их порой невозможно, что свидетельствует об уникальности героя и его логических связей. В статье доказывается, что сумасшествие у Дюванель является проявлением исключительности личности, но не в романтическом смысле его гениальности, а в общегуманистическом смысле уникальности любой личности, даже самой мелкой и незначительной. Именно сумасшествие как торжество абсолютной субъективности и внутреннего мира героя придает ему достоинство, которого ему не хватает в окружающем мире.
Бесплатно
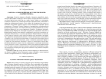
"Лачерба": флорентийские футуристы против "маринеттизма"
Статья научная
Создатели журнала «Лачерба» стремились разработать оригинальную философию литературы, сквозь призму которой предлагали осмыслять не только другие виды искусства, но и мир в целом. Творец, в их понимании, становился мерилом всех ценностей благодаря парадоксальному мышлению и неприятию традиционной морали. Очень скоро при посредничестве одного из ключевых сотрудников журнала писателя Альдо Палаццески «Лачерба» начала сотрудничать с Филиппо Томмазо Маринетти и превратилась во флорентийское футуристическое издание. Этот творческий союз стал благотворным как для сподвижников Маринетти, так и для сотрудников «Лачербы». Литераторы, группировавшиеся вокруг Маринетти, благодаря поддержке уже снискавших известность флорентийцев наконец были приняты литературной элитой как полноценное литературное объединение, а не группа самозванцев. Флорентийские же писатели, в свою очередь, подняли на щит новые бунтарские идеи, входящие в противоречие с прежними литературными канонами. Самым значительным плодом работы «Лачербы» стал «Очистительный календарь», в котором были воплощены многие аспекты футуристической концепции, однако в наименее радикальной форме и с опорой на существующую традицию. К одним из литературных находок флорентийских футуристов можно отнести содержащуюся в календаре комическую «мальтузианскую поэзию», возродившую некогда популярный ингаррикьянский стих. Но скоро в журнале наметился раскол, выявляющий авторитарный характер итальянского литературного футуризма, названного сотрудниками «Лачербы» «маринеттизмом».
Бесплатно
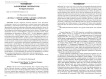
"Легенда о святой Марине" Клеменса Брентано: актуализация жития
Статья научная
Позднее творчество Клеменса Брентано после религиозного перелома в жизни поэта складывается в ситуации поиска новых ориентиров. Примирение с собственным ранним творчеством и публикация художественных произведений становятся возможными благодаря новому авторскому статусу, обретаемому Клеменсом Брентано. Он становится автором-благотворителем, отчисляя гонорары за публикующиеся произведения в пользу бедных. Мотивацией для публикации «Легенды о святой Марине» становится стремление помочь людям, пострадавшим от наводнения на Дунае в 1841 г. Эта цель формирует паратекст (титульный лист), определяет новую композицию стихотворения и приводит к актуализации жития святой Марины. Вместе с поэтом Клеменсом Брентано и художником Эдуардом фон Штейнле, автором рисунка с изображением сцен из жития, которому посвящена вступительная часть стихотворения, она собирает милостыню для людей, столкнувшихся с природной катастрофой. Вечная актуальность святой связана с ее христианским милосердием, раскрывающимся в основной части «Легенды о святой Марине». В заключительной части стихотворения святая Марина творит чудеса после смерти, пробуждая в людях совесть, покаяние и милосердие. Святая Марина, при жизни делившая с бедняками хлеб и воду, жившая в гармонии с природой, наделяется Клеменсом Брентано новой миссией, соответствующей ее человеческим качествам и христианской позиции. В «Легенде о святой Марине» из легендарной фигуры прошлого она превращается в активную просительницу, реагирующую на трагические события современности.
Бесплатно

"Миф о Неаполе" в цикле романов "Неаполитанский квартет" Э. Ферранте
Статья научная
Статья посвящена конструированию «неаполитанского» мифа в тетралогии Элены Ферранте «Неаполитанский квартет»: «Моя гениальная подруга» («L’amica geniale», 2011), «История нового имени» («Storia del nuovo cognome», 2012), «Те, кто уходят и те, кто остаются» («Storia di chi fugge e di chi resta», 2013) и «История о пропавшем ребенке» («Storia della bambina perduta», 2014). Неаполь Ферранте становится полноправным героем этих романов, сочетая в себе реальное историческое пространство с мифопоэтическим, что может быть проанализировано с точки зрения спациопоэтики (поэтики пространства) и урбопоэтики. Согласно исследованиям Е. Фарино и Ю. Пыхтиной, реальное географическое пространство города нераздельно сопряжено с пространством воображаемым. В пространстве романов обнаруживается связь как с городскими легендами, так и с мифом о сотворении Неаполя (миф о сирене Партенопе). Неаполь Ферранте соотнесен с топосом проклятого места, сводящего с ума местных жителей. Обратная демоническая сущность обнаруживается не только в людях, но и в обычных вещах. Ферранте создает миф об «изнаночном» Неаполе, который доступен взгляду только самих местных жителей, сопоставляя его с главной героиней тетралогии Рафаэллой (Лилой) Черулло, наделенной такой же амбивалентной природой. В статье объясняются причины обилия женских образов, связанных с «генеалогией» Неаполя и с его наследственным проклятьем. Примечательно, что Ферранте как бы переписывает изначальный миф о сотворении города, превращая его в зараженное пространство, заранее обреченное на гибель.
Бесплатно
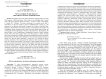
"Не все вещи равны": поэтика нью-йоркского имажизма
Статья научная
В статье рассматривается творчество группы поэтов, ассоциируемой с малотиражным журналом А. Креймборга «Others» в 1915 г. (включая Э. Паунда, Э. Лоуэлл, О. Джоунза, А. Креймборга, У.К. Уильямса, С. Каннела). В фокусе внимания - приём, заметный на материале корпуса публикуемых в журнале стихов: выражение аффективного состояния посредством указания на вещь, предмет быта. Опираясь на интуиции позднего формализма («литературный быт» Тынянова и Эйхенбаума как протопроект социологии литературы) и новейшие методологические разработки (медиология литературы - Б. Херцогенрот), автор по-новому соотносит прием и его социальный контекст. Возникновение литературной структуры предлагается искать в коммуникативных обменах, происходящих в рамках сообщества, которое укоренено в определенном материально-дискурсивном контексте. Проблематизируя оппозицию «формы и содержания», автор обращается к пересмотру и переопределению понятия «формы» как носителя смысла через призму таких терминов, как медиум, информация, плотное сцепление, речевая установка. Под медиумом предлагается понимать сообщество, обладающее особым «литературным бытом», который сложился вокруг журнала и включал различные материально-дискурсивные контексты бытования (квартиры, бары, кафе). Описывая генезис поэтического сообщества журнала и рассматривая стихи в его контексте, в итоге автор приходит к выводу, что взаимодействие «медиума» сообщества и структур литературного быта подсказали речевую установку на дружескую, интимную коммуникацию, в рамках которой были оправданы недоговоренность, вынесение смысла в подтекст. Это обстоятельство и обусловило появление нового приема: использования референции к вещи как носителя переживания.
Бесплатно
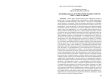
"Неофициальная" историография в книге Гюнтера Грасса "Мое столетие"
Статья научная
Гюнтер Грасс противопоставлял свое изображение истории в романе «Мое столетие» «официальной историографии» («schräg entgegengesetzt zur offiziellen Geschichtsschreibung»). Цель работы - рассмотреть историографический дискурс в этом романе. Логика исследования заключается в следующем: сначала выявляются способы репрезентации исторического события, затем в центре внимания - статус рассказчика, и на заключительном этапе проанализированы взаимосвязи события и рассказчика в структуре нарратива. В результате проведенного анализа устанавливается, что в текст романа введены практически все крупные события немецкой истории ХХ в., происходившие в политике, экономике, культуре, при этом на первый план выведен отдельный небольшой эпизод, как правило, сугубо частный, тогда как само событие остается фактически скрытым. Эпизод маркирует событие, но не раскрывает его содержание и смысл. Между событиями нет внутренней, каузальной связи - их соединяет простое календарное перечисление дат и «пространственная рядоположность» (термин А.В. Михайлова). Выявляется, что ракурс изображения события задают рассказчики, их около ста, и у каждого свой социальный статус, возраст, характер; и своя точка зрения на событие, причем все эти точки зрения знаменательным образом рассогласованы и не совпадают. Споры, ссоры, конфликты - повторяющийся сюжетный момент. Взаимосвязь события и рассказчика создается некоторыми структурными моментами. Во-первых, это ангажированность: среди рассказчиков нет посторонних и равнодушных лиц, наблюдателей со стороны - все они втянуты в происходящее и лично к нему причастны. Во-вторых, хронотопическая организация нарратива: событие рассказывания включает несколько временных и пространственных планов, но осуществляется в конце 1990-х, и прошлое вступает с настоящим в живую актуальную связь. Основные выводы, к которым приходит автор статьи: дискурс истории в романе строится на последовательной деструкции метанарративности «официальной историографии»: картина прошлого не завершенная, а фрагментарная; представлена не одна (идеологически единая) точка зрения на историю, а множество - противоречивых и вместе с тем равноправных; к событию причастны не «великие» личности и имена, а каждый из современников этого события; к исторической ответственности тем самым также имеют отношение все; «официальная» историография продуцирует готовое знание и ориентирует читателя на его пассивное потребление; «неофициальная», напротив, выдвигает читателя в инициативный центр - ему самостоятельно предстоит достраивать картину истории, узнавать разные точки зрения и искать свою, определять свою причастность / непричастность к происходящему. В заключение отмечается своеобразие романа «Мое столетие» в ряду других романов Грасса.
Бесплатно
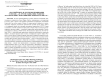
Статья научная
В статье рассматриваются путевые заметки итальянской писательницы и журналистки Анны Марии Ортезе, посвященные ее путешествию в СССР в 1954 г. Ортезе стала первым итальянским литератором, посетившим Советский Союз после смерти Сталина. Ее очерки резко отличаются от многочисленных образцов итальянской просоветской путевой прозы начала 1950-х гг. и открывают новый этап в истории итальянских травелогов об СССР. Одним из значимых отличий становится возрождение в очерках Ортезе элементов так называемого «русского мифа» - комплекса стереотипных представлений о России, сложившихся на Западе в XVIII-XIX вв. В итальянских травелогах об СССР начала 1950-х гг. «русский миф» практически полностью вытесняется «советским мифом», достигшим расцвета при Сталине, и возвращение старого «мифа о России» в текстах Ортезе становится ярким симптомом готовящихся перемен в политической и духовной жизни советского общества. Однако если остальные отличительные черты путевых заметок писательницы - отказ от идеологических штампов, перенос фокуса внимания с общества на индивида, с социального анализа на личное общение, подчеркнутая субъективность и концентрация на внутреннем мире автора - находят свое продолжение в итальянских травелогах об СССР второй половины 1950-х гг. (К. Леви, П. П. Пазолини, К. Малапарте, А. Моравиа), то ренессанс «русского мифа» в очерках Ортезе остается единичным примером. Даже в условиях хрущевской «оттепели» и десталинизации образ СССР в глазах итальянских литераторов по-прежнему будет определяться «советским мифом», уходящим корнями в сталинскую эпоху.
Бесплатно
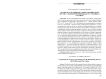
"Я считаю его одним из самых хороших моих друзей": о взаимоотношениях Дж.Р.Р. Толкина и У.Х. Одена
Статья научная
В статье предпринимается первая в российском литературоведении попытка представить целостную картину многолетних взаимоотношений двух выдающихся англоязычных литераторов ХХ в. - Дж.Р.Р. Толкина (18921973) и УХ. Одена (1907-1973). Последовательно рассматриваются основные этапы этих отношений - обучение Одена в Оксфордском университете, где Толкин выступил в качестве одного из лекторов и экзаменаторов поэта, и дружба, возникшая несколько десятилетий спустя на почве общего для бывших студента и профессора увлечения древнеанглийской поэзией, а также глубокого интереса Одена к роману-эпопее «Властелин Колец» и творчеству Толкина в целом. Особое внимание уделяется анализу адресованных Одену писем его бывшего преподавателя, для которых характерна доверительная дружеская интонация. Отмечается, что эти письма являются важным источником информации о причинах, истории и путях написания произведений Толкина. Стоящие за отдельными письмами ситуации раскрываются с привлечением дополнительных источников. Также в статье рассматриваются взаимные оды УХ. Одена и Дж.Р.Р. Толкина, являющиеся яркими свидетельствами существовавших между ними дружеских отношений. Констатируется, что эта специфическая, временами непростая дружба сыграла определенную - для Одена, несомненно, большую, для Толкина меньшую - роль в творческих судьбах двух этих блестящих представителей англоязычной литературы ХХ в. Имея в своей основе сходство литературных интересов и предпочтений, эта дружба окончательно сформировалась вокруг такого масштабного явления мировой культуры, каким является толкиновский Легендариум.
Бесплатно
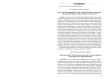
21st century British fiction: the realistic teleology of David Mitchell and Ian McEwan's novels
Статья научная
In the paper, I have identified and clarified the characteristics of postpostmodern realism outlined previously, manifested in British fiction: maximum details of reality by introducing non-literary and extra-life components, outlining the idea of integrity of the world (developed in the German Romanticism) in Ian McEwan and David Mitchell’s fiction of the 21st century. By extra-life components, I mean scientific terms to denote organic foundations that are basic in human material, in its biochemical and psycho-neuro-physiological processes. Moreover, the exploitation of such concepts, the medicalized way of understanding the world enhances new realism: rational-metaphysical or positivist-metaphysical, which provides a scientific view of the nature of things around characters as molecules with consciousness. At the same time, such a vision does not deny metaphysical phenomena (God, providence). Typologically, it is similar to the Romantic worldview, which exploits the holistic capture of reality in fantastic, mystical and real (physical) phenomena. The idea of teleology is represented in McE-wan’s and Mitchell’s fiction providing the return of grand narratives as post-postmodern discourses in which the characters seek for the senses that may help to understand the truth and find the explanation for the human and universe nature organization. “Cloud Atlas” is a representation of the metanarrative story that reinforces the German Romanticism concept of the unity between different parts of the work and the human being. In “Saturday”, this unity is explained by the post-positivist mind of the protagonist who philosophically explains social and cultural phenomena using his medical knowledge.
Бесплатно

Статья научная
Статья посвящена выявлению специфики репрезентации концепта happiness в современном англоязычном подростковом романе Шермана Алекси «The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian». Научная новизна данной статьи определяется применением интегральной модели, объединяющей фрейм-семантический анализ и обновлённую парадигму речевых актов. Реконструирована четырёхзвенная схема фрейма happiness, состоящая из переживающего субъекта, триггера, эмоциональной реакции и ценностного результата, также выделены дополнительные слоты «ценностный конфликт» и «слом счастья», отражающие культурную двоичность героя-индейца Джуниора. Для него способность видеть луч света в темноте, удерживать краткий миг радости, даже если это не устраняет фон боли, и есть счастье. Полевое окружение концепта классифицировано по пяти семантическим группам, зафиксирована высокая когнитивная пластичность категории. Важным прагматическим инструментом выступает комизм, используемый для пересмотра традиционных представлений о счастье и выполняющий функцию контрдискурса. Прагматический анализ выявил доминирование экспрессивов-эвалантивов и смягчённых директивов, что указывает на подростковую стратегию маскировки позитивных чувств. В романе специфика репрезентации понятия счастья заключается в честном и ироничном изображении всех оттенков счастья. Полученные результаты расширяют представления о функционировании телеономных концептов в художественной коммуникации и формируют основу для дальнейших сопоставительных исследований литературы для юных читателей.
Бесплатно
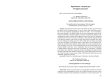
Статья научная
The author of the article proves that Pindar served as necessary source and model for the Alexandrian poets. It is not by chance that Callimachus refers to him in his most significant programmatic statements on poetry. It is no coincidence, either, that allusions to the fourth Pythian ode are also concentrated around the key moments of Apollonius’ narration (departure, meetings with the beloved, the hero’s trial, wedding and the poem’s ending). Pindar appears a source of the ideas for Callimachus anticipating his own notion of poetry. Callimachus, while formally opposing himself to the previous tradition, with the help of quotes and allusions constantly relies upon that very tradition; his picking up from it shows which ideas and images correspond to the main principles of Alexandrian poetics, Pindar plays here an important role. Apollonius considers Pindar among his major predecessors when recounting the story of the Argonauts. The poem of the Alexandrian poet and the fourth Pythian ode are obviously united by this topic. In the “Argonautica” there are lots of lexical parallels to Pindar. Pindaric expressions become the epic formulas in “Argonautica”. According to the author’s aim, Apollonius’ epic poem and the fourth Pythian ode could interact in the mind of the reader. They represent a certain unity, complementing each other. In this way, Pindar remains the major source uniting Callimachus and Apollonius, the poets traditionally opposed to each other.
Бесплатно

Genius loci и семиотика образа трои в романе Питера Акройда "Падение Трои"
Статья научная
Роман П. Акройда «Падение Трои» соединяет мифологизированную историю и реальность исторического факта, сплетая в единстве персонажно-образной системы биографии исторически достоверных, известных персонажей с образами художественными, вымышленными (Генрих Шлиман / Генрих Обреманн). Сопряжение мифа и реальности определяет своеобразие спациопо-этики произведения, в котором важное значение приобретает концепт Genius loci (гений места), представляющий не только мифопоэтику романа в целом (Троя - город Зевса, Афины, Гектора, Андромахи), но и своеобразие входящих в нее локусов, связанных с легендарным и реальным, древним и вписывающимся в современность городом: Троя - это легендарный, воспетый Гомером и вместе с тем реальный, имеющий точные географические координаты город в Малой Азии, утраченный и вновь открытый Г. Шлиманом (Троя / Илион / Гиссарлык). Немаловажную роль при создании образа Трои играет палимпсестность города, связанная с историей его возникновения, в связи с чем акцентируется исторически сложившаяся многоуровневость, многослойность Трои. Своеобразие возникающей в романе городской мифологии определяет «Genius loci» - концепт, сохраняющий исконное значение и вместе с тем изменяющийся, приобретающий разнообразные проекции смыслов под влиянием символического «осложнения» (усложнения) изображаемой городской реальности, ее «семиотизации». Рассмотрение поэтики романа Акройда в этом ракурсе и определило исследовательскую задачу и содержание статьи, представляющей Трою и ее Genius loci как семиотический, художественно емкий образ с характерной постмодернистской взаимообратимостью реальности, мифа и истории.
Бесплатно

Genre transformations of the story about the painter in contemporary Uzbek literature
Статья научная
Contemporary Uzbek literature, addressing the perceptions of the present-day reader, is developing new attitudes and techniques of fiction based on the synthesis of the traditions of the Western and Islamic cultural worlds. Uzbek literature has established a new genre, the “ma’rifi novel”, a novel narrative based on a parable of oriental type. A biographical novel about a painter appears to be part of a parable, which depicts the inner world of the artist. The painter can only act as socially active by justifying his or her treatment of himself or herself and others. Thus, the parable serves as a mechanism for mainstreaming the inner life of the hero when it is not embedded in a melodramatic plot, but directly refers to the final moral judgment. While Uzbek literature of the pre-Soviet and Soviet times spoke of the painter as an inspired conductor of the ideal and carrier of progressive ideas, nowadays the mimetic concept of art has been replaced by a constructive one. The artist is portrayed as the maker of the secondary reality and of the universal code of culture, including the moral standard. This allows for a more acute depiction of moral collisions in the artist’s life. This new conception requires both the reinforcement of the features of the parable and the insertion of ekphrasis as a model of the direct effect of the aesthetic program on the comprehension of reality. Ekphrasis permits not just to point to the direct perception of the painting by the artist’s audience represented in the narrative, but to show that the artist’s personal experience corresponds to the social experience of the audience, that is, to show the audience’s readout of the code. The readout of the code as a sum total of the artist’s creative ideas essential to the national culture is accelerated through the use of universal symbols such as Home, Garden, Creation, and History. In general, we can say that the parable turns into a story with a relatively free progression through the mentioning of different works of art. In this case, the works of art become symbols, quite in the vein of intrigue in Western literatures, when the characters’ motivations, their inner monologue and reflections are read through the artificial pictures. The moral choice of the hero then continues the inner monologues of both her/him and her/his audience.
Бесплатно
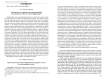
Nostalgia as a source of myth-making in Ayn Rand's novel “Atlas shrugged”
Статья научная
The recent social and political situation in the USA has caused a noticeable rise in interest in Ayn Rand, the Russian-born American writer. She has become especially popular among neoconservatives of president Trump’s time due to the problems she raises, like market economy and government controls. But such popularity results also from the techniques Rand uses to render her vision and assessment of these problems, i.e. her ideology. The most evident among them is her masterful, literarily expressive, myth-making. Rand’s kind of myth-making is a manifestation of popular literature; therefore, the current article regards Rand’s major novel Atlas Shrugged as its sample, which due to its nature lets Rand realize her purpose - to bring her ideology home to a considerable number of readers. Atlas Shrugged reflects Rand’s assessment of the state of things in the US on her arrival after being driven out of Soviet Russia by a hatred of communism. Finding the reality different from the cherished vision of the USA from Soviet Russia, she sets out on creating two diametrically opposite myths - a critical one about the current reality under President Roosevelt and a nostalgic-idyllic one about the “Golden Age” of American history, thus constructing a major popular mythologeme of the struggle of good against evil. As methodology for the analysis Retrotopia by Z. Bauman and Mythologies by R. Barthes have been taken. In his work, Z. Bauman presents a new vision of nostalgia - as utopia directed backwards to the past, which turns it into “retrotopia”. R. Barthes discloses the techniques of creating popular myths resulting in “the ideological abuse”. So, the works help to show how Rand creates her myths about the present and the past of the USA by removing certain historical facts from their real-life contexts, and how these deformed images meet the nation’s longing for an idyllic life. It is remarkable that a certain similarity that can be traced between Rand’s nostalgia for an idyllic free-market America and the historical narrative underlying President Trump’s slogan “Make America Great Again” allows regarding the Rand phenomenon in the context of the present-day political situation in the USA.
Бесплатно
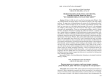
Статья научная
Written in 1968, the sci-fi novel by the American author Philip K. Dick “Do Androids Dream of Electric Sheep?” still retains the interest of the wide reading audience. The paper aims at elaborating upon the reasons for this lasting public enthusiasm which is claimed to relate not only to extremely successful film-versions of the book, but, even more so, to the highly topical message of the novel. In his antiutopian text, Philip K. Dick manages to put into focus the whole range of issues curraently associated with posthumanism. These are environmental problems caused by human activities, interplanet colonization escalating the conflicts of inclusion / exclusion, human / animal relations overlapping with the hybridization of natural and artificial, critical problems of future technological posthumanism manifesting themselves in highly problematic distinction between the humans and androids and in questioning the ontoethical status of the humans. Philip K. Dick explores philosophical and social underpinnings of the catastrophic future which lies in wait for humanity and seems to strongly adhere to such humanistic values as empathy (the main touchstone to differentiate between humans and androids), self-reflection (the predominant feature of the protagonist Rick Deckard), search for identity and for meaning as the principal vectors of the human life, mercy for the mentally handicapped. Philip K. Dick’s book can be viewed as one of the earliest caveats of the emerging trend to reconsider humanness in the sociocultural context of rapidly developing technology, various environmental threats, all kinds of hybridization and their ethical repercussions - and as such can be seen as truly prognostic, the most valuable part of it to be found in its ethical and social awareness and highly conscious refusal to suggest any final answer: essentially, the titled question seems eristically unanswerable
Бесплатно
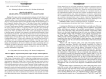
Space and affect: (re)reading “Fingersmith” by Sarah Waters
Статья научная
The paper explores non-representation strategies in Sarah Waters’ novel “Fingersmith” (2002), which are specified through the introduction of ‘estrangement’, ‘embodied readings’, and of urban-specific mentality as an ‘embodied practice’ (Thrift, Auge). A strong connection between space and affect enables the idea of belonging as a key to characters’ identities. Waters’ use of “The Death of Nancy Sikes” theatrical episode as an opening to her story might be a self-conscious attempt to create the sensation of ‘seeing’ Victorian present through ‘estrangement’ (similar to Natasha Rostova’s), and not merely pushing the reader to ‘recognizing’ Dickens’s pastiche as part of postmodernist Neo-Victorian stylization. Special attention is given to Lant Street, historically known as the ‘Mint’, and infamous for its slums, crimes, and disorders, but perceived as familiar, organic, and homey by the character, who significantly differentiates it from the neighboring Clerkenwell. Apart from that, Waters does not only recreate Neo-Victorian past by staging it as a spectacle for the reader, but also makes them immerse into multiple nuances of body affects. Away from the exotic, yet happy, home locations (‘anthropological places’ of slums and a madhouse), the characters find themselves in ‘non-places’, given in a modernist manner (a perception of moving with a speed, a loss of ability to grasp the fragmented snapshots of modern urban life, and a crisis of reading and interpretation). All in all, it reinforces the reader’s questioning their own self-identity set against a radical and exoticized alterity of neo-Victorian sensibilities.
Бесплатно
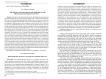
The interaction between the individual and the state in Ayn Rand's novels
Статья научная
The theme of the interaction between the individual and a government is explored throughout the whole of Ayn Rand’s creative work - her three novels and seven books on the self-elaborated philosophy called Objectivism. The purpose of this study is to analyze the evolution of this theme in her novels in three perspectives. Firstly, as a development of different aspects of this interaction. In her first novel, We the Living, the Soviet state is depicted through the eyes of an 18-year old female character, who personally suffered from the October revolution. Hardships of the post-revolutionary life are enhanced by the permeating atmosphere of fear. Thus, it is the psychological aspect that comes to the fore. The second novel, The Fountainhead, focuses on the personality of the protagonist, and therefore, the ethical aspect of the relationship acquires more importance. In the last novel, Atlas Shrugged, the relationship between the individual and the government is revealed through the economic framework. Here the government is portrayed as robbing hard-working businessmen. Secondly, the development of the theme is analyzed as the reflection of the author’s philosophical views which were formed owing to her personal life experience under both social systems - socialism and capitalism. If in her first novel, her criticism is aimed at socialism, the target of her third novel is the capitalist society, which due to the interference of the state in the economy starts reminding of its counterpart. Thirdly, the study considers how this theme is treated artistically. Starting with the realistic method of unfolding the theme in We the Living, in her following novels Rand develops philosophical generalisation, thus distracting the novels’ content from a concrete reality. The enhancement of the philosophical aspect of her novels decreases, however, their artistic value.
Бесплатно

«Бортовой журнал» Арденго Соффичи как лирическая «Книга будущего»
Статья научная
Арденго Соффичи выбирает для своего программного автобиографического сочинения дневниковую форму. Исходя из структуры «Бортового журнала», можно заключить, что на протяжении одного года автор ведет запись, не пропуская ни одного дня. Соффичи включает в дневник фрагменты, написанные в разных жанрах и стилях. В нескольких записях «Бортового журнала» Соффичи предлагает свое видение «книг будущего». Согласно писателю, они должны включать автобиографию, психологические наблюдения, письма, а главное, лирические откровения. Все это содержится в его новом революционном произведении, призванном заменить собой устаревшие литературные модели. «Бортовой журнал» составляют афоризмы, выдержки из искусствоведческих исследований, письма, сатирические зарисовки, философские размышления, «мальтузианские» стихи, стихотворения, содержащие высокую лексику, и лирические фрагменты, выполненные в стилистике «prosa d’arte». «Бортовой журнал» Соффичи полностью вписывается в концепцию «новой литературы» журнала «Воче», одним из идеологов которой выступал сам писатель. Тем не менее Соффичи, покинувший «Воче» и заключивший союз с футуристами, стремится воспеть в своем программном произведении футуризм и его адептов. Нигилистический посыл и коллажность сочинения Соффичи, действительно, отвечают футуристической доктрине, и все же лирическая направленность «Бортового журнала» очень далека от положений теории Маринетти. Новое произведение Соффичи подвергается резкой критике «друзей-футуристов».
Бесплатно

«Весенний венок» Беттины фон Арним: смыслы и контексты
Статья научная
Статья посвящена смыслу названия романа Беттины фон Арним «Весенний венок» в контексте творчества самой писательницы и ее брата Клеменса Брентано, переписка с которым легла в основу книги. Создание романа рассматривается как исполнение завещания поэта после смерти сплести ему венок из писем, что заявлено в полном названии романа и одном из эпиграфов к нему. В эпиграфах выражается отношение Клеменса к переписке как к сакральному пространству, «саду души», где «сестра» из библейской «Песни Песней» префигурируется в образе сестры Беттины, а поэт раскрывает свое «лучшее я». Образ весеннего венка раскрывается в ряде сцен романа, в соотношении с флоральной символикой и метафорикой католической культуры, текстами из сборника «Волшебный рог мальчика» и «Романсами о Розарии» Клеменса Брентано, а также в контексте «религии воспарения» (Schwebereligion) и философии жизни Беттины фон Арним, репрезентирующейся как в «Весеннем венке», так и в более ранних ее романах «Переписка Гёте с ребенком» и «Гюндероде». Прием плетения венка из писем выражает органический опыт переживания жизненных впечатлений, противостоя рационалистическому философскому дискурсу, отвергаемому писательницей, и одновременно отсылает к переосмысленному принципу четок розария. Беттина, для которой католицизм был не финальной, а отправной точкой поисков Бога, реабилитирует раннюю лирику брата, в соответствии со своими представлениями о поэтическом творчестве как проявлении образа Божия в человеке, отстаивая свой взгляд на Клеменса Брентано и право на его поэтическое наследие.
Бесплатно

«Гофмановский комплекс» в повести Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
Статья научная
Статья посвящена изучению романтических традиций немецкого писателя Э.Т.А. Гофмана в английском неоромантизме на материале повести Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886). Черты гофмановской поэтики в повести Стивенсона рассматриваются в виде идейно-тематического комплекса мотивов и стилистических приемов, присущих творчеству Э.Т.А. Гофмана («гофмановский комплекс»), который проявляется в осмыслении проблем двойничества и механизации жизни и человека (образы-символы маски и двойника), в создании романтических оппозиций (прекрасное - безобразное, живое -мертвое, доброе - злое, день - ночь), обращении к гофмановской стилистике (романтический гротеск), использовании приема говорящих имен (мистер Хайд), ярком психологизме (анализ природы двойничества), а также гофмановском типе героя (Медардус «Эликсиры дьявола»), который мечется между Богом и дьяволом. В статье делаются выводы о том, что традиции, восходящие к Гофману, в повести Стивенсона во многом переосмысливаются: раздвоение становится сознательным экспериментом над человеком, чтобы выйти за рамки общества (идея Сверхчеловека), происходит отказ от мистического подтекста (образ зеркала, научное обоснование раздвоения), конфликт романтического героя переходит из внешнего мира (личность - общество) во внутренний (борьба добра и зла в душе человека), двойник создается по принципу контраста и олицетворяет собой злое и бездушное начало. В заключении статьи поднимается вопрос о перспективности дальнейшего исследования традиции немецкого романтизма в литературе английского неоромантизма.
Бесплатно

