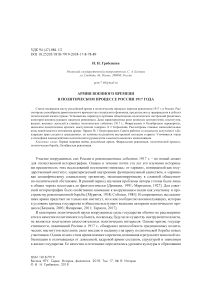Армия военного времени в политическом процессе России 1917 года
Автор: Гребенкин Игорь Николаевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена месту российской армии в политическом процессе периода революции 1917 г. в России. Рассмотрены своеобразие армии военного времени как социального феномена, предпосылки ее превращения в субъект политической жизни страны. Установлены характер и причины общественно-политических настроений различных категорий военнослужащих накануне революции. Дана характеристика роли воинских контингентов, институтов, видных военных деятелей в главных политических событиях 1917 г.: Февральском и Октябрьском переворотах, июльском политическом кризисе, выступлении генерала Л. Г Корнилова. Рассмотрены главные законодательные акты новой власти в отношении армии: Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и «Декларация прав солдата и гражданина», их влияние на развитие внутренней ситуации в армии. Уточняются этапы и специфика взаимодействия политического руководства и высшего военного командования.
Первая мировая война, российская армия, февральская революция, политический процесс, политическая борьба, октябрьская революция
Короткий адрес: https://sciup.org/147220008
IDR: 147220008 | УДК: 94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-8-78-89
Текст научной статьи Армия военного времени в политическом процессе России 1917 года
Участие вооруженных сил России в революционных событиях 1917 г. – не новый сюжет для отечественной историографии. Однако в течение почти ста лет его изучения историками предметность этих исследований постепенно менялась: от «армии», понимаемой как государственный институт, характеризуемый внутренним функциональный единством, к «армии» как специфическому социальному организму, эволюционирующему в сложной общественно-политической обстановке. В ранний период изучения проблемы авторы готовы были лишь в общих чертах воссоздать ее фактологически [Деникин, 1991; Мартынов, 1927]. Для советской историографии было свойственно внимание к вооруженным силам как участнику и пространству революционной борьбы [Муратов, 1958; Соболев, 1985]. В современных исследованиях армия предстает не только как институт, но и как сообщество военнослужащих, которые в условиях кризиса государства и общества выступают видными акторами политического процесса [Базанов, 2003; Назаренко, 2011; Тарасов, 2017].
В категориях политической науки вооруженные силы государства обычно не рассматриваются в качестве политического субъекта, поскольку, будучи по существу инструментом власти, не являются носителями самостоятельных политических интересов. Однако кризис государственности, охвативший Россию в 1917 г., обнаружил неспособность традиционных политических институтов исполнять свою миссию и выдвинул на арену политической борьбы новых участников. Одним из них стала армия военного времени, возникшая в результате массовой мобилизации и отличавшаяся от довоенной, кадровой армии составом, структурой и значением в жизни государства. Ее качества и потенциал определялись уровнем культуры и образования
ISSN 1818-7919.
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 8: История
наиболее многочисленных групп населения – крестьян и рабочих. В этой связи, достойно внимания, что в преддверие войны некоторые компетентные современники с опасением относились к перспективам всеобщей мобилизации – «вооружения народа». В 1910 г. кн. В. С. Кочубей на страницах своей книги, посвященной проблемам национальной обороны, отмечал, что в условиях большой войны масса российского населения останется равнодушной к исходу вооруженной борьбы России с врагом, ибо большинство народа исторически отчуждено от интересов государства в области внешней политики [1910. С. 283–284].
За годы мировой войны в армию и на флот было призвано около 14 млн мужчин преимущественно в возрасте 20–40 лет, т. е. наиболее активных в трудовом и социальном отношении. К началу революции около 6,5 млн чел. находилось в рядах действующей армии на фронте и не менее 2,5 млн проходили подготовку в тылу [Головин, 2001. С. 170–174]. Социальный облик солдатской и матросской массы мало отличался от довоенного и более чем на 80 % был представлен выходцами из крестьянской среды. Рост численности офицерства вызвал заметную его демократизацию, которая коснулась, однако, лишь младших офицерских чинов [Гребенкин, 2015. С. 98–101].
В высших военных кругах господствующее положение сохранили представители прежней военно-государственной элиты, чье влияние и участие в политической жизни страны неизмеримо возросло. Огромная власть и видное место в системе государственного управления принадлежало созданной для руководства армией на театрах военных действий Ставке Верховного главнокомандующего. К моменту Февральской революции высшее воинское начальство оказалось втянутым в соперничество политических сил и группировок и поэтому уже не являлось надежной опорой власти в случае внутренних волнений.
В начале 1917 г. состояние и настроения армии в основном отвечали тому отношению к войне, которое складывалось в обществе, а именно – непопулярности войны и политического руководства страны. Уже февральско-мартовские события выявили заметную, а в некоторых случаях решающую роль войск и военного командования в политическом перевороте. Если многочисленная действующая армия, находившаяся вдали от главных политических центров, оказалась перед фактом совершившихся перемен, то тыловые части, в первую очередь размещенные в крупных и особенно столичных городах, были их активными участниками. Настроения солдатского контингента запасных частей, состоявшего как из новобранцев, так и фронтовиков, вернувшихся в строй после ранений, были далеки от военного энтузиазма, а политическая агитация, которая велась революционными организациями, находила среди солдат отклик, особенно в связи с ее антивоенной направленностью. По признанию очевидцев, даже в столице запасные батальоны не могли считаться полноценными воинскими частями и представляли собой «полчища», взрывоопасный материал, продукт затянувшейся войны 1.
Накануне революционных событий в Петрограде власти полагали войска столичного гарнизона своей главной опорой в борьбе с беспорядками. Между тем об их низкой надежности было известно как охранному ведомству, так и командованию, но ни те, ни другие, вероятно, не оценили вполне опасность ситуации [Глобачев, 2009. С. 115]. Это подтвердили первые дни восстания в Петрограде, когда не только солдаты, но и казаки крайне неохотно исполняли приказы по противодействию массовым митингам и демонстрациям. Переломным пунктом всей Февральской революции стало начавшееся утром 27 февраля восстание частей гарнизона, определившее окончательный успех переворота в столице. Его триумф олицетворяли шествия воинских частей к Таврическому дворцу 28 февраля – 1 марта, когда полковые колонны, возглавляемые офицерами, двигались в полном порядке, с оркестрами, украшенные революционной символикой. К этому моменту представители войск и военных учреждений Петрограда активно участвовали в работе руководящих органов восстания. В составе революционного штаба, действовавшего при Временном исполкоме Петроградского Совета рабочих депутатов, находились делегаты от восставших полков, а только что образованную Военную комиссию
Временного комитета Государственной думы составили офицеры Генерального штаба во главе с депутатом Думы подполковником Б. А. Энгельгардтом [Мстиславский, 1922. С. 25].
Не оправдались планы властей использовать для укрепления столичного гарнизона надежные фронтовые контингенты. «Надежность» войск, понимаемая как подчинение начальникам и дисциплинированность в условиях фронта, не означала их готовности к исполнению полицейских и карательных функций в тылу. Выделяемые с фронтов части, достигавшие предместий Петрограда, входили в соприкосновение с населением и войсками гарнизона и очень быстро заявляли о своей солидарности с восставшим народом [Мартынов, 1927. С. 148]. В российской провинции, где события переворота не носили столь драматичного характера как в крупных центрах, воинские части и учреждения склонны были занимать выжидательную позицию, но немедленно подчинились Временному правительству, как только стали определяться итоги внутреннего противостояния [Бурджалов, 1971. С. 167–192].
Не менее важной стороной участия вооруженных сил в Февральской революции следует считать ту определяющую роль, которую сыграло в перевороте высшее командование действующей армии. Ставка Верховного главнокомандующего в лице ее наиболее влиятельного руководителя – начальника штаба Ставки генерала М. В. Алексеева отказалась от поддержки монарха, найдя точки взаимопонимания с думской оппозицией, и показала себя как самостоятельная сила, способная вести собственную политическую интригу. В политическом выборе генералитета сказались усиленно пропагандируемые либералами настроения недовольства правительством, происками «темных сил», виновных в неудачах армии, и мнение о том, что политические перемены в стране приведут к победам на фронте. Начавшееся в столице народное восстание внушало военной верхушке огромную тревогу, так как ставило на карту успех войны. Ради его прекращения Алексеев и его подчиненные выступили организаторами отречения Николая II, заказчиками которого являлись руководители думской оппозиции.
Новая российская власть практически целиком унаследовала прежние вооруженные силы и систему управления ими со всеми их характерными чертами, проблемами и пороками. Образ российской армии и флота в контексте политического процесса 1917 г. хранит некоторые стереотипы, которые затрудняют уяснение ее подлинного места в событиях революции. Общепринятый сценарий, описывающий судьбу армии в революционном 1917 г., сводится к развивавшимся параллельно процессам демократизации и политизации, вызвавшим неизбежное разложение и распад армии как государственного института и устойчивой социальной структуры. Данный феномен заслуживает внимания, так как распространенным остается представление о том, что армия была «заражена» вирусом разложения извне и в условиях общественно-политического кризиса выступала пассивным объектом воздействия внешних сил: Временного правительства, демократических организаций, левых партий, вольно или невольно направлявших свои усилия на ее разрушение. Между тем в революционные месяцы армия показала себя самобытной социальной силой, способной повлиять, а в некоторых случаях направить политические процессы в масштабах всей страны.
Важнейшим актом, положившим начало демократизации и, как следствие, предопределившим разложение армии, принято считать Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Изданный 1 марта 1917 г. Приказ № 1 предназначался гарнизону Петрограда, но, получив широкое распространение с помощью печати и телеграфа, был с энтузиазмом воспринят солдатской массой и начал вводиться в жизнь явочным порядком. Воспрепятствовать этому не в состоянии оказались ни приказы и распоряжения командования, ни последовавшие Приказ № 2 и воззвание Исполкома Петроградского Совета, разъяснявшие ограниченный характер Приказа № 1. Среди причин этого А. И. Деникин, который, конечно, не являлся сторонником Советов, признавал впоследствии, что успех Приказа № 1 определялся тем, что его положения соответствовали ожиданиям перемен в солдатской массе [1991. С. 138]. По широко распространенному убеждению представителей командования всех уровней, Приказ № 1 положил начало развалу дисциплины в армии и противостоянию солдатской массы офицерам. Типичным является мнение А. С. Лукомского, утверждавшего, что приказ «в корне подрывал дисциплину, лишая офицерский командный состав какой-либо власти над солдатами» [Из воспоминаний генерала Лукомского, 1921. С. 30].
Тем не менее собственно политический переворот и первые шаги демократизации армии не являлись первопричиной связываемого обычно с ними развала дисциплины и разложения, признаки которого наблюдались в войсках в течение предшествующих военных лет. С началом революции обострились и приняли более очевидные формы все социальные конфликты, в том числе и те, которые в армии воплощались в разобщенности солдатской массы и офицерства. Приказ № 1 призывал к строжайшему соблюдению дисциплины при исполнении служебных обязанностей. Ущерб же авторитету командования можно было усмотреть лишь в появлении комитетов – формы общественного и политического контроля в армии, нарушавшей полновластие офицерского корпуса. Солдатский протест ранее, как правило, стихийный с возникновением комитетов приобретал черты организованного политического протеста и уже не мог быть погашен чисто дисциплинарными мерами командования. Борьба за преобладание в войсковых комитетах и представительных органах, отстаивание интересов различных групп и течений в армейской среде стали важнейшим направлением политической активности военнослужащих в 1917 г.
Если поддержка революции солдатской массой определялась представлениями о справедливости демократических новшеств и ожиданием скорого мира, то реакция офицерства отразила его внутреннюю неоднородность, ставшую причиной будущего раскола. Политизация армии в условиях развития революционного процесса в 1917 г. обычно связывается с поведением солдатской массы, однако с первых дней революции шаги к самоорганизации предпринимала наиболее энергичная часть генералитета и офицерства. В силу провозглашаемых лозунгов и задач получала политическую направленность. Одной из инициатив этого рода следует считать образование в Петрограде в начале марта 1917 г. Совета офицерских депутатов, политически ориентированного на Временное правительство и Советы рабочих и солдатских депутатов. В дальнейшем Советы офицерских депутатов возникли и организационно оформились не только в столице, но и в ряде крупных городов, а также на фронте. Их образование и деятельность в Петрограде и на местах происходили без санкций и участия высшего командования действующей армии, что вызывало растущее раздражение с его стороны.
Особенно враждебное отношение генералитета было вызвано сотрудничеством Советов офицерских депутатов с Советами рабочих и солдатских депутатов, участием в подготовке «Декларации прав солдата и гражданина» и работе комиссии генерала А. А. Поливанова по реформированию армии. На этом фоне среди офицеров Ставки также высказывалось мнение о необходимости «своей» офицерской организации, которая действовала бы под контролем командования. Таковой стал образованный в мае 1917 г. при Ставке Союз офицеров армии и флота, провозгласивший среди своих целей всемерное содействие восстановлению дисциплины и боеспособности войск для доведения войны до победоносного завершения. Создание Союза отражало и наметившееся недовольство высших военных кругов политикой правительства в отношении армии. Если первоначально основной формой активности Союза являлась пропагандистская работа, то в июле-августе 1917 г. его руководители обратились к конспиративным контактам с другими военными организациями и командованием, приняв участие в подготовке выступления генерала Л. Г. Корнилова [Кожевин, 2005. С. 139–142].
Распространенным явлением в политической жизни страны весной-летом 1917 г. являлось участие представителей офицерства в создании и деятельности многочисленных военно-общественных организаций, заявлявших своей целью поддержание в армии и обществе воинского духа и традиций. Наконец, характерным для этого периода следует считать возникновение в военной среде организаций и кружков, носивших чисто конспиративный характер и создававшихся явно с прицелом их использования при установлении военной диктатуры. Одна из первых подобных организаций была основана на Юго-Западном фронте генералом А. М. Крымовым. Другой пример такой работы относится к весне 1917 г., когда в Петрограде генерал-майором бароном П. Н. Врангелем и полковником графом А. П. Паленом была создана тайная военная организация со своим штабом, разведкой, хорошо поставленной связью, опиравшаяся на молодых офицеров армейских и гвардейских частей столичного гарнизона. Конспиративные связи с военными усиленно налаживал созданный представителями правых партий и деловых кругов «Республиканский центр». Его руководители К. В. Николаевский и П. Н. Финисов видели целью своей организации установление в России власти военного диктатора, которым должен был стать один из влиятельных военачальников.
Политическая активность крупных должностных лиц военного ведомства зачастую определялась их личной инициативой и индивидуальным выбором. В условиях углублявшегося кризиса власти к конспиративной деятельности обращались многие видные военные администраторы, разочарованные действиями официальных властей и структур. Полковник Б. А. Энгельгардт, вспоминал об одной из встреч с начальником Главного управления Генерального штаба генералом П. И. Аверьяновым. Тот прямо утверждал, что опасность для власти и армии исходит от вождя большевиков Ленина и считал необходимым устранить его физически: «Мы назначили за его голову 200 тысяч рублей золотом…». Нашелся даже желающий – боевой офицер, эсер, но он не вызвал доверия 2.
В политическую борьбу, охватившую страну и армию 1917 г., вовлекались не только отдельные военнослужащие, их группы и самодеятельные организации, но и официальные военно-административные структуры. В сравнении с дореволюционным периодом в аппарате Временного правительства Военное министерство занимало наиболее влиятельное положение, а министерский пост принадлежал видным политическим деятелям, которые во многом определяли политику кабинета. Смена военных министров происходила в результате политических кризисов апреля и августа, что подчеркивает их ключевое положение в правительстве. В июле-августе 1917 г., когда пост военного министра сохранял за собой глава кабинета А. Ф. Керенский, была введена должность управляющего Военным министерством. Ее занимал известный деятель эсеровской партии Б. В. Савинков, которому принадлежала ведущая роль в организации взаимодействия политического руководства и Ставки Верховного главнокомандующего. В свою очередь по представлению военного министра теперь осуществлялись назначения Верховного главнокомандующего. Каждый Верховный главнокомандующий 1917 г. являлся креатурой соответствующего военного министра. Так, назначение М. В. Алексеева состоялось только благодаря влиянию А. И. Гучкова, кандидатуры А. А. Брусилова и Л. Г. Корнилова были выбором А. Ф. Керенского и отвечали его политическим замыслам, лишь А. И. Верховский не имел возможности назначить «своего» Главковерха, так как этот пост оставил за собой по совместительству министр-председатель Керенский.
Принципиально новым явлением для всей российской армии стало формирование политического аппарата Военного министерства. Первым шагом к нему было образование в структуре министерства Комиссии «для переработки законоположений и уставов в точном соответствии с новыми правовыми нормами под председательством генерала А. А. Поливанова». К ее задачам относилось обновление командного состава армии, подготовка декларации о гражданских правах военнослужащих, выработка предложений по улучшению их служебного и материального положения, об изменении порядка награждения солдат и офицеров, о войсковых комитетах в армии. Итогом работы комиссии Поливанова стала «Декларация прав солдата и гражданина», регламентировавшая взаимоотношения военнослужащих в новых условиях. Подготовленная совместно с военной секцией Исполкома Петросовета «Декларация…» стала результатом политического компромисса и сочетала весьма противоречивые положения. С одной стороны, она требовала строгого соблюдения воинской дисциплины, допускала применение начальниками оружия, отрицала принцип выборности командного состава, с другой – подтверждала гражданские права военнослужащих, в том числе право состоять в любых политических и общественных организациях и открыто высказывать свои взгляды, разрешало применение наказаний только в судебном порядке, отменяло обязательное отдание воинской чести. Такой документ не мог оправдать ожиданий высшего командования и послужить для восстановления в армии традиционного порядка. За это А. И. Деникин обвинял офицер- ский состав поливановской комиссии в «преступном оппортунизме» [1991. С. 301]. Уяснив реакцию Ставки, подписать «Декларацию…» отказался и сам Гучков, что стало одной из причин его отставки.
Приход в Военное министерство А. Ф. Керенского знаменовал два важных нововведения политического характера. Девятого мая 1917 г. Керенским был подписан текст «Декларации прав солдата и гражданина», что стало очередным шагом по пути противостояния между властью и генералитетом, отстаивавшим традиционные армейские устои. В те же дни исполкомом Петросовета были назначены первые военные комиссары в штабы фронтов и армий. С июля эти назначения и руководство комиссарами осуществляло правительство на основании ряда положений, утвержденных военным министром [Солнцева, 2002. С. 86–87]. Введение подобного контрольного органа в войсках не могло достигнуть поставленных перед ним целей содействия демократическим преобразованиям в армии. Если начальники видели в комиссарах угрозу своему авторитету и влиянию, то для солдат они являлись представителями чужеродной власти, ратовавшей за продолжение войны.
События июльского политического кризиса потребовали от лидеров Временного правительства усиления пропагандистской работы и политического контроля в армии. С этой целью 3 августа приказом военного министра и министра-председателя А. Ф. Керенского было образовано Политическое управление Военного министерства. Первым исполняющим должность начальника управления стал офицер военного времени, поручик Ф. А. Степун, до войны – доктор философии, близкий к эсерам. Политическое управление Военного министерства не случайно появилось в августе 1917 г., так как задумывалось для военно-административного и пропагандистского сопровождения корниловской программы оздоровления обстановки в стране и армии [Сенин, 1995. С. 145].
Центральной проблемой политической жизни России между Февралем и Октябрем 1917 г., несомненно, оставался вопрос о продолжении войны. Являясь решающим для будущего политической власти, он в наибольшей степени касался судьбы армии и интересов военнослужащих. Отношение к войне стало главным пунктом, вокруг которого развернулось противостояние в армейской среде. Настроения солдатских масс в значительной мере были связаны с убеждением в том, что следствием революционного переворота непременно станет прекращение войны – одного из порождений прежнего несправедливого общественного устройства. Следствием растущих антивоенных устремлений солдат и матросов становилось быстрое падение дисциплины и боеспособности. Примечательно, что высшее военное начальство склонно было совершенно снять с себя ответственность за состояние войск, объясняя его исключительно демократическими новшествами и масштабами антивоенной пропаганды. В докладах военного командования правительству усиленно акцентировалось внимание на деятельности делегатов политических партий и организаций, ведущих антивоенную агитацию в армии и тем подрывающих ее боевой дух. Вместе с тем власти не отказывались от ведения агитации противоположного, «оборонческого» толка, которая осуществлялась при поощрении командования. Для ее организации были мобилизованы значительные силы и средства правительства, политических партий и общественных организаций, усиленно пропагандировавших правительственную линию на продолжение войны [Сенин, 1990. С. 213]. Можно утверждать, что весной-летом 1917 г. армия как в тылу, так и на фронте стала ареной пропагандистского противоборства партии «войны» и партии «мира», в котором по принципу большинства победа досталась последней.
Очевидцы этих событий обращали внимание на то, что выбор солдат в тех условиях не являлся политическим по форме, т. е. не означал сознательной и последовательной поддержки той или иной партийной платформы [Брусилов, 2001. С. 208–209]. В действительности, в силу низкого уровня грамотности и традиционной ментальности, вчерашние крестьяне слабо воспринимали политическую пропаганду любого рода, но по крупицам извлекали из нее то, что было понятно и отвечало их представлениям и интересам. При этом непонимание и неприятие войны солдатской массой пересиливало как агитаторский пафос, так и доводы командиров. Начав- шееся 16 июня наступление войск Юго-Западного фронта обернулось катастрофой под Тарно-полем в первую очередь из-за отказа войск сражаться.
Прогрессировавшие процессы разложения и катастрофическое падение боеспособности армии приводили представителей командования и сторонников поднятия дисциплины и порядка к закономерной идее формирования особых частей, построенных на принципах добровольчества. Авторы подобных проектов полагали, что такие части, вобрав в себя весь наиболее боеспособный элемент, выступят примером для солдатских масс и смогут увлечь их за собой, что приобретало особую актуальность в связи с готовящимся летним наступлением на фронте. Формирование ударных частей и частей «смерти» приобрело летом 1917 г. заметный размах и превратилось из явления чисто военно-организационного в масштабную политически окрашенную кампанию, охватившую не только действующую армию, но и тыл, повлиявшую на развитие гражданского конфликта в стране. Обострение политической борьбы быстро изменяло взгляды командования и политического руководства на цели и перспективы добровольческих формирований. Если на первых порах они рассматривались для боевого применения на фронте и одновременно как средство воспитательного воздействия на остальные войска, то обстоятельства летнего наступления и последовавшего за ним политического кризиса заставили власти и военную верхушку увидеть в ударниках свою единственную вооруженную опору в случае внутреннего противостояния.
Июльские события в Петрограде, в которых воинские контингенты и организации стали активными участниками по обе стороны конфликта, свидетельствовали о глубоком расколе в армии, отвечавшем ведущим общественно-политическим тенденциям. В этих условиях представители высшего военного командования готовы были выступить как самостоятельная политическая сила, выражавшая национальные интересы. Их позиция была заявлена на созванном в Ставке 16 июля 1917 г. совещании, которое вполне может считаться этапным событием во взаимоотношениях государственной власти и военного руководства. Центральное место в ходе совещания заняло выступление генерала А. И. Деникина, который упрекнул военного министра А. Ф. Керенского, а отчасти и Верховного главнокомандующего А. А. Брусилова, в незнании и неверных оценках состояния войск и предложил совокупность мер, которые должны были, по его мнению, положить предел разрушению армии. По существу они предполагали отказ политического руководства от вмешательства в дела армии и восстановление полновластия командования. Аналогичную позицию заявил Л. Г. Корнилов, отсутствовавший в Ставке, но направивший в адрес совещания телеграмму [Гребенкин, 2015. С. 341–342]. Требования Деникина и Корнилова звучали как политическая декларация от имени всего командования и офицерства русской армии – самостоятельной социальной силы, значение и место которой должны быть признаны государством. Не случайно эмигрантский исследователь, генерал Н. Н. Головин отмечал, что большинство указанных мер могли быть осуществлены только силовыми способами в условиях военной диктатуры [1937. С. 135].
На июль-август 1917 г. приходится период кратковременного альянса политического руководства и военного командования, основанного на частичном совпадении интересов. Верховная военная власть в лице нового Главковерха Л. Г. Корнилова и власть политическая в лице министра-председателя А. Ф. Керенского двинулись навстречу друг другу, рассчитывая овладеть ситуацией в армии и в стране. Достижение этих целей представлялось возможным только с использованием самых радикальных методов. Корнилов выступил инициатором восстановления смертной казни на фронте, которая последовала 12 июля 1917 г., однако и до этого в практику вошли бессудные расстрелы дезертиров и нарушителей дисциплины, осуществлявшиеся карательными отрядами добровольцев-ударников. [Ратьковский, 2015. С. 51–56]. В сложившейся реальности подобная политика «закручивания гаек» со стороны властей лишь провоцировала встречную волну насилия и необратимо превращала армию в пространство гражданской войны.
Проект установления твердой власти в интересах продолжения войны не мог готовиться открыто и поэтому приобрел характер заговора между Временным правительством и Ставкой Верховного главнокомандующего. Однако довести его до реализации оказалось невозможным при отсутствии взаимного доверия и уважения участников. Разрыв между ними привел к выступлению генерала Корнилова против правительства и августовскому политическому кризису, в котором роль вооруженных сил была ведущей и раскрылась новыми гранями. Во-первых, Ставка выступила в них как самостоятельная сторона конфликта, представлявшая интересы «военной» партии, с крайне правых позиций. Во-вторых, обнаружилось отсутствие единства даже в высших военных кругах, так как абсолютное большинство военачальников воздержалось от активной поддержки Корнилова и сохранило подчинение правительству. Наконец, с особой остротой выявила себя проблема «надежных» войск, ибо части, вовлеченные в корниловскую авантюру, не показали решимости идти за своими начальниками до конца.
Ликвидация корниловского выступления правительством при широкой поддержке демократических сил заметно изменяла весь политический спектр России. Устранив его правое крыло в лице мятежных генералов, Керенский с новым «республиканским» правительством автоматически смещался от центра вправо и особенно нуждался в поддержке военных. Позиция военной верхушки осенью 1917 г. определялась не столько лояльностью правительству Керенского, сколько стремлением противостоять растущему влиянию Советов и большевиков. С санкции правительства Ставка приступила к подготовке нового контрреволюционного выступления, известного в отечественной исторической литературе под названием «второй корниловщины» [Поликарпов, 1990. С. 289–326]. В течение сентября-октября 1917 г. осуществлялись весьма масштабные перемещения войск с фронтов в тыл, в направление Петрограда и других крупных промышленных и транспортных центров. Эти мероприятия с тревогой воспринимались левыми и демократическими силами и повлияли на решение большевистского руководства о захвате власти.
События Октябрьского переворота в Петрограде невозможно представить без участия воинских формирований. Значительная часть столичного гарнизона сохраняла нейтралитет, но на его «полюсах» определились наиболее политизированные контингенты. Солдаты запасных гвардейских полков и моряки-балтийцы были главной вооруженной силой на стороне Военно-революционного комитета. Правительство опиралось на юнкеров военных учебных заведений и ударные части, но они ни численно, ни по боевым возможностям не в состоянии оказались противостоять восстанию [Соболев, 1985, С. 244–262]. Как и в Феврале, исход событий решался не во властных и штабных кабинетах, а на городских улицах и в окрестностях Петрограда усилиями самых массовых вооруженных участников – солдат и матросов.
В современной российской историографии получила распространение и признание концепция «человека с ружьем» – эмансипированного от государства военнослужащего, подменяющего собой бессильную либо лишенную авторитета власть [Булдаков, 1997. С. 373]. В действительности «человек с ружьем» был все же не единственным продуктом развала старой армии. На ее руинах возникали новые явления, структуры, течения, которым предстояло сыграть свою роль на очередном этапе политической борьбы.
Среди множества исторических прецедентов, которыми был отмечен для России 1917 г., один из главных, вероятно, может быть понят так: впервые в эпоху модернизации большинство российского населения получило возможность оказать решающее воздействие на развитие политической ситуации и, как следствие, облик и судьбу страны. В отсутствие легитимных демократических институтов и традиций массы изъявляли свою волю непосредственным действием. В этих условиях многомиллионная армия военного времени выступила как наиболее влиятельная «коллегия выборщиков», проголосовавшая за мир и общественное переустройство.
Список литературы Армия военного времени в политическом процессе России 1917 года
- Базанов С. Н. Борьба за власть в действующей российской армии (октябрь 1917 - февраль 1918 гг.). М.: ИРИ РАН, 2003. 306 с.
- Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН, 1997. 376 с.
- Бурджалов Э. Н. Вторая русская революция: Москва. Фронт. Периферия. М.: Наука, 1971. 463 с.
- Головин Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. Жуковский; М.: Кучково поле, 2001. 440 с.
- Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917-1918 годах. Ч. 1-5. Приложение к «Иллюстрированной России» на 1937 год. Таллин: [Б. и.], 1937. 840 с.
- Гребенкин И. Н. Долг и выбор: Русский офицер в годы мировой войны и революции. 1914-1918 гг. М.: АИРО-XXI, 2015. 528 с.
- Кожевин В. Л. Деятельность Союза офицеров армии и флота (май - август 1917 г.) // Вопр. истории. 2005. № 9. С. 137-142.
- Кочубей В. С. Вооруженная Россия, ее боевые основы. Париж: [Б. и.], 1910. 306 с.
- Мартынов Е. И. Царская армия в Февральском перевороте. Л.: Воен. тип. Упр. делами Наркомвоенмор и РВС СССР, 1927. 212 с.
- Муратов Х. И. Революционное движение в русской армии в 1917. М.: Воениздат, 1958. 392 с.
- Назаренко К. Б. Флот, революция и власть в России: 1917-1921. М.: Квадрига, Русская панорама, 2011. 488 с.
- Поликарпов В. Д. Военная контрреволюция в России. 1905-1917 гг. М.: Наука, 1990. 389 с.
- Ратьковский И. С. Восстановление в России смертной казни на фронте летом 1917 г. // Новейшая история России. 2015. № 1 (12). С. 48-58.
- Сенин А. С. Военное министерство Временного правительства. М.: «Вече», 1995. 498 с.
- Сенин А. С. Корниловская альтернатива // Историки отвечают на вопросы. М., 1990. Вып. 2. С. 211-228.
- Соболев Г. Л. Петроградский гарнизон в борьбе за победу Октября. Л.: Наука, 1985. 311 с.
- Солнцева С. А. Комиссары в армии революционной России (февраль 1917 г. - март 1918 г.) // Отечественная история. 2002. № 3. С. 83-99.
- Тарасов К. А. Солдатский большевизм. Военная организация большевиков и леворадикальное движение в Петроградском гарнизоне (февраль 1917 - март 1918 г.). СПб.: Изд-во Европ. ун-та, 2017. 376 с.