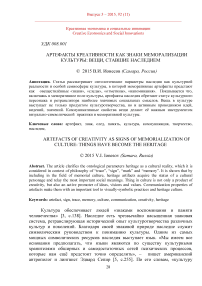Артефакты креативности как знаки меморализации культуры: вещи, ставшие наследием
Автор: Ионесов В.И.
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Креативность действия в меняющемся Мире
Статья в выпуске: 2 (11) т.5, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья рассматривает онтологические параметры наследия как культурной реальности и особой семиосферы культуры, в которой меморативные артефакты предстают как овеществлённые «знаки», «следы», «отметины», «напоминания». Показывается что, включаясь в меморативное поле культуры, артефакты наследия обретают статус культурного персонажа и ретранслятора наиболее значимых социальных смыслов. Вещь в культуре выступает не только продуктом культуротворчества, но и активным проводником идей, видений, значений. Коммуникативные свойства вещи делают её важным инструментом визуально-символической практики и меморативной культуры.
Артефакт, знак, след, память, культура, коммуникация, творчество, наследие
Короткий адрес: https://sciup.org/14239021
IDR: 14239021 | УДК: 008.001
Текст научной статьи Артефакты креативности как знаки меморализации культуры: вещи, ставшие наследием
Культура обеспечивает людей «знаками воспоминания и памяти человечества» [3, с.138]. Наследие есть чрезвычайно насыщенная знаковая система, ретранслирующая исторический опыт культуротворчества различных культур и поколений. Благодаря своей знаковой природе наследие служит символическим руководством к пониманию культуры. Одним из самых мощных символических ресурсов наследия выступает язык. «Мы имеем все основания предполагать, что языки являются по существу культурными хранителями обширных и самодостаточных сетей психических процессов, которые нам ещё предстоит точно определить», – пишет американский антрополог и лингвист Эдвард Сепир [5, с.255]. По его словам, «культуру
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations можно определить как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают» [5, с.193]. В этом ряду наследие может рассматриваться как своего рода регистратор интегральной завершенности мысли, слова и дела.
В наследии история культуры обретает своё самосознание. По А.Ф.Лосеву, в историческом процессе можно различать три модуса: 1) модус природно-вещественный; 2) модус сознания («факты истории должны быть, так или иначе, фактами сознания»); 3) модус самосознания («История есть ещё история самосознающих фактов. Она есть творчество сознательно выразительных фактов, где отдельные вещи входят в общий процесс именно выражением своего самосознания и сознательного существования») [4, с.129133]. В артефактах наследия всегда присутствует история их становления. Поэтому меморативные артефакты есть самые информативно насыщенные вещи. Они вещают глаголом времён и обналичивают культуру. «Вещи, если брать их взаправду, как они действительно существуют и воспринимаются, суть мифы» [4, с.9].
С.С.Аверинцев предлагает рассматривать вещь в трёх различных смыслах и в соответствии с этим в трёх различных измерениях. «Во-первых, вещь, как все вещи, вовлечена в причинно-следственные связи с другими вещами внутри временного потока… Раз возникнув, вещи оказываются включенными в баланс причин для порождения дальнейших следствий, лежащих вне их самих. Их наличность, некогда внеположенными им предпосылками, начинает отбрасывать вовне, на другие вещи, свои «свойства» и «силы», т.е. проецирует себя на окружающее. Вещь наличествует на границе самой себя, отбрасывая излучение следствий. …Вещи интересны именно с этой стороны: не как субстанции, и не как формы, но как действующие [силы], как агенты в причинно-следственном процессе [1, с.46-47].
Во-вторых, вещь можно рассматривать как замкнутую внутри себя самой структуру и форму, как «эйдос». …[Вещи] имеют некоторую самозаконность.
Это – феноменологический уровень вещи, её эйдетика.
[В-третьих] есть нечто, будь то в качестве каузального агента или в качестве феноменологической структуры, она попросту есть все её «энергии» и «силы», все её атрибуты вбираются в себя и излучаются из себя пребывающим в ней бытием. На этом уровне наличность вещи есть само её бытие [1, с.47-48].
Само по себе взаимодополнение, взаимопроникновение и взаимооталкивание трёх вышеописанных типов подхода к вещам – наблюдение процессов, усматривания форм, созерцание бытия – есть …явление общечеловеческое [1, с.51].
Кроме того, наследие, явленное в культуре своими артефактами можно подразделить на три группы, выражающие одновременно три ракурса культуробытия вещи.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
-
1-я группа – объединяет так называемую «чтойность» артефактов с их формативной атрибутивностью в трёх сферах культурной жизни – материальной, духовной и соционормативной.
-
2-я группа выражает своего рода «идейность» объектов, т.е. их культурное содержание и смысловую ценность.
-
3-я группа указывает на то, чему и кому она служит, т.е. на назначение вещи, её структурно-функциональную вовлеченность в культурный процесс.
Всякий артефакт наследия предстаёт как антропологический феномен, в котором удерживается креативный опыт освоенной человеком реальности. За каждым артефактом стоит конкретный человек и конкретная история. Любой вещественный образец культуры был когда-то и кем-то создан, и не просто создан, а его появление связано с конкретными событиями, в конкретном месте-времени и по конкретным причинам и поводам. Исторические артефакты не только хранят память о своём появлении, но выражают человеческие качества, заложенные в их телесность и имя, их создателями. Наследие утверждает себя как культурная самость через память, также как память выражает себя через наследие. Память – это не только свойство сознания, но онтологическая категория и императив выживания культуры. Можно сказать и так, что бытие культуры обретает свою завершенность именно в памяти.
В этой связи полезны этимологические прояснения понятий память и забвение. Этимология слова память указывает на его общеславянское происхождение и образовано с помощью приставки па- от лексемы mьntь, что означает мять, и в своей лексической основе объединяющегося с мнить – «понимать, думать», указывающего на «ум, разум, суждение, рассудок» [6, с.195]. Слово забвение имеет также старославянские корни и происходит от глагола забыть [7, с.150-152], что в свою очередь буквально означает «позади бытия». В этой связи следует указать на то, что глагол быть в одном из своих ранних значений объединяется со словами расти, произрастать, становиться [7, с.65], т.е. определённо отсылает нас к этимологическому значению лексемы культура (лат. возделывание, становление, прорастание ). Следовательно, забвение есть по существу декультурация, о-без-культуривание , тогда как память, напротив, следует понимать в этом ряду как привнесение бытийности, окультуривание, одушевление.
Наследие выступает как формализованное и артикулированное содержание памяти. Память становится видимой и явленной в культуре именно через наследие. В образцах культурного наследия форма достигает «высочайшей светонасыщенности» (В.Беньямин) или выражаясь словами Плотина заявляет себя «”цветение бытия” культуры» (см. Эннеады, V.8, 10).
Наследие – это завершенная часть незавершенной культуры или, точнее, культурного процесса. При этом наследие всегда граничит с известной недостаточностью, условностью, дефициентностью, и на его «хвосте» висит
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations угроза разрушения, утраты, исчезновения. Поскольку «завершенность произведению придаёт, прежде всего, то, что раскалывает его, превращая в произведение дробное, во фрагмент истинного мира, в обломок символа», – пишет В.Беньямин [8, с.234].
Это позволяет рассматривать память и наследие не только как константы и универсалии культуры, но также как активные социальные трансформеры , позволяющие культуре осуществлять смену своих жизненных циклов и удерживать себя от распада на крутых виражах исторических переходов. «Вальтер Беньямин понимал память не как обладание воспоминаниями – не как имение , собрание примет прошедшего, но и как всегда диалектическое приближение к связи между приметами прошедшего и их местом , т.е. как собственно приближению к их место-имению. [Он], – отмечает Ж.Диди-Юберман, – выводил концепцию памяти как археологических раскопок, при которых местопребывание обнаруженных объектов говорит нам не меньше, чем они сами, и как эксгумации чего-то или кого-то, ранее покоившегося в земле, погребённого в могиле. …Память - не орудие, служащее для изучения прошлого, но, скорее, медиум. Медиум пережитого, так же как земля – медиум, в котором покоятся погребённые древние города. Стремящийся приблизиться к своему собственному погребённому прошлому должен вести себя так же, как человек, ведущий раскопки. Прежде всего, не надо пугаться возвращения к одному и тому же, единственному в своём роде, вещному содержанию; надо разбрасывать его как разбрасывают землю, и выворачивать, как выворачивают землю. Ведь вещные содержания – это просто слои, которые придают раскопкам смысл лишь при условии скрупулёзного исследования. Образы, выходящие на поверхность в отрыве от всех прежних связей, подобны украшениям в комнатах, разграбленных нашим запоздалым осмыслением, торсам в галерее коллекционера» [2, с.154].
В формализованных объектах культуры, по существу, спрессован весь путь антропологического опредмечивания социального опыта от возникновения идеи вещи до её утраты, последующего открытия и нового применения уже в качестве артефакта наследия. Исторические (археологические) артефакты выражают несколько последовательных ракурсов меморативной информации: 1) пред -история вещи (необходимость); 2) возникновение вещи ( пред- назначение); 3) самость вещи (назначение, функциональность, актуальное использование, т.е. собственно «жизнь» вещи, её событийность); 4) позициональность вещи (её отношение к другим вещам (людям), социальную вовлеченность); 5) распад вещи; 6) утрата вещи («смерть» вещи); 7) исчезновение или консервация вещи; 8) открытие вещи или её архивация; 9) возрождение вещи, т.е. включение её в современный социокультурный контекст; 10) новая жизнь вещи в качестве меморативного объекта культурного наследия.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Возьмём, для примера, древний кувшин, в котором «спрессован» или гасится весь цикл предметных трансформаций вещи. Так, появлению кувшина предшествует некая необходимость в нём. Допустим, древний мастер вознамерился изготовить его для своей возлюбленной, ожидая предстоящую с ней встречу. Это – предисторический модус вещи, т.е. вещи ещё нет, но уже есть замысел, идея вещи и потребность в ней (1). Мастер лепит кувшин и художественно его оформляет, он вкладывает в него свои знания, настроение, эстетическое видение, мироощущение, воображение, этнокультурные традиции, индивидуальные способности и пр. Всё делается для того, чтобы вещь передала его мысли и чувства и принесла его возлюбленной не только эстетическое любование, но практическую пользу, т.е. вещь на этой стадии выражает процессом своего возникновения одновременно и своё предназначение (2). Изготовленная вещь направляется к своему новому хозяину, тому, кому она предназначена и в чьих руках обретает свою функциональную и событийную завершенность. Вещь распредмечивает себя и служит своему владельцу, она дарит ему то, что было в ней изначально заложено, т.е. осуществляет свою предметно-личностную самость (3). Но вещь не только служит своему хозяину, но и вступает в отношения с другими предметами, объединяясь и расходясь в своих различиях и самости с социально сопряженными с ней (вещью) культурными сущностями. Включаясь в семантическое поле функциональных связей, вещь обретает «хождение» в обществе, т.е. свою социальную позициональность (4). Постепенно вещь исстрачивает свою предметную атрибутивность, подаренный некогда кувшин теряет свой первозданный блеск, он ветшает, становится менее привлекательным, особенно на фоне новых вещей. Им всё реже пользуются, он как бы выпадает из культурного тела социума, стираются его связи с другими предметами и социальными сущностями. В конечном счёте, вещь (кувшин) забывается, теряется или разбивается. Это есть полоса десоциализации или распада вещи (5). Забытая или потерянная вещь исключается из структурной и семантической привязки к культуре, а, следовательно, она раз-веществляется , о-без-различивается и исчезает. Будучи не востребованной и не пронумерованной в культуре, вещь становится обезличенной и безымянной, т.е. наступает её культурная смерть (6). Так, кувшин когда-то, где-то и кем-то теряется, его телесность покрывается пылью и возвращается в землю, из которой он когда-то, где-то и кем-то был сделан ∗ .
Но вещь, если она, конечно, не была полностью разрушена, не исчезает бесследно. Она всегда, так или иначе, оставляет следы, отметины своего
∗ Конечно, возможен и другой вариант, при котором вещь не теряется и не разрушается, но сохраняется и передаётся из поколения в поколение. Как правило, это случается с наиболее сакральными и социально-значимыми ценностями. Хотя в некоторых случаях именно самые сакральные вещи (святыни) в первую очередь уничтожаются (чаще всего при завоевании одной культуры другой или радикальной смене политических, религиозных или идеологических режимов).
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations пребывания в культуре. Эти следы консервируют исчезнувшую «жизнь» вещи, и в её телесной атрибутивности (быть может, уже фрагментарно) всё ещё удерживается её предрасположенность к культуре. Выпавшая из культуры вещь образует новое семантическое поле отношений и выражает так называемую скрытую позициональность (7). Она не уходит в небытие. У процесса де-культурации и исчезновения есть свой смысл и своя логика, поскольку вещь (вещи) выпадает из культуры, по существу, так же упорядоченно, как и попадает в культуру. Но всё это скрыто густой пеленой распада и обезразличенности . Исключенные из культуры вещи или их остатки рассредоточиваются в организованном этим распадом порядке, в исторически зафиксированной композиции. В археологии эта композиционная рассредоточенность или скрытая позициональность артефактов называется культурным слоем.
Вскрытие культурного слоя и обнаружение артефактов, переводит вещь в разряд исследовательского объекта или исторического (археологического) источника (8). Артефакт попадает в качественно новую культурную реальность (как во времени, так и в пространстве) и, так или иначе, подвергается своему вторичному окультуриванию, опредмечиванию и восстановлению.
Под воздействием процедур классификации и систематизации вещь реконструируется и архивируется и вновь обретает информационнокоммуникативную функцию и межпредметные связи, ретранслируя, в той или иной мере, первоначально заложенный в неё культурный смысл (содержание).
Реконструированная или вторично социализированная вещь включается в современный социокультурный контекст. Она музеефицируется и обозначается (каталогизируется) и превращается в экспозиционный материал, обращённый из исторического прошлого к настоящему (9). Вещь как бы осовременивается, т.е. переводится из одного временного поля в другое - из прошлого в настоящее. Возникает новая артикулированная, проименованная и пронумерованная музейными (историческими) экспонатами структурная композиция, имитирующая культурный слой или исторический (эпохальный) срез времени. Эта новая культурная позициональность вещи сориентирована на её диалог с настоящим (современным). Образно говоря, «глазами древнего артефакта на современность смотрит история».
Пройдя стадию музеефикации, вещь как объективированное историческое время вступает в актуальные отношения с другими вещами или объективированными временными сущностями, формируя и расширяя культурное пространство современности. На стадии своего овеществления артефакт вновь становится активным культурным агентом и обретает актуальную функциональность, но уже в качестве меморативного (наследческого) комплекса или новой меморативной культуры (10). Вещь возрождается для своей новой жизни, и уже в ином культурном пространстве
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations становится активным участником социальных отношений, воздействуя на ментальность человека и развивая его мировоззренческие и эстетические возможности. Подвергаясь так называемому новому окультуриванию, или социализации, артефакт трансформируется из своей формально заданной экспозиционной предметности в меморативный объект и включается в структуру культурного наследия социума. Тем самым воплощенные в наследие вещи по существу образуют меморативную культуру со всеми присущими культурной реальности признаками, атрибутами и механизмами.
Таким образом, посредством архивации и музеефикации вещи осуществляется ретрансляция исторической информации или, точнее, производится социальная транспортировка культурных залежей из одной эпохи в другую, т.е. из ушедшей культурной реальности в культурную реальность современности.
Список литературы Артефакты креативности как знаки меморализации культуры: вещи, ставшие наследием
- Aверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы/С.С.Аверинцев. -М.: «Coda», 1997. -343 c.
- Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас/Ж.Диди-Юберман. -СПб.: Наука, 2001. -264 с.
- Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке/Э.Кассирер. -М.: Гардарики, 1998. -780 с.
- Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура/А.Ф.Лосев. -М.: Политиздат, 1991. -525 с.
- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии/Э.Сепир. -М.: Прогресс, 1993. -656 с.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка/М.Фасмер. -М.: Прогресс, 1986-1987. -Т.1-4 (Т.3).
- Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка/Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская. -М.: «Просвещение», 1971. -542 c.
- Benjamin W. Les “Affinites Electives” de Goethe (1922-1925)/W. Benjamin; trad. M. de Gandillac//Benjamin W. Oeuvres, I. Mythe et Violence. -Paris, 1971. -P. 297-314.