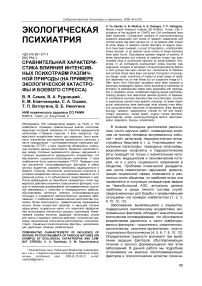Сравнительная характеристика влияния интенсивных психотравм различной природы (на примере экологической катастрофы и боевого стресса)
Автор: Семке В.Я., Рудницкий Владислав Александрович, Епанчинцева Е.М., Ошаев С.А., Ветлугина Т.П., Никитина В.Б.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Экологическая психиатрия
Статья в выпуске: 6 (57), 2009 года.
Бесплатный доступ
Обследовано 536 ликвидаторов аварии на ЧАЭС и 154 комбатанта. Проведен сравнительный анализ психотравмирующих ситуаций, связанных со стрессом радиационной катастрофы и боевым стрессом. У всех пациентов, подвергшихся воздействию малых доз радиации, были выявлены психические расстройства органического регистра, у части ликвидаторов - посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), у всех пациентов обнаружены отдельные критерии данных расстройств. Выявлено несоответствие между степенью выраженности данных нарушений и степенью выраженности радиационного воздействия, что обусловлено социально-стрессовыми влияниями. У всех комбатантов было диагностировано ПТСР. Проведен анализ восприятия психотравмирующих факторов в обеих группах пациентов, сравнены механизмы радиационного и боевого стрессов. Восприятие экологической опасности в условиях воздействия малых доз радиации зависело не от реальной угрозы, а от субъективного представления о ней. После возвращения из Чернобыля ликвидаторы стали подвергаться действию вторичных стрессогенных факторов, которые по механизму формирования посттравматических состояний связывались с участием в ликвидационных работах, обусловливали затяжную тяжелую психотравмирующую ситуацию и определяли неблагоприятную динамику заболеваний. У комбатантов травматические расстройства протекали более благоприятно, травматические переживания носили более конкретный характер, в меньшей степени разрушались социальные связи, что позволяло эффективнее использовать личностные ресурсы саногенеза.
Экология, радиация, катастрофы, угроза для жизни и здоровья, военные действия, психическое здоровье, органические психические расстройства, психогении, стресс, социально-психологические факторы, декомпенсация, адаптация, лечение, реабилитация
Короткий адрес: https://sciup.org/14295393
IDR: 14295393 | УДК: 616.891:577.4
Текст научной статьи Сравнительная характеристика влияния интенсивных психотравм различной природы (на примере экологической катастрофы и боевого стресса)
V. Ya. Semke, V. B. Nikitina, A. S. Oshayev, T. P. Vetlugina. Mental Health Research Institute SB RAMSci, Tomsk. 536 liquidators of the accident on ChAPS and 154 combatants have been examined. Comparative analysis of psychotraumatizing situations associated with stress of radiation catastrophe and combat stress has been carried out. In all patients after impact of small doses of radiation mental disorders of organic spectrum have been revealed, in a part of liquidators – posttraumatic stress disorder, in all patients some criteria of these disorders have been found. Discordance between degree of severity of these disturbances and intensity of radiation impact has been revealed what is conditioned basically by social-stressful influences. In all combatants posttraumatic stress disorder was diagnosed. Analysis of perception of psychotraumatizing factors in both groups has been carried out; mechanisms of radiation and combat stress have been compared. Perception of ecological danger under conditions of impact of small doses of radiation depended not on real threat but on subjective image of it. After return from Chernobyl liquidators have been exposed to secondary stressogenic factors, which according to mechanism of formation of posttraumatic states were associated with participation in liquidation works, conditioned lingering severe psychotraumatizing situation and determined adverse dynamic of diseases. In combatants traumatic disorders flew more favorably, traumatic experiences carried more specific character, to lesser extent social relationships were destructed what allowed more effective using personality resources of sanogenesis. Key words : ecology, radiation, catastrophes, thereat for life and health, military operations, mental health, organic mental disorders, psychogenias, stress, social-psychological factors, decompensation, adaptation, therapy, rehabilitation.
В течение последних десятилетий увеличилось число научных работ, посвященных влиянию на психику человека экстремальных событий – войн, катастроф, террористических актов, стихийных бедствий и т. д. Участившиеся техногенные катастрофы, природные катаклизмы, вооруженные конфликты и террористические акты приводят не только к значительным человеческим, медицинским и экономическим потерям, но и к росту социального напряжения в обществе. Проблема психической дезадаптации, роста соматических нарушений, дезинтеграции социальной сферы отмечается в различных слоях общества, но наиболее остро она проявляется в популяции ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, актуальны данные проблемы и среди личного состава служб, предназначенных для борьбы с чрезвычайными ситуациями (на примере комбатантов) [1, 2, 3, 9, 10, 12, 13].
Заболевания, выявляющиеся у пациентов, подвергшихся комплексному воздействию экстремальных факторов, обладают значительным клиническим полиморфизмом, что обусловлено воздействием различных и часто комбинированных факторов – психогенных, соматогенных, экологических, экзогенно-органических, конституционально-биологических [4, 5, 6, 7, 8, 10, 12]. Определенные трудности возникают при выявлении ведущих факторов, обусловливающих течение и прогноз формирующихся при этом заболеваний. В данной работе мы подробнее остановимся на анализе психотравмирующих факторов и психологических аспектах психиче- ских расстройств, формирующихся у пациентов, подвергшихся воздействию последствий радиационной катастрофы и боевого стресса.
Цель исследования: изучить особенности непсихотических психических расстройств у комбатантов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС, особенности и роль психотравм боевого и экологического (радиационного) стрессов при данных заболеваниях.
Материалы и методы . Нами проанализированы научные данные о влиянии малых доз радиации и сочетанных с ней факторов за 20летний период и результаты собственных наблюдений. Проведено обследование 538 ликвидаторов аварии на ЧАЭС с непсихотическими психическими расстройствами, мужчин, в возрасте на момент обследования от 26 до 70 лет (46±0,5 года), проживающих в Томской области. Пациенты с эндогенными психическими расстройствами и аддиктивными нарушениями в выборку не включались (критерий исключения). Группой сравнения были 154 комбатанта, жителей г. Томска со схожими социальными и половозрастными характеристиками. В работе были использованы следующие методы исследования: клинико-психопатологический, эпидемиологический, клинико-динамический, клини-ко-катамнестический и экспериментальнопсихологический.
Обсуждение результатов . При анализе травматических симптомов на момент обследования в обеих сравниваемых группах пациентов удалось выделить структурные различия, среди которых имели значимость соотношение облигатных симптомов (интрузия, избегание, повышенная «активация») и факультативных, среди которых наибольший удельный вес у комбатантов занимали признаки психовегетативной дисфункции, у ликвидаторов – симптомы органического происхождения и расстройства личности и поведения.
У всех комбатантов было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство (F43.1). Выделены три типологических варианта ПТСР: невротический (59,1 %), особенностью которого являлась отчётливая связь клинической картины с боевым стрессом с отражением в картине актуального состояния психотравмирующих обстоятельств; патохаракте-рологический (27,9 %), при котором было отмечено усложнение психопатологических симптомов с нарастающей выраженностью патохарак-терологических радикалов, наблюдаемых, как правило, у лиц с выраженной акцентуацией характера и при более неблагоприятной клинической динамике; неврозо-, психопатоподобный (13,0 %), который характеризовался полиморфными психовегетативными, психосоматическими и психоорганическими состояниями, возникающими под действием не только психо- генных, но и массивных соматогенных и экзогенно-органических факторов, формирующих затяжной, хронический статус болезни. Также как и у пациентов, подвергшихся воздействию радиации и сочетанных с ней факторов, в популяции комбатантов выраженность психических нарушений среди пациентов, имеющих специальную профессиональную подготовку, была значительно меньше, чем у не имеющих подобной подготовки (у офицерского состава по сравнению с солдатами срочной службы).
При обследовании комбатантов всех трех групп в состоянии отмечалось наличие облигатных и факультативных симптомов, на основании которых выставлялся диагноз, различным было лишь их соотношение. В первой группе пациентов на момент обращения превалировали (66,9 %) симптомы повторного переживания психотравмирующего события в виде навязчивых проявлений (интрузии). Они носили характер стойких непроизвольных, чрезвычайно живых реминисценций при напоминании или при попадании в ситуации, напоминающие стрессовую, и тревожных руминаций, когда пациенты вновь и вновь напряжённо мысленно «прокручивали» актуальные аспекты травматического стресса, «упущенную» возможность предотвратить перенесенное, испытывали чувство вины перед погибшими, их родными. Одним из самых частых видов интрузии также являлись кошмарные мучительные сновидения по фабуле военного содержания. Симптомы избегания (стремление избежать мыслей и разговоров, напоминающих о боевом стрессе) и повышенной «активации», проявляющиеся в виде раздражительности, затруднении концентрации внимания, отсутствии чувства отдыха после ночного сна, были менее выражены (18,1 и 10,7 %). У пациентов второй группы чаще выявлялись симптомы «повышенной активации» (54,4 %). В их поведении преобладали импульсивность, непредсказуемость, неспособность к оценке последствий своих поступков. Среди интрузий преобладали нарушения сна (29,7 %) в виде ночных кошмаров, сопровождающиеся выраженными вегетативными появлениями и чувством тревоги. Симптомы избегания и «фасадная» симптоматика были менее выражены у пациентов этой группы (5,7 и 10,2 %).
В третьей группе преобладали психосоматические расстройства, сочетающиеся с психовегетативными пароксизмами. Мотивацией для обращения к врачу в этой группе комбатантов, как правило, являлось соматическое неблагополучие (34,8 %). Симптомокомплекс характеризовался психовегетативными проявлениями чаще смешанного типа приступов; выраженность «базисных» симптомов занимала примерно одинаковый удельный вес. Типичным было формирование избегающего поведения на фоне тревожных руминаций, отмечалась ипохондрическая фиксация на телесных ощущениях и пароксизмальных приступах, по мере нарастания социальной дезадаптации выявлялись стойкие психопатоподобные состояния. Значительно реже встречались симптомы избегания (17,5 %), повышенной «активации» (25,1 %) и переживания интрузионного характера (22,6 %). В целом у комбатантов срочной службы, в отличие от «контрактников», отмечалась низкая адаптивность к условиям мирной жизни, чаще формировались аддиктивные расстройства (алкоголизм, токсикомания). К утяжелению и затяжному течению психопатологических расстройств у них способствовало более продолжительное пребывание в условиях военных действий: непрерывное, по 6—12 месяцев против 2—3 месяцев у «контрактников» и участников служебных командировок (Р<0,001).
У всех обследованных ликвидаторов (согласно критериям МКБ-10) были диагностированы психические расстройства органического регистра. Проведенные комплексные исследования приводят к заключению об органической (соматоорганической) природе психических заболеваний с вовлечением в патогенез прогредиентного сосудистого процесса и комбинированными соматическими нарушениями. В 47,94 % случаев (257) было диагностировано органическое астеническое расстройство, в 14,74 % (79) – органическое аффективное, в 2,6 % (14) – органическое тревожное, в 34,7 % (186) – органическое расстройство личности. В части наблюдений (46 случаев – 8,55 %) выполнялись диагностические критерии ПТСР, у остальных пациентов наблюдались отдельные признаки, соответствующие данным критериям; у всех пациентов имели место множественные соматические заболевания, традиционно считающиеся психосоматическими, а также иммунологические нарушения. Данные клиникодинамического наблюдения (рассматривались случаи с катамнезом от 3 до 18 лет) отмечают постепенное нарастание болезненности ПНПР органического регистра у данных пациентов.
Наши наблюдения [6, 7, 9, 10] показывают, что степень выраженности нервно-психических нарушений у данных пациентов часто не соответствует тяжести экзогенно-органического экологического воздействия. До 1997 г. у пациентов, получивших большие дозовые нагрузки, выявлялись более тяжелые нарушения, но с 1998 г. эта тенденция уже четко не прослеживалась, а в ходе проведенного факторного анализа на первые места вышли социальнопсихологические влияния и психосоматические взаимосвязи. Причина, на наш взгляд, кроется в полиэтиологичности данных заболеваний. Кроме того, в ходе проведенных исследований установлено, что у ликвидаторов, имеющих до- полнительный длительный контакт с облучением в условиях профессиональной деятельности (работники ядерной энергетики), степень выраженности нервно-психических расстройств в большинстве случаев была о меньше, чем у профессионально неподготовленных лиц, хотя и превышала среднепопуляционные показатели с более высокими значениями социальной адаптации (семейной и профессиональной) и социальной активности.
Анализ симптоматики, имеющей психогенное происхождение, у ликвидаторов был сопряжен с определенными трудностями, так как органическая симптоматика искажала либо поглощала клинические проявления иного происхождения, в том числе и невротические, связанные со стрессом. Анализ травматических симптомов у пациентов, подвергшихся воздействию последствий радиационной катастрофы, выявил их видоизменение на разных этапах течения заболевания. Все ликвидаторы избегали любых потенциально опасных экологических ситуаций (в том числе мнимых), проявляли значительный интерес к радиационной тематике, особенно вопросам вреда здоровью и компенсации ущерба. Травматические симптомы активации у ликвидаторов наслаивались и были поглощены выраженными органическими и па-тохарактерологическими нарушениями, сопровождающимися схожей симптоматикой.
В анамнезе у 91,6 % (493 чел.) обследованных отмечались интрузии: навязчивые воспоминания и сновидения с тематикой радиационной катастрофы; причем у 328 пациентов (60,97 %) они появлялись не сразу после чернобыльских событий, а присоединялись позже, под влиянием социально-психологических и информационных факторов, ретроспективно меняющих восприятие пациентами событий экологической катастрофы. В настоящее время они сохранялись в 8,55 % наблюдений (у 46 пациентов отмечались диагностические критерии ПТСР); все пациенты считали причиной своего заболевания воздействие радиации, уровень зафиксированных у них доз облучения считали заниженным и не соответствующим реальному. В настоящее время у большинства пациентов интрузии сохраняются, но меняется их сюжет – травматические переживания радиационной катастрофы заменяются ситуационной тревогой либо чувством надвигающегося неминуемого бедствия (работа вытеснения). Аналогичным образом меняется и тематика сновидений, на смену чернобыльским приходят кошмары различного содержания, общим элементом которых являются сюжеты войны, смерти, гибели близких, опасности для жизни. У 516 пациентов (95,9 %) в настоящее время наряду с критериями органического расстройства выявлялись критерии «Стойкого изменения личности после переживания катастрофы» (F62.0). У всех пациентов отмечалось враждебное или недоверчивое отношение к миру (100,0 %); у 332 пациентов (61,71 %) – социальная отгороженность; у 387 (71,93 %) – ощущения опустошенности и безнадежности; 446 пациентов (82,9 %) отмечали хроническое чувство беспокойства, волнения, ощущение постоянной угрозы, существования «на грани» (утрата чувства безопасности).
Причиной данного психического состояния являются последствия перенесенного затяжного стресса вследствие и после радиационной катастрофы, хронического психического и соматического расстройства и затяжной проблемной социально-психологической ситуации. Совокупность данных факторов в большей степени, чем сама экологическая катастрофа, сформировала восприятия ситуации как бедственной, несущей фатальную угрозу жизни и здоровью. Соответственно мы имеем дело с социально-стрессовым расстройством, формирующимся на выраженной психоорганической и соматической основе.
Нами проведен анализ последствий «радиационного стресса». Согласно нашим наблюдениям, восприятие экологической опасности в условиях воздействия малых доз радиации зависело не от реальной угрозы, а от субъективного представления о ней. Восприятие травматического стресса у ликвидаторов аварии на ЧАЭС отличалось от восприятия травматических ситуаций другой природы (войны, землетрясения, катастрофы) тем, что пострадавшие не воспринимали угрозу такого воздействия непосредственно с помощью органов чувств. Следовательно, они не могли оценить реальность, величину (степень) угрозы, ее продолжительность во времени и пространстве. По нашим наблюдениям, почти 40 % пациентов на момент выполнения ликвидационных работ недооценивали степень опасности для жизни и здоровья (в основном в связи с отсутствием объективной информации). Затем данный дефицит под влиянием СМИ был «устранен» с одновременным возникновением недоверия к официальным источникам информации и повышением радиотревожности. Ретроспективно произошла переоценка имевших место в прошлом событий. Попадая в ситуацию, когда реальность не совпадала с его представлениями об окружающем мире, человек воспринимал ее как катастрофическую, травматическую. Состояние фрустрации требовало использования всего потенциала психологических защит, в том числе диссоциативных, что еще более усугубляло ин-трапсихический конфликт. Клинически это обычно находит свое отражение в проявлении конверсионной симптоматики и в возникновении психосоматических нарушений [8]. Возникает искажен- ное восприятие и себя, и окружающих объектов, которые могут казаться чрезвычайно опасными и потенциальный риск воспринимается как неминуемый вред. Причем данное искажение носит вневременной характер – действует в прошлом, настоящем и будущем. Любые негативные явления, имеющие место в настоящем и прошлом времени, не только воспринимаются в преувеличенном виде, но и отрываются от их истинных причин и приписываются перенесенному в прошлом. Нейтральные события и явления, которые человек затрудняется оценить, воспринимаются как потенциально опасные. Таким образом, переоценивается и преувеличивается выраженность отрицательных факторов и начинается поиск подтверждения своих опасений. Законодательные акты, льготы, компенсации, с одной стороны, становятся крайне желанными, с другой – воспринимаются в качестве доказательства силы и фатальности вреда для жизни и здоровья.
Фактически после возвращения из Чернобыля ликвидаторы стали подвергаться действию целого ряда вторичных стрессогенных факторов: «информационной агрессии» (негативное влияние средств массовой информации); постепенному ухудшению здоровья, которое по механизму формирования постстрессовых состояний субъективно связывалось с участием в ликвидационных работах; переживанию угрозы развития лучевой болезни; повышению тревожности в связи с переоценкой возможностей возникновения аварийных ситуаций и значения их последствий. Формирующийся психологический кризис сопровождается не только искажением образов окружающего мира, но и нарушением самоидентификации и искажением большинства социальных ролей. Пациент не может реально оценить свои возможности, степень реально полученного вреда здоровью и степень опасности ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем.
Существуют общие для этих двух групп пациентов факторы стресса. В обоих случаях пациенты испытывали переживания, характерные для участников травмирующих событий, к которым относятся ситуации, когда личность находится (или находилась) под воздействием потенциально вредоносных и смертельно опасных для организма факторов. Для ликвидаторов радиационной аварии фактор витальной угрозы был «невидим», для участников антитеррори-стических военных действий также размыт и труднодифференцирован (трудность разделения по критериям «свой – чужой»). Участники травматических событий в обеих группах находились длительное время (несколько месяцев) в такой обстановке, что приводит к включению механизма кумулятивного действия стресса.
Различие заключается в том, что у ликвидаторов преобладает невидимый, неосязаемый, неподдающийся оценке по силе и продолжительности во времени характер травматического стресса. У ликвидаторов психогенные факторы всегда сочетаются с массивными психоорганическими и соматогенными факторами. У комбатантов, даже в условиях труднодифференцированной интенсивной витальной угрозы, сохранялись временные и пространственные характеристики данного стресса; отмечалась четкая регламентация действий в боевой психотравмирующей обстановке и жесткая регламентация социальных ролей. Признание и поощрение со сторону государства и общества, высокая самооценка пациентов, идентификация себя с образом защитника, спасителя, героя и достаточно быстрое включение реабилитационных и психопрофилактических мероприятий, а также понимание прекращения действия витальной угрозы способствовали укреплению саногенных ресурсов индивида. Важный фактор – подавляющее большинство комбатантов имели профессиональную подготовку (офицерский состав), и участие их в боевых действиях было добровольным; были пациенты, для которых командировки в Чечню были (по материальным соображениям) более предпочтительны обычным условиям службы и которые были намерены продолжать военную карьеру (роль мотивации). Участники ликвидации радиационной катастрофы были в основном мобилизованы через военкоматы (т. е. недобровольно), психологически и профессионально к работе с радиацией подготовки не имели; реабилитационные и профилактические меры систематического характера начали осуществляться через 5—6 лет после аварии; и в последующем социальная активность самих пациентов была направлена преимущественно не на профессиональную деятельность и превентивные меры, а на отстаивание статуса пострадавших от радиации. Профессионально подготовленные ликвидаторы отличаются меньшей выраженностью психических расстройств и более своевременно организованной профилактической и реабилитационной помощью.
Заключение. Данные группы можно рассматривать как схожие, но находящиеся на разных этапах формирования посттравматических расстройств. Группа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС иллюстрирует позднюю фазу адаптации личности к последствиям длительного стресса при условии, что психологическая помощь не была оказана в первый год после переживания травмы, действие самой травмы усугубляется рядом отягощающих со-матоорганических и социально-психологических факторов. Группу участников боевых действий можно рассматривать как находящуюся на ранних этапах формирования ПТСР, когда адекватная психологическая помощь позволяет личности адаптироваться и ассимилировать травматическое событие в изменившуюся картину мира. Наблюдение за пациентами данных групп и оказание им лечебно-профилактической помощи позволит более детально изучить особенности травматического стресса и повысить качество реабилитационных и превентивных мероприятий.