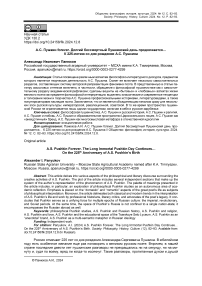А.С. Пушкин forever. Долгий бессмертный пушкинский день продолжается... К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина
Автор: Панюков Александр Иванович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена различным аспектам философско-литературного дискурса, предметом которого является творческая деятельность А.С. Пушкина. Сюжет ее включает несколько самостоятельных разделов, составляющих систему авторской репрезентации феномена поэта. В представленную в статье палитру смысловых оттенков включено, в частности, обращение к философской пушкинистике как к самостоятельному разделу академической рефлексии; сделаны акценты на «бытовых» и «любовных» аспектах жизни великого поэта как предмете философской интерпретации; выделены классические и современные тенденции в толковании жизни и творчества А.С. Пушкина профессиональными историками, литературоведами, а также популяризаторами наследия поэта. Заключается, что он является объединяющим началом сразу для нескольких эпох русской культуры: императорской, революционной, советской. В то же время пространство пушкинской России не ограничивается лишь одним государством, включая в себя и русское зарубежье.
Философская пушкинистика, а.с. пушкин и русская история, а.с. пушкин и религия, а.с. пушкин и любовь, а.с. пушкин и образовательное пространство царскосельского лицея, а.с. пушкин как «анекдотичный» бренд, а.с. пушкин как многосмысловая метафора в отечественной идеологии
Короткий адрес: https://sciup.org/149147100
IDR: 149147100 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.8
Текст научной статьи А.С. Пушкин forever. Долгий бессмертный пушкинский день продолжается... К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина
поэта, – словно постоянно открытое общероссийское пушкинское собрание, на которое приглашены все желающие. «Прошивающие» русский менталитет, они важны для всех русских людей и для каждого в отдельности. Как верно подметил А.Л. Александров, истина заключается в том, что, по сути, в России каждый второй – пушкинист (Александров, 2003).
Философская пушкинистика: три направления . Как утверждал Ф.М. Достоевский, «философия есть та же поэзия, только высший градус ее!..»1. Русская философия выступает содержанием, а русская поэзия – актуальной формой национального самосознания. Высшим же «градусом» его является «метафизика пушкинского творчества» (Булгаков, 1999 б: 296). А.С. Пушкин как явление стал предметом специального раздела социальной философии, в рамках которого сформировалась особая научная дисциплина – философская пушкинистика. На сегодняшний день она объединяет три основных направления. Первое из них, по определению М.О. Гершензона, занимается анализом «философского смысла» творчества А.С. Пушкина (Гершензон, 1999). Второе, после известной статьи В.С. Соловьева «Судьба Пушкина» (1897), рассматривает жизнь поэта как собственный философский проект: «Он сообразно своей воле окончил свое земное поприще» (Соловьев, 1999: 17). Третье направление занимается выявлением историографических особенностей самой пушкинистики.
В нашей статье предпринята попытка обсудить основные темы современной философской науки о поэте без строгого следования сложившимся исследовательским традициям. В качестве рабочих аргументов мы используем цитаты из произведений мыслителей, историков, публицистов разных философских школ, идеологических направлений и сюжеты из поэтических текстов как самого А.С. Пушкина, так и его коллег-поэтов.
А.С. Пушкин: «барометр» русской истории . А.С. Пушкин - «барометр» русской истории. Г.Г. Шпет высказал мысль, что вся наша история определяется отношением к А.С. Пушкину (Шпет, 1989: 263). Отношение к поэту в истории России постоянно менялось и продолжает меняться. А.С. Пушкин всегда разный. Он постоянно иной. Непривычный. Наше восприятие поэта зависит от движения и поворотов русской истории. Открытие в 1880 г. памятника А.С. Пушкину и знаменитая речь Ф.М. Достоевского, пушкинские мероприятия 1937 г. и февральско-мартовский Пленум ЦК ВКП (б), юбилей А.С. Пушкина в 1949 г. и празднование семидесятилетия И.В. Сталина, двухсотлетие поэта и начало нового тысячелетия… Смыслообразующие события современной русской истории так или иначе напрямую связаны с посмертной жизнью А.С. Пушкина. Историю России последнего столетия можно изучать по обложкам его сочинений, к примеру, «Евгения Онегина». Исследование подобного рода предприняла Наталья Борисенко, написав книгу о филателистической летописи пушкинской марки (Борисенко, 2024).
Весь ХХ в. шла неустанная философская работа по созданию актуального образа современной России. Культурная оппозиция пушкинского и достоевского ее понимания – важнейшая тема русской философии прошлого века. Россия А.С. Пушкина – это любовь и радость земной жизни (родина, дом, семья, дети). Россия Ф.М. Достоевского – это ощущение и величие духа, надежда на предвечную жизнь (грех, страдание, исповедь, искупление).
Русские философы, поэты и писатели поддержали А.С. Пушкина. Выдающийся психиатр В.Ф. Чиж считал поэта идеалом душевного здоровья2. Андрей Платонов однажды заметил: «Особенно далеко отошел от Пушкина и впал в мучительное заблуждение Достоевский» (Платонов, 2011: 82). И.М. Нусинов писал, что Ф.М. Достоевский «лишь исказил и унизил Пушкина» (Нусинов, 1941: 382). А.М. Горький говорил: «Я предпочел бы, чтобы культурный мир объединился не Достоевским, а Пушкиным, ибо колоссальный и универсальный талант Пушкина – талант психически здоровый и оздоровляющий» (Горький, 1953: 409). Пока в российском рейтинге поэт явно первый. Он локомотив не только русской литературы, но и истории, «начало очевидности и радости в русской истории», – подчеркивал И.А. Ильин (Ильин, 1999: 350). Русская история всегда стремилась и сегодня стремится к вечному идеалу пушкинской России.
В четвертой статье об А.С. Пушкине (1855) Н.Г. Чернышевский сформулировал основополагающий методологический тезис изучения его жизни: она «есть лучший комментарий на его творения», а творения поэта – «лучшее оправдание его жизни» (Чернышевский, 2018: 165–166). Жизнь А.С. Пушкина и его творчество полностью подтверждают мысль критика. Сам поэт в письме П.А. Вяземскому называл судьбу «огромной обезьяной, которой дана полная воля» и которая «не перестает с тобою проказить»3.
Два человека сыграли исключительную роль в жизни А.С. Пушкина: в земной – царь Николай I; в посмертной – писатель Ф.М. Достоевский. 08 сентября 1826 г. монарх пожал руку А.С. Пушкину, 08 июля 1880 г. Ф.М. Достоевский произнес знаменитую пушкинскую речь. Федор Михайлович первым заявил о великой пушкинской тайне, которую должна раскрыть русская история. Когда-то не в меру популярный и скандальный шоумен, повторяя слова Ф.М. Достоевского, пропел: «Ах, Александр Сергеевич, милый, ну что же вы ничего не сказали…, что в последнюю осень вы знали»1.
А.С. Пушкин: коммерсант, «комнатный дворянин» и поэт Сле-Пушкин . А.С. Пушкин всегда «наш» или даже «мой». «Пушкин, ты мой», – сказал царь в 1826 г. «Мой Пушкин», – написала Марина Цветаева в 1937 г.2 «Мой Пушкин», – повторила за ней уже в 2024 г. блогер Дарья Шорох. У каждого он – свой, и всегда рядом. Он почти родственник. Иногда в жизни русского человека наступает такой момент, когда он начинает понимать или хотя бы смутно подозревать, что главное в его жизни – А.С. Пушкин. И не важно, кто он, этот русский человек, и где он сейчас находится: в доме для престарелых в Иере, на юге Франции или в селе Михайловском, рядом с могилой поэта.
Георгий Иванов в иерейском дневнике 1958 г. сделал следующую стихотворную запись: «Александр Сергеевич, я о вас скучаю // С вами посидеть бы, с вами б выпить чаю. // Вы бы говорили, я б, развесив уши, // Слушал бы да слушал …»3.
Валентин Курбатов в книге «Пушкин на каждый день» писал о пушкинском счастье русского человека как о мечте жить и умереть в соседстве с селом Михайловским (Курбатов, 2022).
Замечательный артист Сергей Безруков в текущем году проводит проект «Пушкин и Михайловское».
Сегодня профессиональная пушкинистика практически без боя уступила место любителям и ценителям творчества поэта. Все они без исключения стремятся непременно публиковать свои сочинения, употребляя все возможные средства. Объем этих произведений увеличивается ежегодно в два раза. Для пушкинистов-любителей нет запретных тем. Недавно издательство «Проспект» выпустило прекрасную книгу «Евгений Онегин» с новейшими комментариями юриста по образованию Л.В. Рожникова4. И это после классических комментариев В.В. Набокова, Н.Л. Бродского, Ю.М. Лотмана и путеводителя Г.Г. Красухина! Пушкиниана продолжается.
К.А. Полевой говорил: «О Пушкине любопытны все подробности»5. А.С. Пушкин многолик. Он в прямом смысле этого слова первый в России коммерческий человек с публичной биографией. Его жизнь и привычки интересны обывателю. А.С. Пушкин торгует стихами и пишет гусиным пером. Оно, в отличие от стального, скрипит. Это вдохновляет поэта. Гусиное перо становится брендом и модным товаром пушкинской эпохи. Поэт всегда популярен. Он понимает свою уникальность, но с иронией относится к популярности. Вот что пишет он в письме Н.Н. Гончаровой: «Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних деревнях? Вот как описывают мои занятия: как Пушкин стихи пишет – перед ним стоит штоф славнейшей настойки – он хлоп стакан, другой, третий – и уже начнет писать! – Это слава. Что касается до тебя, то слава о твоей красоте достигла до нашей попадьи, которая уверяет, что ты всем взяла, не только лицом, да и фигурой…»6.
Отношения с царем, многочисленные кутежи, скандалы, дуэли, сватовство и женитьба поэта широко обсуждались и продолжают обсуждаться в России. В момент личного знакомства Николаю I было 29 лет, А.С. Пушкину – 27. Молодые люди – почти ровесники, но дружба между ними как-то не случилась. Царь неделикатно вмешался в частную жизнь А.С. Пушкина, «наградив» его «титулом» комнатного дворянина. Он глубоко оскорбил и унизил поэта камер-юнкерским мундиром, который, кстати, тот купил с чужого плеча. Единственное возможное звание А.С. Пушкина – быть самим А.С. Пушкиным. Царь произвел себя в личные его цензоры и еще раз показал поэту его место в империи. Неизвестно, писал ли сам Николай Павлович стихи и понимал ли вообще в поэзии. Но лучшим имперским поэтом он назначил стихотворца с говорящей фамилией – Ф.Н. Слепушкин. Иронизируя по поводу «Сле-Пушкина», «полный» Пушкин, как он себя называл, писал П.А. Плетневу: «Сле-Пушкину дают и кафтан, и часы, и полумедаль, а Пушкину шиш»7. Отношения А.С. Пушкина и «Сле-Пушкина» подробно исследовал А.М. Горький в «Истории русской литературы» (Горький, 1939: 106).
Не все были огорчены и гибелью А.С. Пушкина. Фаддей Булгарин, а они с поэтом не скрывали взаимную неприязнь, заметил в одном из своих писем, что поэта, как жертву, и великую, ему жаль, но человек, по его мнению, он был дрянной: «Корчил Байрона, а пропал, как заяц»8.
Имперская власть еще хоть как-то пыталась поддерживать диалог с А.С. Пушкиным. Царь в минуты ласки называл его «Саша». Генерал А.Х. Бенкендорф состоял в постоянной переписке с поэтом и пытался отечески учить его уму-разуму. Управляющий третьим отделением1 М. Я. фон Фок предлагал А.С. Пушкину штатную работу в нем. Церковная же власть ни под каким предлогом не считала нужным разговаривать с поэтом, хотя, возможно, А.С. Пушкин нуждался в духовном врачевании, дружеской опеке и психологической поддержке. Находясь в «душевном смятении», он читал Библию.
А.С. Пушкин: Библия, Лира и евангельский бес . Историческая встреча прп. Серафима Саровского и А.С. Пушкина, вероятно, могла состояться, но «Пушкин прошел мимо преп. Серафима, его не приметя», – писал прот. Сергей Булгаков в эссе «Жребий Пушкина» (Булгаков, 1999 а: 276). А.С. Пушкин и прп. Серафим жили в России, были современниками, но не знали друг друга и не говорили друг с другом. Прот. Сергей Булгаков удивлялся: как мог поэт «не слыхать о преподобном Серафиме? Своем великом современнике? Как не встретились два солнца России? (Булгаков, 1999 а: 276). Изменилась бы русская история, если бы прп. Серафим и русский гений встретились – над этим вопросом усердно размышлял другой великий русский философ – Н.А. Бердяев (Бердяев, 2022).
Дидактические увещевания А.С. Пушкина московским митрополитом свт. Филаретом (Дроздовым), которого поэт называл «старый лукавец»2, их поэтический диалог 1828 г. и, возможно, личная встреча в 1830 г. не были успешными. Вместе с тем исследователи отмечают интерес А.С. Пушкина к свт. Филарету. В частности, находят «перекличку ряда фрагментов “Пира во время чумы” с речами свт. Филарета, произнесенными в Москве во время эпидемии холеры 1830 г.»3.
Уже в наше время известный изограф, лауреат Государственной премии России иеромонах Зинон (Теодор) создал миниатюру «Святитель Филарет и Пушкин», которая известна в массовой культуре как «икона с Пушкиным». В руках у поэта – Лира, у святителя – Библия.
Георгий Павленко в книге «Тропа Пушкина» утверждает: «Пушкин не икона» (Павленко, 2023: 65). Представляется, что он все же не прав. Прав Зинон (Теодор), и «Пушкин – русская икона».
Иерархи церкви не смогли стать для поэта православными врачевателями. Они обижались на А.С. Пушкина, жаловались на него и грозили ему. А поэт уповал на Бога. «Одна надежда, – писал он, – на Бога да на тетку»4. Он признавался Денису Давыдову «Я стал умен, я лицемерю // Пощусь, молюсь и твердо верю, // Что бог простит мои грехи // Как государь мои стихи»5. По соизволению царя как главы церкви дуэлянт А.С. Пушкин был погребен по православному обычаю.
В основе христианского понимания жизни поэта лежит новозаветная история блудного сына (Евангелие от Луки, гл. 15, стих 11–32). Традиция актуального сопоставления жизненного пути А.С. Пушкина с евангельской историей блудного сына появилась уже после смерти поэта. Она была популярна в Русской православной церкви как в России (РПЦ), так и за границей (РПЦЗ). Достаточно напомнить читателю произнесенную 29 января 1887 г. «Беседу преосвященного Никанора (Бровковича), архиепископа Херсонского и Одесского в неделю блудного сына при поминании раба божия Александра (поэта Пушкина), по истечении пятидесятилетия по смерти его»6 и очерк митрополита Анастасия (Грибанова) «Пушкин в его отношении к религии и православной церкви»7, который был опубликован в годовщину столетия смерти поэта. Архиепископ Никанор так небрежно отозвался об А.С. Пушкине: «родился христианином, жил полухристианином, полуязычником, умер христианином»8. Возможно, архиепископ Никанор также, как и автор «Мелкого беса» Федор Сологуб, считал, что руководителем судьбы А.С. Пушкина был «опасный и сильный» бес, который по-свойски величался Савельич9, и по его наущению А.С. Пушкин «берет урок чистого афеизма» у другого знакомого беса – «глухого философа» и «умного афея»10.
Архиепископ Никанор восклицал: «Грехи в одиночку по миру не ходят, но один поведет с собою и другие. Поклонение Киприде не могло не вести за собою поклонение и Вакху и всем языческим божествам»1. Он был прав!
Церковь была недовольна поэтом. По меткому замечанию А.А. Ахматовой, «обвинения в атеизме были привычным аккомпанементом» в жизни Пушкина2. Недовольны А.С. Пушкиным были и профессиональные атеисты. Председатель Центрального совета Союза воинствующих безбожников Емельян Ярославский в брошюре «Атеизм Пушкина» (1937) сокрушался, что А.С. Пушкин «не успел разработать многочисленные наброски антирелигиозных мотивов» (Ярославский, 1937). Похоже, истину подметил поэт серебряного века В.В. Гиппиус: «Пушкин остался как у дверей религии, так и у дверей атеизма» (Гиппиус, 1915: 40). Для уточнения пушкинского отношения к религии читателю было бы неплохо прочитать брошюру Б.М. Марьянова «Крушение легенды» (1985), статью академика А.М. Панченко «Пушкин и русское православие» (1990) и статью публициста Ф.А. Раскольникова «Пушкин и религия» (2004). Есть и более новые публикации.
А.С. Пушкин давно умер, но живой, неумеренный и неуместный интерес публики к своей частной жизни он спровоцировал сам. И, конечно, не только творчеством – стихами, поэмами и эпиграммами, но и романами – как на бумаге, так и в жизни, и кутежами, и дуэлями… Его частная жизнь до сих пор волнует и обывателей, и специалистов. Лучше всех о себе и о своей жизни сказал сам поэт: «Сущий бес в проказах, // Сущая обезьяна лицом, // Много, слишком много ветрености – // Вот каков Пушкин»3.
А.С. Пушкин: «похабник», «бабник» и «косая и рыжая Мадонна» . Уже в наше время один из пользователей Интернета написал такие «проникновенные» строки: «Пушкин был бабник, похабник и матерщинник, наверное, в силу того, что его предки сидели на ветке в Африке, а туда, как известно, детям до 16 лет ходить не рекомендуется». При жизни А.С. Пушкина в 1831 г. была напечатана мелодрама, сюжетом которой стала перелицованная история любви поэта к Н.Н. Гончаровой. Некто Федор Фоминский сочинил фривольный текст под зубодробительным названием «Неведомые Теодор и Розалия, или Высочайшее наслаждение в браке. Нравоучительный роман, взятый из истинного происшествия»4, в котором «истинное происшествие» – это любовь поэта. Сам А.С. Пушкин в романе был обрисован «Неведомым Теодором», а его жена – «Неведомой Розалией». Роман не имел никакого литературного значения, но публика читала взахлеб. Автор прославился. Восторг был всеобщим. Естественно, А.С. Пушкин обиделся. Назвал автора «дура-ком»5. Что, в целом, справедливо.
В советские годы другой писатель – лауреат Государственной премии СССР, сценарист А.Л. Александров – написал обширную книгу «Пушкин. Частная жизнь». Как сказано в аннотации, «в книге много плотского» и «подробно описан сильнейший эротизм Пушкина» (Александров, 2003).
Остается предметом постоянной дискуссии и роль Н.Н. Гончаровой в судьбе поэта. Она «Прекрасная Дама» или «Незнакомка», как у А.А. Блока, «София», как у В. С. Соловьева, или кто она…? Писатель А.Ф. Вельтман говорил А.С. Пушкину: «Пушкин, ты – поэт, а жена твоя – воплощенная поэзия»6. Что ответил Пушкин Вельтману? Если жене он посвятил единственное стихотворение – сонет «Мадонна»?!
Кажется, что история любви «золотого» поэта А.С. Пушкина была исполнена в традициях русского серебренного века. Это была встреча, как писал М.О. Гершензон, «неполноты с совершенством» (Гершензон, 1999). А.С. Пушкин полюбил сначала изображение «Бриджуотерской мадонны», выполненное или Пьетро Перуджино, или его учеником Санти Рафаэлем, а уже затем – ее земное воплощение – Наталью Николаевну Гончарову. Он писал невесте: «Часами простаиваю перед белокурой мадонной, похожей на вас, как две капли воды»7. «Бриджуотерская мадонна» и Наталья Николаевна оказались ужасно похожими друг на друга. То ли Мадонна воплотилась в Н.Н. Гончарову, то ли Н.Н. Гончарова вошла в образ Мадонны. Вся эта фантастическая история любви мужчины средних лет к юной красавице и к ее молодому телу напоминает знаменитый текст «Та ли?!»: «Звуки плыли, таяли, // Колыхалась талия…// Ты шептала “Та ли я?!” // Повторяла: “Та ли я?!”». Приятно, когда невеста – Мадонна, тем более «Бриджуотерская».
С.Н. Булгаков, ссылаясь на слова Ф.М. Достоевского, писал о «соблазнительном смешении Мадонны и Венеры под покровом красоты» (Булгаков, 1999 а, 283): «Рассыпанные кудри Гончаровой» и «тихие медовые глаза». А вот великие строки признания влюбленного поэта Н.Н. Гончаровой: «Исполнились мои желания. Творец // Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, // Чистейшей прелести чистейший образец»1.
М.М. Пришвин прав: «Первое трудное дело в жизни – это жениться счастливо, второе, еще более трудное – счастливо умереть»2. А.С. Пушкин несчастливо женился и трудно умирал. Накануне свадьбы в частном письме он писал: Натали – «моя сто тринадцатая любовь»3. Н.Н. Гончарова была из семьи несостоятельной и незнатной. Она бесприданница. В год свадьбы невесте – 19 лет, жениху – 31. Он некрасив и чем-то похож на одного из героев фэнтези. Жених мал ростом: всего 166,7 сантиметра, «правда, – как замечает пушкинист Вадим Старк, – с учетом каблуков» (Старк, 2010: 186). Возможно, Наталья Гончарова была единственной «контактной» женщиной А.С. Пушкина, которую он просто купил. Все остальные пушкинские истории и романы – влюбленность поэта и ночные фантазии одинокого и стареющего мужчины. Перед свадьбой уже разочарованный жених писал Е.М. Хитрово: «Я женюсь на косой и рыжей мадонне»4. Мадонна сочиняла стихи, но поэт отказывался их читать. Она хотела быть примой царских потех, а он писал ей из Болдина на второй год брака «Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе з------; есть чему радоваться!»5.
Но она умела нравиться, и ее красота, постепенно приобретавшая знойные, роковые оттенки, начинала проступать, оттеняясь талантом мужа-поэта. «На этот роскошно распускающийся цвет, – пишет известный церковный публицист А.В. Ведерников, – окруженный славой мужа, налетел целый ряд шмелей, пробавляющихся чужим медом, произведя несносное для уха и сердца мужа жужжание» (Ведерников, 2014: 381). Даже такие разумные и вполне рациональные люди, как поэт В.А. Жуковский и князь П.А. Вяземский, были «огончарованы» женой А.С. Пушкина. В.А. Жуковский в письме А.И. Тургеневу в июле 1831 г. сокрушался: «У меня слюни текут, глядя на жену его…»6. Наконец все сошлось к тому, что эта женщина «позже стала причиной его гибели». «Мещанская трагедия, – подвела итог Марина Цветаева, – обрела величие мифа»7. Один из самых жестких обличителей Н.Н. Гончаровой-Ланской, поэт Борис Садовский, взял на себя сомнительную роль ответить на пушкинский сонет «Мадонна» исповедальными словами Натальи Николаевны: «С рожденья предал // Меня Господь // Души мне не дал, // А только плоть // Певец влюбленный // Сошел ко мне // И, опаленный, // Упал в огне»8.
Всякий обыватель знает, что А.С. Пушкин любил жену, но семейное счастье поэта оказалось неполным, непрочным и временным. «Жена, – писал грустно поэт, – …род теплой шапки с ушами»9. Было бы неплохо, если бы А.С. Пушкин женился на девушке из Нагасаки или хотя бы на академике Щеголеве, а не на Наталье Гончаровой, как заметила А.А. Ахматова10.
А.С. Пушкин: дворянин и писатель с приличным образованием. За всю историю русской классической литературы дворянин А.С. Пушкин – один из самых образованных писателей. В 1817 г. он окончил закрытое, привилегированное высшее учебное заведение и получил «Свидетельство об окончании Императорского лицея», который готовил специалистов в сфере государственно-муниципального управления и дипломатической службы. Это учебное заведение окончил еще один классик – М.Е. Салтыков-Щедрин, который дослужился до вице-губернатора. Царь лично утверждал список студентов-лицеистов. Это были «золотые мальчики» или, как бы сказали сегодня, – мажоры. Учебный план обучения был рассчитан на шесть лет. Преподавание шло на французском языке. Курс философии в учебном плане отсутствовал. Что в целом было верно. Но профессора А.И. Галич, А.П. Куницын и младший брат великого французского революционера Марата Давид Иванович де Будри, который тоже был имперским профессором, воспитали лицеистов практически профессиональными философами. К примеру, граф Л.Н. Толстой покинул восточный факультет Казанского университета на втором курсе. Граф получил учебное задание написать реферат по философии. Ушел писать. И больше в университет не вернулся. Хотя, в отличие от А.С. Пушкина, у Льва Николаевича есть специальные философские произведения, которые он создал уже взрослым человеком. Ходят слухи, что граф был хороший писатель и плохой философ.
А.С. Пушкин: анекдотический бренд . Что же до А.С. Пушкина, то его образ уже при жизни – стереотип обыденного сознания. А.С. Пушкина знают все. Он человек-анекдот. Н.В. Гоголь первым стал внедрять его образ в обыденное сознание русского человека. Помните знаменитого И.А. Хлестакова? Иван Александрович, будучи интимным другом А.С. Пушкина, сообщает публике: «Бывало, часто говорю ему: “Ну что, брат Пушкин?” – “Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то все”»1. От репризы Н.В. Гоголя до анекдотов Даниила Хармса – практически один шаг. Вот что рассказывает в своих «Анекдотах о Пушкине» Даниил Хармс: «У Пушкина было четыре сына и все – идиоты. Один не умел даже сидеть на стуле и все время падал. Пушкин-то и сам довольно плохо сидел на стуле. Бывало, сплошная умора: сидят они за столом, на одном конце Пушкин все время падает со стула, а на другом конце – его сын. Просто хоть святых вон выноси»2.
А.С. Пушкин начинает «желтеть» еще в ХIХ в. В знаменитом ресторане «Яр» в специальной «Пушкинской» комнате предлагали картофель «Пушкин» а на десерт подавали мороженое «Пушкин». Но особенно стремительно его образ «желтеет» сегодня. Имя «Пушкин» начинает самостоятельное существование и приобретает черты бренда массовой культуры. В Москве работает ресторан «Пушкин», в Кызыле – Пушкинская баня, в Коломне выпускают пушкинскую пастилу ручной работы «Гениальный чаевник», в издательстве «Махаон» вышел «Евгений Онегин» в стиле манги. В книге Елены Первушиной «За столом с Пушкиным» можно прочитать «чем угощали великого поэта», какие блюда любил и о каких рассказывал в письмах. Книга снабжена кулинарными рецептами3. Михаил Визель написал книгу о болдинском карантине 1830 г. и самоизоляции 2020 г.4 Врач-терапевт и поэт из деревни Чалкино Курганской области А.П. Климай сочинил и опубликовал продолжение романа в стихах «Евгения Онегина»5. Текст продолжения начинается словами «Не мысля гения обставить» ... Филипп Киркоров в образе А.С. Пушкина спел хит «Милая моя»6. И наконец, радуют последние известия из Института русского языка им. А.С. Пушкина. Беговой клуб института в юбилейном году в свои ряды собирал студентов в стиле шантажа-иронии, достойной пушкинского пера: «Бегать за тебя Пушкин не будет!»7. В общем, А.С. Пушкин всюду и всегда с нами.
А.С. Пушкин: русская душа, русское слово и язык русской философии . Западный мир не знает или плохо знает великого русского поэта. К сожалению, усилия И.С. Тургенева в ХIХ в. и В.В. Набокова в ХХ в. познакомить Запад с А.С. Пушкиным не дали желаемых результатов. У Зигмунда Фрейда нет специальных работ, посвященных поэту. Ирвинг Стоун, Стефан Цвейг и Андре Моруа не обратили внимание на его биографию. А.С. Пушкин не стал полномочным представителем России на Западе. Эту задачу успешно решают его последователи – классики мирового уровня Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и А.П. Чехов.
Замечательно, что восторженными почитателями А.С. Пушкина оказались европейские философы. И.В. Гете передает посетившему его В.А. Жуковскому подарок для А.С. Пушкина – свое перо, которым он только что писал. Карл Август Фарнгаген фон Энзе задолго до знаменитых статей В.Г. Белинского, в журнале, основанном еще Г. Гегелем, опубликовал статью о А.С. Пушкине как о «поэте всего человечества». Переводчик статьи М.Н. Катков подчеркнул, что это был «голос самого Гегеля», обращенный к поэту, – его слова приводит в своем исследовании О.А. Хвостова (Хвостова, 2015). Фридрих Ницше, вдохновленный поэзией А.С. Пушкина, пишет музыку на его стихи. Альберт Камю играет в «Каменном госте». Мартин Хайдеггер в лекционном курсе 1940 г. говорит о «значении Пушкина для России», он называет его «глубоко прозорливым и гениальным умом» с «чисто русским сердцем» (Хайдеггер, 1993: 63).
Нельзя сказать, что до пушкинской речи Ф.М. Достоевского1 Россия была равнодушна к поэту. Уже его современники понимали уникальную ценность его жизни и творчества. Н.В. Гоголь в 1832 г. в статье «Несколько слов о Пушкине» фактически определил направления его изучения2. Основы философской пушкинистики заложил тот же М.Н. Катков. Он размышлял о А.С. Пушкине как о великом исследователе «тайников русской души». Речь шла об изучении именно русской души, а не абстрактной души в целом. А.С. Пушкин оказался первым в России, кто профессионально стал изучать именно ее. Он вплотную подошел к осознанию русской идеи. «Глубока душа русская! Нужна гигантская мощь, чтобы исследовать ее. Пушкин исследовал ее и победоносно вышел из нее …», – писал М.Н. Катков в 1838 г.3
Итог «пушкинистских» рассуждений подвел Аполлон Григорьев: «А Пушкин – наше все: Пушкин – представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами», – высек он золотые слова. Формула А.А. Григорьева оказалась вечной (Григорьев, 1990: 56–57).
Отечественные философы считают А.С. Пушкина создателем профессионального языка. Сам поэт писал в 1825 г., что «русский метафизический язык находится у нас еще в диком состо-янии»4. Благодаря поэту русская философия обрела дар родного слова. И.С. Шмелев говорил: «Пушкин нам дал язык»5. И это не фигура речи писателя или метафора философа. За четыре года до первого пушкинского печатного произведения дядя поэта и тоже поэт В.Л. Пушкин сокрушался «Славянские слова таланта не дают // И на Парнас они поэта не ведут»6. Племянник превзошел дядю: он оказался великим создателем как языка современной русской литературы, так и языка современной русской философии.
Г.Г. Шпет писал, что А.С. Пушкиным «были брошены первые лучи рефлексии» (Шпет, 1989: 46). До него в России «читателя не было. Но – что, может быть, было еще важнее – языка не было» (Шпет, 1989: 39).
В допушкинской России господствовали французский ум, французский язык и французская литература. В определенном смысле – французский стиль жизни. Кн. П. А. Вяземский, который дослужился до старшего виночерпия Двора Его Императорского Величества, писал в «Автобиографическом введении» (1878), что отец его был «русским представителем французской обра-зованности»7. В «Пиковой даме» старая графиня спрашивает: «А разве есть русские романы?»8. Татьяна Ларина в знаменитом письме объясняется Евгению Онегину на французском языке9. Юнна Мориц так поэтически выразила языковую ситуацию в России в начале ХIХ в.: «Татьяна, русская душою, владела русским кое-как // Читать французские романы для русской барышни пустяк… Ее знобило не на русском, а на французском сквозняке…»10. Да и сам Александр Сергеевич какое-то время с трудом изъяснялся на родном языке и писал французские тексты. «Стоит, по странности случая, заметить то, – иронизировал Н.Г. Чернышевский, – что русскому языку учил молодого А.С. Пушкина немец, фамилия которого была – Шиллер. В самом деле, довольно забавно, что величайшего из русских поэтов родному его языку учил иностранец, и еще забавнее, что этому иностранцу случилось быть однофамильцем гениального немецкого поэта» (Чернышевский, 2018: 203).
Французский язык для российских дворян пушкинской эпохи был прежде всего языком бытового и повседневного общения. Ф.И. Тютчев разговаривал с окружающими на французском языке, стихи писал – на русском. Для него они были просто русским «сквозняком».
Французский язык объединил русских дворян в единую и закрытую культурную корпорацию. В ней были только свои. Когда П.Я. Чаадаев в журнале «Телескоп» напечатал русский перевод своего первого «Философического письма», он прежде всего нарушил правила дворянской корпорации и вышел за ее пределы. Французский вариант письма интересовал небольшую группу дворянских интеллектуалов. В обсуждении рукописи деятельное участие принимали друзья П.Я. Чаадаева, в том числе А.С. Пушкин. После русской публикации мысли и идеи «Философического письма» стали предметом всеобщего обсуждения. Царь совершенно справедливо заподозрил П.Я. Чаадаева в безумии. По мнению Его Императорского Величества, приличный дворянин не мог посвящать всех и каждого в дворянские мысли1. Это было завершением пушкинской эпохи. Наступали другие времена: дворянин Павел Иванович Чичиков и разночинец Евгений Васильевич Базаров говорят, читают и пишут уже исключительно на русском языке.
Сразу после восстания декабристов в январе 1826 г. Е.А. Баратынский обратился к А.С. Пушкину с призывом «Нам очень нужна философия»2. Речь шла о создании своей русской национальной философии. Сам поэт считал себя «скромным философом», но полагал, что «ныне каждый порыв из вещественности драгоценен для души»3. У А.С. Пушкина поэтические и прозаические произведения играют неподражаемыми философскими красками. Пушкинская поэзия становится началом современной русской философии. Ее основным инструментом является поэтическое, а в широком смысле – художественное вдохновение. Постепенно философские черты приобретает и вся, в целом, русская художественная литература. «Русская мысль, – подчеркивал Ф.М. Достоевский, – уже начала отражаться и в русской литературе…» (Достоевский, 1979: 114).
«Русская художественная литература, – писал А.С. Глинка-Волжский, – вот истинная русская философия, самобытная, блестящая философия в красках слова, сияющая радугой мыслей, облеченная в плоть и кровь живых образов художественного творчества… Пушкин и Лермонтов, Тургенев и Гончаров, Толстой и Достоевский, Успенский, Короленко, Чехов – вот это подлинная наша философия, философия в образах живого, дышащего слова» (Волжский, 2021: 4). Последующие попытки разъединить русскую поэзию и русскую философию оказались безуспешными. Ленинский проект перевести русскую философию в научно-рациональное пространство завершился пустоцветом и крахом марксизма-ленинизма. У них там на Западе – Кант и Гегель, у нас здесь в России – Толстой и Достоевский. И это равноправные единицы мировой философии. В конечном итоге мы должны признать, что русские писатели стали «самоцветными» философами и последовательными продолжателями философских традиций Сократа и Платона. Русскую философию можно определить как сократо-платоновскую традицию в мировой философии.
Известный французский философ и писатель-эссеист Андре Глюксман в знаменитой книге «Достоевский на Манхэттене» утверждает, что «литература и философия пересекаются», а философским отцом Пушкина нужно считать Платона, который в диалоге «Кратил» «определил» сократическую и в том числе и будущую «пушкинскую позицию» в философии (Глюксман, 2006: 209).
А.С. Пушкин: русский Христос и предвестник коммунизма . В советское время А.С. Пушкин выступал в двух ипостасях: официальной и народной. Новая власть завершила то, что не удалось сделать царю. Она присвоила поэта себе и недвусмысленно объяснила народу, что имперский режим жестоко преследовал А.С. Пушкина и в конечном итоге безжалостно убил его. Еще в 1924 г. Эдуард Багрицкий в стихотворении «О Пушкине» писал: «… Наемника безжалостную руку, // Наводит на поэта Николай! // Он здесь, жандарм! Он из-за хвои леса // Следит – упорно, взведены ль курки, // Глядят на узкий пистолет Дантеса // Его тупые скользкие зрачки»4. В 1937 г. комсомольский поэт Александр Безыменский в речи о А.С. Пушкине говорил: «Ты слышишь ли, // Пушкин, // команду: “Стреляй!” // Ты видишь // костров // огневую завесу? // Там в Пушкиных целит // Адольф-Николай // Руками кровавых // фашистских Дантесов»5. В целом, у коммунистических идеологов были серьезные основания считать А.С. Пушкина своим духовным предшественником. Семнадцатилетним юношей он сочинил стихотворение со взрослым содержанием. Как писал Андре Глюкс-ман «Пушкин пророчил» (Глюксман, 2006: 191): «Самовластительный злодей! // Тебя, твой трон я ненавижу, // Твою погибель, смерть детей // С жестокой радостию вижу». Текст стал «агиткой» и причиной серьезных неприятностей для поэта. Царь отправил А.С. Пушкина в ссылку. Но маховик истории, раскрученный безжалостной волей провидения, неумолимо набирал обороты. Пророчество поэта сбылось в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в Ипатьевском доме кровавым убийством царя – правда, уже Николая II, и его семьи.
Официальный советский А.С. Пушкин прошел грандиозный путь от поэта революции до поэта брежневского застоя. В начале он был провозглашен вольнодумцем и атеистом, революционером и товарищем, затем – Советским Христом и вестником коммунизма и, наконец, классиком школьной программы. Литературный критик Валерий Кирпотин написал специальную книгу «Наследие Пушкина и коммунизм» (Кирпотин, 1936).
Андрей Платонов продолжил советскую традицию «отовариществления» классиков русской литературы (Платонов, 2011). Он поставил в один ряд товарищей Стаханова, Кривоноса и товарища А.С. Пушкина. Их объединяет «общее чувство рабочего вдохновения». И повышенная, добавим, «выработка продукта». А.П. Платонов особо подчеркнул: «Сам Пушкин говорил, что без вдохновения нельзя хорошо работать ни в какой области, даже в геометрии» (Платонов, 2011: 69). Поэт Александр Безыменский пошел еще дальше: он считал А.С. Пушкина вожаком комсомольцев. Он писал: «Как знамя, несут // комсомольцы страны // Твое, // Александр Сергеевич, // имя»1. Недаром, по словам современного историка Арсения Замостьянова, А.С. Пушкин «органично вошел в советскую цивилизацию»2.
Коммунистическими идеологами были предприняты серьезные попытки объявить А.С. Пушкина духовным предшественником В.И. Ленина и найти у них общие черты гениальности. Советский библиофил Ю.П. Шарапов подсчитал, что в гимназические годы В.И. Ленин выучил наизусть 31 стихотворение А.С. Пушкина и 19 раз цитировал поэта в своих работах (Шарапов, 1977: 143, 146). В 1934 г. Кузьма Петров-Водкин написал картину «Ленин читает Пушкина».
Уместно вспомнить и гениальные строки из поэмы А.А. Вознесенского «Лонжюмо»: «Символическая черта! // У поэтов и революционеров одинаковые черепа!» // Поэтично кроить вселенную! // И за то, что он был поэт, как когда-то в Пушкина – в Ленина бил отравленный пистолет!»3.
Народную биографию советский А.С. Пушкин начинает в роли первого библейского человека – Адама. Он еще не Христос, но уже Мессия.
В 1922 г. А. В. Луначарский писал «Пушкин – русское утро. Пушкин – русский Адам»4.
В 1937 г. в СССР, Европе и США пышно и торжественно отмечали столетие со дня гибели поэта. В Советском Союзе пушкинский юбилей совпал с февральско-мартовским Пленумом ЦК ВКП(б). Партия возвращала Россию к национальной культуре. Локомотивом этого возвращения стал А.С. Пушкин. Теперь уже ему поручена роль Христа. Еще 1859 г. Аполлон Григорьев предсказывал, что Пушкин «только обмер на время» «может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет…» (Григорьев, 1990: 54). Акт «воскресения» А.С. Пушкина и всей русской культуры состоялся 10 февраля 1937 г. на многотысячном митинге в честь пушкинского юбилея у памятника поэту в Москве. А.С. Пушкин предстал русским Христом, а пушкинский юбилей можно считать Пасхой русской культуры. Русская культура через поэта постепенно от коммунистической мечты возвращается к русской идее. Советский А.С. Пушкин вернул Россию к народному православию, а «научных» атеистов – к «православному» атеизму. Поздние коммунистические идеологи любили Арину Родионовну. По их представлениям, она воспитала у А.С. Пушкина любовь к «родному пепелищу», «к отеческим гробам» и «привила» поэта русской вакциной против «французских гнусностей» Вольтера. Подобная атеистическая интерпретация полностью совпадала с церковными представлениями об антитезе «Вольтера и няни» (Ведерников, 2014: 322).
А.С. Пушкин и его поэзия – мост «над бездной», который соединил Россию дореволюционную, Россию революционную, Россию советскую и русское зарубежье в единое пространство пушкинской России.
В качестве эпилога хочется повторить слова: «На дворе стоит один долгий бессмертный пушкинский день» (Курбатов, 2022). Разговоры об А.С. Пушкине продолжаются…
Список литературы А.С. Пушкин forever. Долгий бессмертный пушкинский день продолжается... К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина
- Александров Л.А. Пушкин. Частная жизнь. М., 2003. 768 с.
- Бердяев Н.А. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. М., 2022. 448 с.
- Борисенко Н.А. Пушкинская марка. Филателистическая летопись. М., 2024. 304 с.
- Булгаков С.Н. Жребий Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М., 1999 а. С. 270-294.
- Булгаков С.Н. Моцарт и Сальери // Пушкин в русской философской критике. М., 1999 б. С. 294-302.
- Ведерников А.В. Религиозные судьбы великих людей русской национальной культуры. М., 2014. 624 с.
- Волжский (Глинка А.С.). Мистический пантеизм В.В. Розанова. М., 2021. 128 с.
- Гершензон М.О. Мудрость Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М., 1999. С. 207-244.
- Гиппиус В.В. Пушкин и христианство. Петербург, 1915. 72 с.
- Глюксман А. Достоевский на Манхэттене. Екатеринбург, 2006. 224 с.
- Горький А.М. История русской литературы. М., 1939. 340 с.
- Горький А.М. О литературе. М., 1953. 667 с.
- Григорьев А.А. Сочинения: в 2 т. М., 1990. Т. 2. 510 с.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. СПб., 1979. Т. 19. 360 с.
- Ильин И.А. Пророческое призвание Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М., 1999. С. 328-356.
- Кирпотин В.Я. Наследие Пушкина и коммунизм. М., 1936. 308 с.
- Курбатов В.Я. Пушкин на каждый день. М., 2022. 400 с.
- Марьянов Б.М. Крушение легенды. Против клерикальных фальсификаций творчества А.С. Пушкина. Л., 1985. 119 с.
- Нусинов И.М. Пушкин и мировая литература. М., 1941. 396 с.
- Павленко Г.В. Тропою Пушкина. М., 2023. 288 с.
- Панченко А.М. Пушкин и русское православие // Русская литература. 1990. № 2. C. 32-43. Платонов А.П. Фабрика литературы. М., 2011. 720 с.
- Раскольников Ф.А. Пушкин и религия // Вопросы литературы. 2004. № 3. С. 81 -112.
- Соловьев В.С. Судьба Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М., 1999. С. 15-41.
- Старк В.П. Наталья Гончарова. М., 2010. 535 с.
- Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. 447 с.
- Хвостова О.А. М.Н. Катков и К.А. Фарнгаген фон Энзе о Пушкине // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2015. Т. 15, № 3. С. 55-59. https://doi.org/10.18500/1819-7671-2015-15-3-55-59.
- Чернышевский Н.Г. А.С. Пушкин. М., 2018. 230 с.
- Шарапов Ю.П. Ленин как читатель. М., 1977. 208 с.
- Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989. 602 с. Ярославский Е.М. Атеизм Пушкина. М., 1937. 46 с.